Исаак Бабель
КОНАРМИЯ
Переход через Збруч
Начдив шесть донес о том, что Новоград-Волынск взят сегодня на рассвете. Штаб выступил из Крапивно, и наш обоз шумливым арьергардом растянулся по шоссе, идущему от Бреста до Варшавы и построенному на мужичьих костях Николаем Первым.
Поля пурпурного мака цветут вокруг нас, полуденный ветер играет в желтеющей ржи, девственная гречиха встает на горизонте, как стена дальнего монастыря. Тихая Волынь изгибается, Волынь уходит от нас в жемчужный туман березовых рощ, она вползает в цветистые пригорки и ослабевшими руками путается в зарослях хмеля. Оранжевое солнце катится по небу, как отрубленная голова, нежный свет загорается в ущельях туч, штандарты заката веют над нашими головами. Запах вчерашней крови и убитых лошадей каплет в вечернюю прохладу. Почерневший Збруч шумит и закручивает пенистые узлы своих порогов. Мосты разрушены, и мы переезжаем реку вброд. Величавая луна лежит на волнах. Лошади по спину уходят в воду, звучные потоки сочатся между сотнями лошадиных ног. Кто-то тонет и звонко порочит богородицу. Река усеяна черными квадратами телег, она полна гула, свиста и песен, гремящих поверх лунных змей и сияющих ям.
Поздней ночью приезжаем мы в Новоград. Я нахожу беременную женщину на отведенной мне квартире и двух рыжих евреев с тонкими шеями; третий спит, укрывшись с головой и приткнувшись к стене. Я нахожу развороченные шкафы в отведенной мне комнате, обрывки женских шуб на полу, человеческий кал и черепки сокровенной посуды, употребляющейся у евреев раз в году - на пасху.
Уберите, - говорю я женщине. - Как вы грязно живете, хозяева…
Два еврея снимаются с места. Они прыгают на войлочных подошвах и убирают обломки с полу, они прыгают в безмолвии, по-обезьяньи, как японцы в цирке, их шеи пухнут и вертятся. Они кладут на пол распоротую перину, и я ложусь к стенке, рядом с третьим, заснувшим евреем. Пугливая нищета смыкается над моим ложем.
Все убито тишиной, и только луна, обхватив синими руками свою круглую, блещущую, беспечную голову, бродяжит под окном.
Я разминаю затекшие ноги, я лежу на распоротой перине и засыпаю. Начдив шесть снится мне. Он гонится на тяжелом жеребце за комбригом и всаживает ему две пули в глаза. Пули пробивают голову комбрига, и оба глаза его падают наземь. «Зачем ты поворотил бригаду?» - кричит раненому Савицкий, начдив шесть, - и тут я просыпаюсь, потому что беременная женщина шарит пальцами по моему лицу.
Пане, - говорит она мне, - вы кричите со сна и вы бросаетесь. Я постелю вам в другом углу, потому что вы толкаете моего папашу…
Она поднимает с полу худые свои ноги и круглый живот и снимает одеяло с заснувшего человека. Мертвый старик лежит там, закинувшись навзничь. Глотка его вырвана, лицо разрублено пополам, синяя кровь лежите его бороде, как кусок свинца.
Пане, - говорит еврейка и встряхивает перину, - поляки резали его, и он молился им: убейте меня на черном дворе, чтобы моя дочь не видела, как я умру. Но они сделали так, как им было нужно, - он кончался в этой комнате и думал обо мне… И теперь я хочу знать, - сказала вдруг женщина с ужасной силой, - я хочу знать, где еще на всей земле вы найдете такого отца, как мой отец…
Костел в Новограде
Я отправился вчера с докладом к военкому, остановившемуся в доме бежавшего ксендза. На кухне встретила меня пани Элиза, экономка иезуита. Она дала мне янтарного чаю с бисквитами. Бисквиты ее пахли, как распятие. Лукавый сок был заключен в них и благовонная ярость Ватикана.
Рядом с домом в костеле ревели колокола, заведенные обезумевшим звонарем. Был вечер, полный июльских звезд. Пани Элиза, тряся внимательными сединами, подсыпала мне печенья, я насладился пищей иезуитов.
Старая полька называла меня «паном», у порога стояли навытяжку серые старики с окостеневшими ушами, и где-то в змеином сумраке извивалась сутана монаха. Патер бежал, но он оставил помощника - пана Ромуальда.
Гнусавый скопец с телом исполина, Ромуальд величал нас «товарищами». Желтым пальцем водил он по карте, указывая круги польского разгрома. Охваченный хриплым восторгом, пересчитывал он раны своей родины. Пусть кроткое забвение поглотит память о Ромуальде, предавшем нас без сожаления и расстрелянном мимоходом. Но в тот вечер его узкая сутана шевелилась у всех портьер, яростно мела все дороги и усмехалась всем, кто хотел пить водку. В тот вечер тень монаха кралась за мной неотступно. Он стал бы епископом - пан Ромуальд, если бы он не был шпионом.
Корреспондент газеты «Красный кавалерист» Лютов (рассказчик и лирический герой) оказывается в рядах Первой Конной армии, возглавляемой С. Буденным. Первая Конная, воюя с поляками, совершает поход по Западной Украине и Галиции. Среди конармейцев Лютов - чужак. Очкарик, интеллигент, еврей, он чувствует к себе снисходительно-насмешливое, а то и неприязненное отношение со стороны бойцов. «Ты из киндербальзамов… и очки на носу. Какой паршивенький! Шлют вас, не спросясь, а тут режут за очки», - говорит ему начдив шесть Савицкий, когда он является к нему с бумагой о прикомандировании к штабу дивизии. Здесь, на фронте, лошади, страсти, кровь, слезы и смерть. Здесь не привыкли церемониться и живут одним днем. Потешаясь над прибывшим грамотеем, казаки вышвыривают его сундучок, и Лютов жалко ползает по земле, собирая разлетевшиеся рукописи. В конце концов, он, изголодавшись, требует, чтобы хозяйка его накормила. Не дождавшись отклика, он толкает ее в грудь, берет чужую саблю и убивает шатающегося по двору гуся, а затем приказывает хозяйке изжарить его. Теперь казаки больше не насмехаются над ним, они приглашают его поесть вместе с ними. Теперь он почти как свой, и только сердце его, обагренное убийством, во сне «скрипело и текло».
Смерть Долгушова
Даже повоевав и достаточно насмотревшись на смерть, Лютов по-прежнему остается «мягкотелым» интеллигентом. Однажды он видит после боя сидящего возле дороги телефониста Долгушова. Тот смертельно ранен и просит добить его. «Патрон на меня надо стратить, - говорит он. - Наскочит шляхта - насмешку сделает». Отвернув рубашку, Долгушов показывает рану. Живот у него вырван, кишки ползут на колени и видны удары сердца. Однако Лютов не в силах совершить убийство. Он отъезжает в сторону, показав на Долгушова подскакавшему взводному Афоньке Биде. Долгушов и Афонька коротко о чем-то говорят, раненый протягивает казаку свои документы, потом Афонька стреляет Долгушову в рот. Он кипит гневом на сердобольного Лютова, так что в запале готов пристрелить и его. «Уйди! - говорит он ему, бледнея. - Убью! Жалеете вы, очкастые, нашего брата, как кошка мышку…»
Жизнеописание Павличенки, Матвея Родионыча
Лютов завидует твердости и решительности бойцов, не испытывающих, подобно ему, ложной, как ему кажется, сентиментальности. Он хочет быть своим. Он пытается понять «правду» конармейцев, в том числе и «правду» их жестокости. Вот красный генерал рассказывает о том, как он рассчитался со своим бывшим барином Никитинским, у которого до революции пас свиней. Барин приставал к его жене Насте, и вот Матвей, став красным командиром, явился к нему в имение, чтобы отомстить за обиду. Он не стреляет в него сразу, хоть тот и просит об этом, а на глазах сумасшедшей жены Никитинского топчет его час или больше и таким образом, по его словам, сполна узнает жизнь. Он говорит: «Стрельбой от человека… только отделаться можно: стрельба - это ему помилование, а себе гнусная легкость, стрельбой до души не дойдешь, где она у человека есть и как она показывается».
Соль
Конармеец Балмашев в письме в редакцию газеты описывает случай, происшедший с ним в поезде, двигавшемся на Бердичев. На одной из станций бойцы пускают к себе в теплушку женщину с грудным дитем, якобы едущую на свидание с мужем. Однако в пути Балмашев начинает сомневаться в честности этой женщины, он подходит к ней, срывает с ребенка пеленки и обнаруживает под ними «добрый пудовик соли». Балмашев произносит пламенную обвинительную речь и выбрасывает мешочницу на ходу под откос. Видя же ее оставшейся невредимой, он снимает со стенки «верный винт» и убивает женщину, смыв «этот позор с лица трудовой земли и республики».
Письмо
Мальчик Василий Курдюков пишет матери письмо, в котором просит прислать ему что-нибудь поесть и рассказывает о братьях, воюющих, как и он, за красных. Одного из них, Федора, попавшего в плен, убил папаша-белогвардеец, командир роты у Деникина, «стражник при старом режиме». Он резал сына до темноты, «говоря - шкура, красная собака, сукин сын и разно», «пока брат Федор Тимофеич не кончился». А спустя некоторое время сам папаша, пытавшийся спрятаться, перекрасив бороду, попадается в руки другого сына, Степана, и тот, услав со двора братишку Васю, в свою очередь кончает папашу.
Прищепа
У молодого кубанца Прищепы, бежавшего от белых, те в отместку убили родителей. Имущество расхитили соседи. Когда белых прогнали, Прищепа возвращается в родную станицу. Он берет телегу и идет по домам собирать свои граммофоны, жбаны для кваса и расшитые матерью полотенца. В тех хатах, где он находит вещи матери или отца, Прищепа оставляет подколотых старух, собак, повешенных над колодцем, иконы, загаженные пометом. Расставив собранные вещи по местам, он запирается в отчем доме и двое суток пьет, плачет, поет и рубит шашкой столы. На третью ночь пламя занимается над его хатой. Прищепа выводит из стойла корову и убивает ее. Затем он вскакивает на коня, бросает в огонь прядь своих волос и исчезает.
Эскадронный Трунов
Эскадронный Трунов ищет офицеров среди пленных поляков. Он вытаскивает из кучи нарочно сброшенной поляками одежды офицерскую фуражку и надевает ее на голову пленного старика, утверждающего, что он не офицер. Фуражка ему впору, и Трунов закалывает пленного. Тут же к умирающему подбирается конармеец-мародер Андрюшка Восьмилетов и стягивает с него штаны. Прихватив еще два мундира, он направляется к обозу, но возмущенный Трунов приказывает ему оставить барахло, стреляет в Андрюшку, но промахивается. Чуть позже он вместе с Восьмилетовым вступает в бой с американскими аэропланами, пытаясь сбить их из пулемета, и оба погибают в этом бою.
История одной лошади
Страсть правит в художественном мире Бабеля. Для конармейца «конь - он друг… Конь - он отец…». Начдив Савицкий отобрал у командира первого эскадрона белого жеребца, и с тех пор Хлебников жаждет мести, ждет своего часа. Когда Савицкого смещают, он пишет в штаб армии прошение о возвращении ему лошади. Получив положительную резолюцию, Хлебников отправляется к опальному Савицкому и требует отдать ему лошадь, однако бывший начдив, угрожая револьвером, решительно отказывает. Хлебников снова ищет справедливости у начштаба, но тот гонит его от себя. В результате Хлебников пишет заявление, где выражает свою обиду на Коммунистическую партию, которая не может возвратить «его кровное», и через неделю демобилизуется как инвалид, имеющий шесть ранений.
Афонька Бида
Когда у Афоньки Биды убивают любимого коня, расстроенный конармеец надолго исчезает, и только грозный ропот в деревнях указывает на злой и хищный след разбоя Афоньки, добывающего себе коня. Только когда дивизия вступает в Берестечко, появляется наконец Афонька на рослом жеребце. Вместо левого глаза на его обуглившемся лице чудовищная розовая опухоль. В нем еще не остыл жар вольницы, и он крушит все вокруг себя.
Пан Аполек
У икон Новоградского костела своя история - «история неслыханной войны между могущественным телом католической церкви, с одной стороны, и беспечным богомазом - с другой», войны, длившейся три десятилетия. Эти иконы нарисованы юродивым художником паном Аполеком, который своим искусством произвел в святые простых людей. Ему, представившему диплом об окончании мюнхенской академии и свои картины на темы Священного писания («горящий пурпур мантий, блеск смарагдовых полей и цветистые покрывала, накинутые на равнины Палестины»), новоградским ксендзом была доверена роспись нового костела. Каково удивление приглашенных ксендзом именитых граждан, когда они узнают в апостоле Павле на расписанных стенах костела хромого выкреста Янека, а в Марии Магдалине - еврейскую девушку Эльку, дочь неведомых родителей и мать многих подзаборных детей. Художник, приглашенный на место Аполека, не решается замазать Эльку и хромого Янека. Рассказчик знакомится с паном Аполеком на кухне дома сбежавшего ксендза, и тот предлагает за пятьдесят марок сделать его портрет под видом блаженного Франциска. Еще он передает ему кощунственную историю о браке Иисуса и незнатной девицы Деборы, у которой от него родился первенец.
Гедали
Лютов видит старых евреев, торгующих у желтых стен древней синагоги, и с печалью вспоминает еврейский быт, теперь полуразрушенный войной, вспоминает свое детство и деда, поглаживающего желтой бородой тома еврейского мудреца Ибн-Эзры. Проходя по базару, он видит смерть - немые замки на лотках. Он заходит в лавку древностей старого еврея Гедали, где есть все: от золоченых туфель и корабельных канатов до сломанной кастрюли и мертвой бабочки. Гедали расхаживает, потирая белые ручки, среди своих сокровищ и сетует на жестокость революции, которая грабит, стреляет и убивает. Гедали мечтает «о сладкой революции», об «Интернационале добрых людей». Рассказчик же убежденно наставляет его, что Интернационал «кушают с порохом… и приправляют лучшей кровью». Но когда он спрашивает, где можно достать еврейский коржик и еврейский стакан чаю, Гедали сокрушенно отвечает ему, что еще недавно это можно было сделать в соседней харчевне, но теперь «там не кушают, там плачут…».
Рабби
Лютову жаль этого разметанного вихрем революцией быта, с великим трудом пытающегося сохранить себя, он участвует в субботней вечерней трапезе во главе с мудрым рабби Моталэ Брацлавским, чей непокорный сын Илья «с лицом Спинозы, с могущественным лбом Спинозы» тоже здесь. Илья, как и рассказчик, воюет в Красной Армии, и вскоре ему суждено погибнуть. Рабби призывает гостя радоваться тому, что он жив, а не мертв, но Лютов с облегчением уходит на вокзал, где стоит агитпоезд Первой Конной, где его ждет сияние сотен огней, волшебный блеск радиостанции, упорный бег машин в типографии и недописанная статья в газету «Красный кавалерист».
Пересказал
(Из книги "Конармия".) В субботние кануны меня томит густая печаль воспоминаний. Когда-то в эти вечера мой дед поглаживал желтой бородой томы Ибн-Эзра. Старуха моя в кружевной наколке ворожила узловатыми пальцами над субботней свечей и сладко рыдала. Детское сердце раскачивалось в эти вечера, как кораблик на заколдованных волнах. О, истлевшие талмуды моего детства! О, густая печаль воспоминаний! Я кружу по Житомиру и ищу робкой звезды. У древней синагоги, у ее желтых и равнодушных стен старые евреи продают мел, синьку, фитили - евреи с бородами пророков, с страстными лохмотьями на впалой груди... Вот предо мною базар и смерть базара. Убита жирная душа изобилия. Немые замки висят на лотках, и гранит мостовой чист, как лысина мертвеца. Она мигает и гаснет - робкая звезда... Удача пришла ко мне позже, удача пришла перед самым заходом солнца. Лавка Гедали спряталась в наглухо закрытых торговых рядах. Диккенс, где была в этот день твоя величественная ласковая тень? Ты увидел бы в этой лавке древностей золоченые туфли и корабельные канаты, старинный компас и чучело орла, охотничий винчестер с выгравированной датой - 1810 и сломанную кастрюлю. Старый Гедали похаживает вокруг своих сокровищ в розовой пустоте вечера - маленький хозяин в дымчатых очках и в зеленом сюртуке до полу. Он потирает белые ручки, он щиплет сивую бороденку и, склонив голову, внимательно слушает невидимые голоса, слетевшиеся к нему. Эта лавка, как коробочка любознательного и важного мальчика, из которого выйдет профессор ботаники. В этой лавке есть и пуговица, и мертвая бабочка, и маленького хозяина ее зовут Гедали. Все ушли с базара, Гедали остался. И он вьется в лабиринте из глобусов, черепов и мертвых цветов, помахивая над своею коробочкой пестрой метелкой из петушиных перьев и сдувает пыль с умерших цветов. И вот - мы сидим на боченках из-под пива. - Гедали свертывает и разматывает узкую бороду. Его цилиндр покачивается над нами, как черная башенка. Теплый воздух течет мимо нас. Небо меняет цвета. Нежная кровь льется из опрокинутой бутылки там вверху и меня обволакивает легкий запах тления. - Революция - скажем ей да, но разве субботе мы скажем нет? - так начинает Гедали и обвивает меня шелковыми ремнями своих дымчатых глаз. - Да, кричу я революции, - да, кричу я ей, но она прячется от меня и высылает вперед одну только стрельбу... - В закрывшиеся глаза не входит солнце, - отвечаю я старику, - но мы распорем закрывшиеся глаза, Гедали, мы распорем их... - Поляк закрыл мне глаза, - шепчет старик чуть слышно, - поляк, злая собака. Он берет еврея и вырывает ему бороду, ах, пес. И вот его бьют, злую собаку. Это замечательно, это революция. И потом тот, который бил поляка, говорит мне: отдай на учет твой граммофон, Гедали. - Я люблю музыку, пани, - отвечаю я революции. Ты не знаешь, что ты любишь, Гедали, я - стрелять в тебя буду, и тогда ты это узнаешь, и я не могу не стрелять, Гедали, потому что я - революция... - Она не может не стрелять, Гедали, - говорю я старику, перебивая его, - потому что она революция... - Но поляк стрелял, мой ласковый пан, потому, что он контр-революция; вы стреляете потому, что вы - революция. А революция, это уже удовольствие. И удовольствие не любит в доме сирот. Хорошие дела делает хороший человек. Революция - это хорошее дело хороших людей. Но хорошие люди не убивают. Значит, революцию делают злые люди. Но поляки тоже злые люди. Кто же скажет Гедали, где революция, где контр-революция? Я учил когда-то Талмуд, я люблю комментарии Раше и песни Маймонида. И еще другие понимающие люди есть в Житомире. И вот мы все, ученые люди; мы падаем на лицо и кричим на голос: горе нам, где сладкая революция?.. Старик умолк. И мы увидели первую звезду, пробивавшуюся вдоль млечного пути. - Заходит суббота, - с важностью произнес Гедали, - евреям надо в синагогу. - Пане товарищ, - сказал он вставая, и цилиндр, как черная башенка, закачался на его голове, - привезите в Житомир немножко хороших людей. Ай, в нашем городе недостача, ай, недостача! Привезите добрых людей, и мы отдадим им все граммофоны. Мы не невежды. Интернационал - мы знаем, что такое Интернационал. И я хочу Интернационала добрых людей, я хочу, чтобы каждую душу взяли на учет и дали бы ей паек по первой категории. Вот, душа, кушай пожалуйста, имей от жизни свое удовольствие... Интернационал, пане товарищ, это вы не знаете, с чем его кушают... - Его кушают с порохом, - ответил я старику, - и приправляют лучшей кровью... И вот она взошла на свое кресло из синей тьмы, юная суббота. - Гедали, - говорю я, - сегодня пятница, и уже настал вечер. Где можно достать еврейский коржик, еврейский стакан чаю и немножко этого отставного бога в стакане чаю?.. - Нету, - отвечает мне Гедали, навешивая замок на свою коробочку, - нету. Есть рядом харчевня, и хорошие люди торговали в ней, но там уже не кушают, там плачут... И он застегнул свой зеленый сюртук на три костяные пуговицы. Он обмахал себя петушиными перьями, поплескал водицы на мягкие ладони и удалился - крохотный, одинокий, мечтательный, в черном цилиндре, и с большим молитвенником подмышкой. Заходит суббота. Гедали - основатель несбыточного Интернационала - шел в синагогу молиться. СИДОРОВ. Я снова сидел вчера в людской у панны Элизы под нагретым венцом из зеленых ветвей ели. Я сидел у теплой, живой, такой ворчливой печки и потом возвращался к себе глубокой ночью. Внизу у обрыва бесшумный Збруч катил свою стеклянную и темную волну. Душа, налитая томительным хмелем мечты, улыбалась неведомо кому, и воображение, счастливая слепая баба, клубилось впереди июльским туманом. Обгорелый город - переломленные колонны и врытые в землю крючки злых старушечьих мизинцев - он казался мне поднятым на воздух, удобным и небывалым, как сновиденье. Голый блеск луны лился на него с неиссякаемой силой. Сырая плесень развалин цвела, как мрамор оперной скамьи. И я ждал потревоженной душой выхода Ромео из-за туч, атласного Ромео, поющего о любви в то время, как за кулисами понурый электротехник держит палец на выключателе луны. Голубые дороги текли мимо меня, как струи молока, брызнувшие из многих грудей. И, возвращаясь домой, я страшился встречи с Сидоровым, моим соседом, опускавшим на меня по ночам волосатую лапу своей тоски. По счастию в эту ночь, растерзанную молоком луны, Сидоров не проронил ни слова. Обложившись книгами, он писал. На столе дымилась горбатая свеча - зловещий костер мечтателей. Я сидел в стороне, дремал, и сны прыгали вокруг меня, как котята. И только поздней ночью меня разбудил ординарец, вызвавший Сидорова в штаб. Они ушли вместе, я подбежал тогда к столу, на котором писал Сидоров, и перелистал его книги. Это были самоучитель итальянского языка, изображение римского форума и план города Рима. План был весь размечен крестиками и точками. Неясный хмель спал тогда с меня, как чешуя линяющей змеи. Я наклонился над исписанным листом и с замирающим сердцем, ломая пальцы, прочитал чужое письмо. Сидоров, тоскующий убийца, изорвал в клочья розовую вату моего воображения и потащил меня в черные коридоры здравомыслящего своего безумия. Письмо начиналось со второй страницы, но я не осмелился искать начала: "...Пробито легкое и маленько рехнулся или, как говорит Сергей, с ума слетел. Не сходить же с него в самом деле, с дурака с этого, с ума. Впрочем, хвост на бок и шутки в сторону... Обратимся к повестке дня, друг мой Виктория. "Я проделал трехмесячный махновский поход - утомительное жульничество, и ничего более. И только Волин все еще там. Волин рядится в апостольские ризы и карабкается в Ленины от анархизма. Ужасно. А батько слушает его, поглаживает пыльную проволоку своих кудрей и пропускает сквозь гнилые зубы длинную змею мужицкой своей усмешки. И я теперь не знаю, есть ли во всем этом не сорное зерно анархии и утрем ли мы вам ваши благополучные носы, самодельные цекисты из самодельного Цека made in Харьков, в самодельной столице. Ваши рубахи-парни не любят теперь вспоминать грехи анархической их юности и смеются над нами с высоты государственной мудрости, чорт с ними... "А потом я попал в Москву. Как попал я в Москву? Ребята кого-то обижали в смысле реквизиционном и ином. Я, слюнтяй, вступился. Меня расчесали - и за дело. Рана была пустяковая, но в Москве, ах, Виктория, в Москве, я онемел от несчастий. Каждый день госпитальные сиделки приносили мне крупицу каши. Взнузданные благоговением, они тащили ее на большом подносе, и я возненавидел эту ударную кашу, внеплановое снабжение и плановую Москву. В Совете встретился потом с горсточкой анархистов. Они - пижоны или полупомешанные старички. Сунулся в Кремль с планом настоящей работы. Меня погладили по головке и обещали сделать замом, если исправлюсь. Я не исправился. Что было дальше? Дальше был фронт, Конармия и солдатня, пахнущая сырой кровью и человеческим прахом. "Спасите меня, Виктория. Государственная мудрость сводит меня с ума, скука пьянит. Вы не поможете - и я издохну безо всякого плана. Кто же захочет, чтобы работник подох столь неорганизованно, не вы ведь, Виктория, моя невеста, которая никогда не будет женой. Вот и сантиментальность, ну ее к распроэтакой матери. "Теперь будем говорить дело. В армии мне скучно. Ездить верхом из-за раны я не могу, значит не могу и драться. Употребите ваше влияние, Виктория. Пусть отправят меня в Италию. Язык я изучаю, и через два месяца буду на нем говорить. В Италии земля тлеет. Многое там готово. Недостает пары выстрелов. Один из них я произведу. Там нужно отправить короля к праотцам. Это очень важно. Король у них славный дядя, он играет в популярность и снимается с ручными социалистами для воспроизведения в журналах семейного чтения. "В Цека, в Наркоминделе вы не говорите о выстрелах, о королях. Вас погладят по головке и промямлят: романтик. Скажите просто, - он болен, зол, пьян от тоски, он хочет солнца Италии и бананов. Заслужил ведь или может не заслужил? Лечиться и баста. А если нет - пусть отправят в одесское Чека. Оно толковое и очень убийственное и... "...Как глупо, как незаслуженно и глупо пишу я, друг мой Виктория. Италия, она вошла в сердце, как навождение. Мысль об этой стране, никогда не виденной, сладка мне, как имя женщины, как ваше имя, Виктория"... Я прочитал письмо и стал укладываться на моем продавленном и нечистом ложе. Но сон не шел. За стеной искренно плакала беременная еврейка, и ей отвечало стонущее бормотанье долговязого мужа. Они вспоминали об ограбленных вещах и злобствовали друг на друга за незадачливость. Потом, перед рассветом, вернулся Сидоров. На столе задыхалась догоревшая свеча. Сидоров вынул из сапога другой огарок и с необыкновенной задумчивостью придавил им оплывший фитилек. Наша комната была темна, мрачна, все дышало в ней ночной сырой вонью, и только окно, заполненное лунным огнем, сияло, как избавление. Он пришел и спрятал письмо, мой томительный сосед. Сутулясь, сел он за стол и раскрыл альбом города Рима. Пышная книга с золотым обрезом стояла перед его оливковым и невыразительным лицом. Над круглой его спиной блестели зубчатые развалины Капитолия и арена цирка, освещенная закатом. Снимок королевской семьи был заложен тут же, между большими глянцевитыми листами. На клочке бумаги, вырванном из календаря, был изображен приветливый и тщедушный король Виктор Эммануил с своей черноволосой женой и наследным принцем Умберто и с целым выводком принцесс. И вот ночь, полная далеких и тягостных звонов, квадрат света в сырой тьме и в нем мертвенное лицо Сидорова, безжизненная маска, повисшая над желтым пламенем свечи. ТИМОШЕНКО И МЕЛЬНИКОВ. Тимошенко, наш начдив, забрал когда-то у Мельникова, командира первого эскадрона, белого жеребца. Это была лошадь пышного экстерьера, но с сырыми формами, которые мне всегда казались тяжеловатыми. Мельников получил взамен вороную кобыленку неплохих кровей и с гладкой рысью. Но он держал кобыленку в черном теле и жаждал мести и ждал своего часу, и он дождался его. После июньских неудачных боев, когда Тимошенку сместили и заслали в резерв чинов командного запаса, тогда Мельников написал в штаб армии прошение о возвращении ему лошади. Начальник штаба наложил на прошение резолюцию: "возворотить изложенного жеребца в первобытное состояние" - и Мельников, ликуя, сделал сто верст для того, чтобы найти Тимошенку, жившего тогда в Радзивилове, в изувеченном городишке, похожем на оборванную салопницу. Он жил один, смещенный начдив, и лизуны из штабов не узнавали его больше. Лизуны из штабов удили жареных куриц в улыбках командарма и, холопствуя, они отвернулись от прославленного начдива. Облитый французскими духами и похожий на Петра Великого, он жил в опале, с казачкой Павлой, отбитой им у еврея интенданта, и с двадцатью кровными лошадьми, которых мы все считали его собственностью. Солнце на его дворе напрягалось и томилось слепотой своих лучей, жеребята на его дворе бурно сосали маток, конюхи с взмокшими спинами просеивали овес на выцветших веялках, и только Мельников, израненный истиной и ведомый местью, шел напрямик к забаррикадированному двору. - Личность моя вам знакомая? - спросил он у Тимошенки, который лежал на сене и посмеивался и розовел. - Видал я тебя, как будто, - ответил Тимошенко и зевнул. - Тогда получайте резолюцию начштаба, - сказал Мельников твердо, - и прошу вас, товарищ из резерва, смотреть на меня официальным глазом. - Можно, - примирительно пробормотал Тимошенко, взял бумагу и стал читать ее необыкновенно долго. Потом он позвал вдруг казачку, чесавшую себе волосы в холодку, под навесом. - Павла, - сказал он, - с утра, слава те, господи, чешемся, направила бы самоварчик. Казачка отложила гребень и, взяв в руки волосы, перебросила их за спину. - Цельный день сегодня, Константин Васильич, цепляемся, - сказала она с ленивой и победительной усмешкой, - то того вам, то другого. И она пошла к начдиву, неся грудь на высоких башмаках, грудь, измятую за ночь и шевелившуюся, как животное в мешке. - Цельный день цепляемся, - повторила женщина, сияя, и застегнула начдиву рубаху на груди. - То этого мне, а то того, - засмеялся начдив, вставая, обнял Павлины отдавшиеся плечи и обернул вдруг к Мельникову помертвевшее лицо. - Я еще живой, Мельников, - сказал он, обнимаясь с казачкой, - я еще живой, мать твою и Исуса Христа распроэтакую мать, еще ноги мои ходят, еще кони мои скачут, еще руки мои тебя достанут и пушка моя греется около моего тела. Он вынул револьвер, лежавший у него на голом животе, и подступил к командиру первого эскадрона. Тот повернулся на каблуках, шпоры его застонали, он вышел со двора, как ординарец, получивший эстафету, и снова сделал сто верст для того, чтобы найти начальника штаба, но тот прогнал от себя Мельникова. - Твое дело, командир, решенное, - сказал начальник штаба, - жеребец тебе мною возворочен, а докуки мне без тебя хватает... Он не стал слушать Мельникова и возвратил, наконец, первому эскадрону сбежавшего командира. Мельников целую неделю был в отлучке. За это время нас перегнали на стоянку в Дубенские леса. Мы разбили там палатки и жили хорошо. Мельников вернулся, я помню, в воскресенье утром, двенадцатого числа. Он потребовал у меня бумаги больше дести и чернил. Казаки обстругали ему пень, он положил на пень револьвер и бумагу и писал до вечера, перемарывая множество листов. - Чистый Карл Маркс, - сказал ему вечером военком эскадрона, - чего ты пишешь, хрен с тобой?.. - Описываю разные мысли, согласно присяге, - ответил Мельников и подал военкому заявление о выходе из коммунистической партии большевиков. "Коммунистическая партия, - было сказано в этом заявлении, - основана, полагаю, для радости и твердой правды без предела и должна также осматриваться на малых. Теперь коснусь до белого жеребца, которого я отбил у неимоверных по своей контре крестьян, имевший захудалый вид, и многие товарищи беззастенчиво надсмехались над этим видом, но я имел силы выдержать тот резкий смех и, сжав зубы, за общее дело выхолил жеребца до желаемой перемены, потому я есть, товарищи, до белых коней охотник и положил на них силы, в малом количестве оставшиеся мне от империалистской и гражданской войны, и таковые жеребцы чувствуют мою руку, и я также могу чувствовать его бессловесную нужду и что ему требуется, но несправедливая вороная кобылица мне без надобности, я не могу ее чувствовать и не могу ее переносить, что все товарищи могут подтвердить, как бы не дошло до беды. И вот партия не может мне возворотить, согласно резолюции, мое кровное, то я не имею выхода, как писать это заявление со слезами, которые не подобают бойцу, но текут бесперечь и секут сердце, засекая сердце в кровь"... Вот это и еще много другого было написано в заявлении Мельникова, потому что он писал его целый день, и оно было очень длинно. Мы с военкомом бились над ним с час и разобрали до конца. - Вот и дурак, - сказал потом военком, разрывая бумагу, - приходи после ужина, будешь иметь беседу со мной. - Не надо мне твоей беседы, - ответил Мельников, вздрагивая, - проиграл ты меня, военком. Он стоял, сложив руки по швам, дрожал, не сходя с места, и озирался по сторонам, как будто примериваясь, по какой дороге бежать. Военком подошел к нему вплотную, но не доглядел. Мельников рванулся и побежал изо всех сил. - Проиграл, - закричал он дико и влез на пень и стал обрывать на себе куртку и царапать грудь. - Бей, Тимошенко, - закричал он, падая на землю, - без враз. Тогда мы потащили его в палатку, и казаки нам помогли. Мы вскипятили ему чай и набили папирос. Он курил и все дрожал. И только к вечеру успокоился наш командир. Он не заговаривал больше о сумасбродном своем заявлении, но через неделю поехал в Ровно, освидетельствовался во врачебной комиссии и был демобилизован, как инвалид, имеющий шесть поранений. Так лишились мы Мельникова. Я ужасно был этим опечален, потому что Мельников был тихий человек, похожий на меня характером. У него одного в эскадроне был самовар. В дни затишья мы пили с ним горячий чай. И он рассказывал мне о женщинах так подробно, что мне было стыдно и приятно слушать. Это, я думаю, потому, что нас потрясали одинаковые страсти. Мы оба смотрели на мир, как на луг в мае, как на луг, по которому ходят женщины и кони. У СВЯТОГО ВАЛЕНТА. Дивизия наша заняла Берестечко вчера вечером. Штаб остановился в доме ксендза Тузинкевича. Переодевшись бабой, Тузинкевич бежал из Берестечка перед вступлением наших войск. О нем я знаю, что он сорок пять лет возился с богом в Берестечке и был хорошим ксендзом. Когда жители хотят, чтобы мы это поняли, они говорят - его любили евреи. При Тузинкевиче обновили древний костел. Ремонт кончили в день трехсотлетия храма. Из Житомира приехал тогда епископ. Прелаты в шелковых рясах служили перед костелом молебен. Пузатые и благостные - они стояли, как колокола в росистой траве. Из окрестных сел текли покорствующие реки. Мужичье преклоняло колена, целовало руки и на небесах в тот день пламенели невиданные облака. Небесные флаги веяли в честь старого костела. Сам епископ поцеловал Тузинкевича в лоб и назвал его отцом Берестечка, pater Beresteckea. Эту историю узнал я утром в штабе, где разбирал донесение обходной колонны нашей, ведшей разведку на Львов в районе Радзихова. Я читал бумаги, и храп вестовых за моей спиной говорил о нескончаемой нашей бездомности. Писаря, отсыревшие от бессонницы, писали приказы по дивизии, ели огурцы и чихали. Только к полудню я освободился и подошел к окну и увидел храм Берестечка - могущественный и белый. Он светился в нежарком солнце, как фаянсовая башня. Молнии полудня блистали в его глянцевитых боках. Выпуклая их линия начиналась у древней зелени куполов и легко сбегала книзу. Розовые жилы тлели в белом камне фронтона, и на вершине были колонны, тонкие, как свечи. Потом пение органа поразило мой слух, и в дверях штаба появилась старуха с распущенными желтыми волосами. Она двигалась, как собака с перебитой лапой, кружась и припадая к земле. Зрачки ее были налиты белой влагой слепоты и брызгали слезами. Звуки органа, то тягостные, то поспешные, подплывали к нам. Полет их был труден, и след их звенел жалобно и долго. Старуха вытерла слезы желтыми своими волосами, села на землю и стала целовать сапоги мои у колена. Орган умолк и потом захохотал на басовых нотах. Я схватил старуху за руку и оглянулся. Писаря стучали на машинках, вестовые храпели все заливистей и шпоры их резали войлок под бархатной обивкой диванов. Старуха целовала мои сапоги с нежностью, обняв их, как младенца. Я потащил ее к выходу и запер за собой дверь. Костел стал передо мной ослепительный, как декорация. Боковые ворота его были раскрыты и на могилах польских офицеров валялись конские черепа. Мы вбежали во двор, прошли сумрачный коридор и попали в квадратную комнату, пристроенную к алтарю. Там хозяйничала Сашка, любовница Шевелева и сестра 31 полка. Она разорвала ризы и сорвала шелк с чьих-то одеяний. Мертвенный аромат парчи, рассыпавшихся цветов, душистого тления лился в ее трепещущие ноздри, щекоча ее и отравляя. Потом в комнату вошли казаки. Они захохотали и схватили ее за грудь и сунули ей под юбки золоченые палки от балдахина. Курдюков, придурковатый малый, ударил ее по носу кадилом, а Биценко кинул с размаху на гору материй и священных книг. Казаки заголили тело Сашки, цветущее и вонючее, как мясо только что зарезанной коровы, они заголили ее ноги эскадронной дамы, чугунные и стройные ноги, и Курдюков, придурковатый малый, усевшись на Сашке верхом и трясясь, как в седле, притворился объятым страстью. Она сбросила его, разбила ему голову и кинулась к своему мешку. Я и казаки - мы едва отогнали ее от шелков. Направив на нас наган, она уходила, раскачиваясь, ворчала, как рассерженный пес, и тащила за собой мешок. Она унесла мешок с собой, и только тогда, пройдя алтарь, мы проникли в костел. Он был полон света, этот костел, он был полон танцующих лучей, воздушных столбов, какого-то прохладного веселья. Как забыть мне картину, висевшую у правого придела и написанную, я уверен в этом, божественным Аполеком. На этой картине двенадцать розовых патеров качали в люльке, перевитой лентами, пухлого младенца Исуса. Пальцы ног его оттопырены и тело отлакировано утренним жарким потом. Дитя барахтается на жирной спинке, собранной в складки, и двенадцать апостолов в кардинальских тиарах склонились над колыбелью. Их лица выбриты до синевы, и пламенные плащи оттопыриваются на животах. Глаза апостолов сверкают мудростью, решимостью, весельем, в углах их рта бродит тонкая усмешка, и на двойные подбородки посажены огненные бородавки, малиновые бородавки, как молодая редиска в мае. В этом храме Берестечка была своя, была обольстительная точка зрения на смертные страдания сынов человеческих. В этом храме святые шли на казнь с картинностью итальянских певцов и черные волосы палачей лоснились, как борода Олоферна. Тогда же над царскими вратами я увидел кощунственное изображение Иоанна, принадлежащее еретической и упоительной кисти Аполека. На изображении этом Креститель был красив той двусмысленной и недоговоренной красотой, ради которой наложницы королей теряют свою наполовину потерянную честь и расцветающую жизнь. Сведенный с ума воспоминанием о мечте моей, об Аполеке, я не заметил следов разрушения в храме или они показались мне не велики. Была сломана только рака святого Валента. Куски истлевшей ваты валялись под ней и хорошо вычищенные смехотворные кости святого, похожие больше всего на кости курицы. Да Афонька Бида играл еще на органе. Он был пьян, Афонька, и дик и изрублен. Только вчера вернулся он к нам с отбитым у мужиков конем. Он упрямо пытался подобрать на органе марш и кто-то уговаривал его сонным голосом - "брось, Афоня, идем снедать". Но казак не бросал. И их было множество, - афонькиных песен. Каждый звук был песня, и все звуки были оторваны друг от друга. Песня - ее густой напев - длилась мгновение и переходила в другую... Я слушал, озирался, и следы разрушения казались мне не велики. Но не так думал пан Людомирский, звонарь церкви святого Валента и муж слепой старухи. Он выполз неизвестно откуда и предал нас анафеме. На этом помирились, а могло кончиться хуже. Пан Людомирский вошел в костел ровным шагом с опущенной головой. Он не решился накинуть покрывала на выброшенные мощи, потому что человеку простого звания не дозволено касаться святыни. Звонарь упал на голубые плиты пола, поднял голову, и синий нос его стал над ним, как флаг над мертвецом. В это мгновение над алтарем заколебалась бархатная завеса и трепеща отползла в сторону. Хриплый вой разорвал наш слух. Мы недоверчиво отступали перед лицом ужаса, и ужас настигал нас и щупал мертвыми пальцами наши сердца. В глубине открывшейся ниши, на фоне неба, изборожденного тучами, скорчилась бородатая фигурка в оранжевом кунтуше - босая с разодранным и кровоточащим ртом. Я видел: этого человека преследовала ненависть и настигала погоня. Он выгнул руку, чтобы отвести занесенный удар. Рядом со мной закричал казачонок и, опустив голову, бросился бежать. Пан Людомирский, звонарь церкви святого Валента, сыграл над нами злую шутку. Эта фигура была Исус Христос - самое необыкновенное изображение бога изо всех виденных мною в жизни. Спаситель - курчавый жиденок с клочковатой бороденкой и низким сморщенным лбом. Впалые щеки его были накрашены кармином и над закрывшимися от боли глазами выведены тонкие рыжие брови. Рот его разодран, как губа лошади, польский кунтуш его охвачен драгоценным поясом и под кафтаном корчатся фарфоровые ножки, накрашенные, босые, изрезанные серебряными гвоздями. Под статуей стоял в зеленом сюртуке пан Людомирский. Он простер над нами иссохшую руку и проклял нас. Казаки выпучили глаза и развесили соломенные чубы. Громовым голосом звонарь церкви святого Валента предал нас анафеме на чистейшей латыни. Потом он отвернулся, упал на колени и обнял ноги Спасителя. Придя к себе в штаб, я написал рапорт начальнику дивизии об оскорблении религиозного чувства местного населения. Костел было приказано закрыть, а виновных подвергнуть дисциплинарному взысканию и предать суду военного трибунала. ШЕВЕЛЕВ. На санитарной линейке умирает Шевелев, полковой командир. Ночь, пронзенная отблесками канонады, выгнулась над ним, и женщина сидит у его ног. Левка, кучер начдива, подогревает в котелке пищу. Левкин чуб висит над костром. Стреноженные кони хрустят в кустах. Левка размешивает веткой в котелке и говорит Шевелеву, умирающему на санитарной линейке: - Работал я, товарищок, в Темрюке, в городе, работал парфорсную езду, а также атлет легкого веса. Городок, конечно, для женщины утомительный, завидели меня дамочки, стены рушат... "Лев Гаврилыч, не откажите принять закуску по карте, не пожалеете безвозвратно потерянного времени"... Подались мы с одной в трактир. Требуем телятины две порции, требуем полштофа, сидим с ней совершенно тихо, выпиваем... Гляжу - суется ко мне некоторый господин, одет ничего, чисто, но в личности его я замечаю большое воображение, и сам он под мухой. - Извиняюсь, - говорит, - какая у вас, между прочим, национальность? - По какой причине, - спрашиваю, - вы меня, господин, за национальность трогаете, когда я тем более нахожусь при дамском обществе? А он: - Какой вы, говорит, есть атлет... Во французской борьбе из таких бессрочную подкладку делают. Докажите мне свою нацию... Ну, однако, еще не рублю. - Зачем вы, - говорю, - не знаю вашего имени-отчества, такое недоразумение вызываете, что здесь обязательно должен кто-нибудь в настоящее время погибнуть, иначе говоря, лечь до последнего издыхания? - До последнего лечь, - повторяет Левка с восторгом и протягивает руки к небу, окружая себя ночью, как нимбом. Неутомимый ветер, чистый ветер ночи поет, наливается звоном и колышет души. Звезды пылают во тьме, как обручальные кольца, они падают на Левку, путаются в волосах и гаснут в лохматой его голове. - Лев, - шепчет ему вдруг Шевелев синими губами, - иди сюда. Золото какое есть - Сашке, - говорит раненый, - кольца, сбрую - все ей. Жили, как умели, вознагражу. Одежду, сподники, орден за беззаветное геройство - матери на Терек. Отошли с письмом и напиши в письме - кланялся командир и не плачь. Хата тебе, старуха, живи. Кто тронет, - скачи к Буденному: я - Шевелева матка. Коня Абрамку жертвую полку, коня жертвую на помин моей души... - Понял про коня, - бормочет Левка и взмахивает руками. - Саш, - кричит он женщине, - слыхала, чего говорит?.. При ем сознавайся - отдашь старухе ейное, аль не отдашь?.. - Мать вашу в пять, - отвечает Сашка и отходит в кусты, прямая, как слепец. - Отдашь сиротскую долю? - догоняет ее Левка и хватает за горло. - При ем говори. - Отдам. Пусти! И тогда, вынудив признание, Левка снял котелок с огня и стал лить варево умирающему в окостеневший рот. Щи стекали с Шевелева, ложка гремела в его сверкающих мертвых зубах, и пули все тоскливее, все сильнее пели в густых просторах ночи. - Винтовками бьет, гад, - сказал Левка. - Вот халуйское знатье, - ответил Шевелев, - пулеметами вскрывает нас на правом фланге. И, закрыв глаза, торжественный, как мертвец на столе, Шевелев стал слушать бой большими и восковыми своими ушами. Рядом с ним Левка жевал мясо, хрустя и задыхаясь. Кончив мясо, Левка облизал губы и потащил Сашку в ложбинку. - Саш, - сказал он, дрожа, отрыгиваясь и вертя руками. - Саш, как перед богом, все одно в грехах, как в репьях... Раз жить, раз подыхать. Поддайся, Саш, отслужу хучь бы кровью... Век его прошел, Саш, а дней у бога не убыло... Они сели в высокую траву. Медлительная луна выползла из-за туч и остановилась на обнаженном Сашкином колене. - Греетесь, - пробормотал Шевелев, - а он, гляди, четырнадцатую дивизию погнал. Левка хрустел и задыхался в кустах. Мглистая луна шлялась по небу, как побирушка. Далекая пальба плыла в воздухе. Ковыль шелестел на потревоженной земле, и в траву падали августовские звезды. Потом Сашка вернулась на прежнее место. Она стала менять раненому бинты и подняла фонарик над загнивающей раной. - К завтрему уйдешь, - сказала Сашка, обтирая Шевелева, вспотевшего прохладным потом. - К завтрему уйдешь, она в кишках у тебя, смерть... И в это мгновение многоголосный и плотный удар повалился на землю. Четыре свежие бригады, введенные в бой объединенным командованием неприятеля, выпустили по Буску первый снаряд и, разрывая наши коммуникации, зажгли водораздел Буга. Послушные пожары встали на горизонте, и тяжелые птицы канонады вылетели из огня. Буск горел, и Левка, обеспамятевший халуй, полетел по лесу в качающемся экипаже начдива шесть. Он натянул малиновые вожжи и бился о пни лакированными колесами. Шевелевская линейка неслась за ним, и внимательная Сашка правила лошадьми, прыгавшими из упряжки. Так приехали они к опушке, где стоял перевязочный пункт. Левка выпряг лошадей и пошел к заведующему просить попону. Он пошел по лесу, заставленному телегами. Тела санитаров торчали под телегами, и несмелая заря билась над солдатскими овчинами. Сапоги спящих были брошены врозь, зрачки их заведены к небу и черные ямы ртов перекошены. Попона нашлась у заведующего; Левка вернулся к Шевелеву, поцеловал его в лоб и покрыл с головой. Тогда к линейке приблизилась Сашка. Она вывязала себе платок под подбородком и отряхнула платье от соломы. - Павлик, - сказала она, - Исус Христос мой, - и легла на мертвеца боком и прикрыла его своим непомерным телом. - Убивается, - сказал тогда Левка, - ничего не скажешь, хорошо жили. Теперь ей снова под всем эскадроном хлопотать. Не сладко... И он проехал дальше в Буск, где расположился штаб 6 кавдивизии. Там, в десяти верстах от города шел бой с савинковскими казаками. Предатели сражались под командой эсаула Яковлева, передавшегося полякам. Они сражались мужественно. Начдив вторые сутки был с войсками, и Левка, не найдя его в штабе, вернулся к себе в хату, почистил лошадей, облил водой колеса экипажа и лег спать в клуне. Сарай был набит свежим сеном зажигательным, как духи. Левка выспался и сел обедать. Хозяйка сварила ему картошки, залила ее простоквашей. Левка сидел уже у стола, когда на улице раздался траурный вопль труб и топот многих копыт. Эскадрон с трубачами и штандартами проходил по извилистой галицийской улице. Тело Шевелева, положенное на лафет, было перекрыто знаменами. Сашка ехала за гробом на шевелевском жеребце, и казацкая песня сочилась из задних рядов. Эскадрон прошел по главной улице и потом повернул к реке. Тогда Левка, босой и без шапки, пустился бегом за уходящим отрядом и схватил за поводья лошадь командира эскадрона. Ни командарм, остановившийся у перекрестка и отдававший честь мертвому командиру, ни штаб его не слышали, что сказал Левка эскадронному. - Сподники, - донес к нам ветер обрывки слов, - мать на Тереке, - услышали мы Левкины бессвязные крики, и потом эскадронный высвободил свои поводья и показал рукой на Сашку. Женщина помотала головой и проехала дальше. Тогда Левка вскочил к ней на седло, схватил ее за волосы, отогнул голову и разбил ей кулаком лицо. Сашка вытерла подолом кровь и поехала дальше. Левка слез с седла, откинул чуб и завязал на бедрах красный шарф. И завывающие трубачи повели эскадрон дальше, к сияющей линии Буга. Он скоро вернулся к нам, Левка, кучер начдива, и закричал блестя глазами: - Распатронил ее в чистую... Отошлю, говорит, матери, когда нужно. Евоную память, говорит, сама помню. А помнишь, так не забывай, гадючья кость... А забудешь - мы еще разок напомним. Второй раз забудешь - мы второй раз напомним... БЕРЕСТЕЧКО. Мы делали переход из Хотина в Берестечко. Бойцы дремали в высоких седлах. Песня журчала, как пересыхающий ручей. Чудовищные трупы валялись на тысячелетних курганах. Мужики в белых рубахах ломали шапки перед нами... Черная бурка начдива Апанасенки веяла над штабом, как мрачный флаг. Пуховый башлык был перекинут через бурку, и кривая сабля лежала сбоку, как приклеенная. Ее рукоятка из черной кости оправлена пышным узором, и футляр хранится у ординарцев, ведущих за начдивом заводных коней. Мы проехали казачьи курганы и вышку Богдана Хмельницкого. Из-за могильного камня выполз дед с бандурой и детским голоском спел нам про былую казачью славу. Мы прослушали песню молча, потом развернули штандарты и под звуки гремящего марша ворвались в Берестечко. Жители заложили ставни железными палками, и тишина, полновластная тишина, взошла на местечковый свой трон. Квартира мне попалась у рыжей вдовы, пропахшей вдовьим горем. Я умылся с дороги и вышел на улицу. На столбах висели уже объявления о том, что военкомдив Винокуров прочтет вечером доклад о втором Конгрессе Коминтерна. Прямо перед моими окнами несколько казаков расстреливали за шпионаж старого еврея с серебряной бородой. Старик взвизгивал и вырывался. Тогда Кудря из пулеметной команды взял его голову и спрятал ее у себя подмышками. Еврей затих и расставил ноги. Кудря левой рукой вытащил кинжал и осторожно зарезал старика, не забрызгавшись. Потом он стукнул в закрытую раму. - Если кто интересуется, - сказал он, - нехай приберет. Это свободно. И казаки завернули за угол. Я пошел за ними следом и стал бродить по местечку. В нем больше всего живут евреи, а на окраинах расселились русские мещане-кожевники. Они живут чисто, в белых домиках, за зелеными ставнями. Вместо водки мещане пьют пиво или мед, разводят табак в палисадничках и курят его из длинных гнутых чубуков, как галицийские крестьяне. Соседство трех племен, деятельных и деловитых, разбудило в них упрямое трудолюбие, свойственное иногда русскому человеку, когда он еще не обовшивел, не отчаялся и не упился. Быт выветрился в Берестечке, а он был прочен здесь. Отростки, которым перевалило за три столетия, все еще зеленели на Волыни теплой гнилью старины. Евреи связывали здесь нитями нажимы русского мужика с польским паном, чешского колониста с Лодзинской фабрикой. Это были контрабандисты, лучшие на границе, и почти всегда воители за веру. Хасидизм держал в удушливом плену это суетливое население из корчмарей, разносчиков и маклеров. Мальчики в капотиках все еще топтали вековую дорогу к хасидскому хедеру, и старухи по-прежнему возили невесток к цадику с яростной мольбой о плодородии. Евреи живут здесь в просторных домах, вымазанных белой или водянисто-голубой краской. Традиционное убожество этой архитектуры насчитывает столетия. За домом тянется всегда сарай в два, иногда в три этажа. В нем никогда не бывает солнца. Сараи эти, неописуемо мрачные, заменяют наши дворы. Потайные ходы ведут в подвалы и в конюшни. Во время войны в этих катакомбах спасаются от пуль и грабежей. Здесь скопляются за много дней человечьи отбросы и навоз скотины. Уныние и ужас заполняют катакомбы едкой вонью и протухшей кислотой испражнений. Берестечко нерушимо воняет и до сих пор, от всех людей шибет запахом гнилой селедки. Местечко смердит в ожидании новой эры, и вместо людей по нему ходят слинявшие схемы пограничных несчастий. Они надоели мне к концу дня, и я ушел поэтому за городскую черту, поднялся в гору и проник в опустошенный замок графов Рациборских, недавних владетелей Берестечка. Спокойствие заката сделало траву у замка голубой. Над прудом взошла луна, зеленая, как ящерица. Из окна мне видно поместие графов Рациборских - луга и плантации из хмеля, скрытые муаровыми лентами сумерек. В замке жили раньше помешанная девяностолетняя графиня с сыном. Она глумилась над сыном за то, что он не дал наследников угасающему роду, и - мужики божились мне - графиня била сына кучерским кнутом. Внизу на площадке собрался митинг. Пришли крестьяне, евреи и кожевники из предместья. Над ними разгорелся восторженный голос Винокурова и нежный звон его шпор. Он говорил им о втором Конгрессе Коминтерна, а я бродил вдоль стен, где нимфы с выколотыми глазами водят старинный хоровод. Потом в углу, на затоптанном полу нашел обрывок пожелтевшего письма. На нем вылинявшими чернилами было написано: Berestecko, 1820. Paul, mon bien aime, on dit que l"empereur Napoleon est mort, est-ce vrai? Moi je me sens bien, les couches ont ete faciles, notre petit heros acheve sept semaines*1... /*1 Берестечко. 1820. Поль, мой любимый, говорят, что император Наполеон умер, правда ли это? Я чувствую себя хорошо, роды были легкие, нашему маленькому герою исполнилось уже семь недель... А внизу не умолкает голос военкомдива. Он страстно убеждает озадаченных мещан и обворованных евреев: - Вы - власть. Все, что здесь - ваше. Нет панов. Приступаю к выборам Ревкома. КОНКИН. Крошили мы шляхту по-за Белой-Церковью. Крошили вдосталь, аж деревья гнулись. Я с утра отметину получил, но выкомаривал ничего себе, подходяще. Денек, помню, уже к вечеру пригибался. От комбрига я отбился, пролетариату всего казачишек пяток за мной увязалось. Кругом в обнимку рубаются, как поп с попадьей, юшка из меня помаленьку капает, конь мой передом мочится... Одним словом - два слова... Вынеслись мы со Спирькой Забутым подальше от леска, глядим - подходящая арифметика... Саженях в трехстах, ну, не более, не то штаб пылит, не то обоз. Штаб - хорошо, обоз - того лучше. Барахло у ребятишек пооборвалось, рубашонки такие, что половой зрелости не достигают. - Забутый, - говорю я Спирьке, - мать твою и так, и этак, и всяко, предоставляю тебе слово, как записавшемуся оратору, ведь это штаб ихний уходит... - Свободная вещь, что штаб, - говорит Спирька, - но только ты протекаешь, а мне своя рогожа чужой рожи дороже. Нас двое, их восемь... - Дуй ветер, Спирька, - говорю, - все равно я им ризы испачкаю, - помрем за кислый огурец и мировую революцию... И пустились. Было их восемь сабель. Двоих сняли мы винтами на корню. Третьего, вижу, Спирька ведет в штаб Духонина для проверки документов. А я в туза целюсь. Малиновый, ребята, туз, при цепке и золотых часах. Прижал я его к хуторку. Хуторок там был весь в яблоне и вишне. Конь под моим тузом, как купцова дочка, но пристал. Бросает тогда пан генерал поводья, примеряется ко мне маузером и делает мне в ноге дырку. - Ладно, - думаю, - будешь моя, раскинешь ноги. Нажал я колеса и вкладываю в коника два заряда. Жалко было жеребца. Большевичок был жеребец, чистый большевичок. Сам рыжий, как монета, хвост пулей, нога струной. Ликвидировал я эту скотину. Думал, живую Ленину свезу, ан не вышло. Рухнула лошадка, как невеста, и туз мой с седла снялся. Подорвал он в сторону, потом еще разок обернулся и еще один сквозняк мне в фигуре сделал. Имею я, значит, при себе три отличия в делах против неприятеля. - Исусе, - думаю, - он, чего доброго, убьет меня нечаянным порядком. Подскакал я к нему, а он уже шашку выхватил, и по щекам его слезы текут, белые слезы, человечье молоко. - Даешь орден Красного Знамени, - кричу, - сдавайся, ясновельможный, покуда я жив... - Не моге, пан, - отвечает старик, - ты зарежешь меня... А тут Спиридон передо мной, как лист перед травой. Личность его в мыле, глаза от морды на нитках висят. - Вася, - кричит он мне, - страсть сказать, сколько я людей кончил. А ведь это генерал у тебя, на нем шитье, мне желательно его кончить. - Иди к турку, - говорю я Забутому и серчаю, - мне шитье его крови стоит. И кобылой моей загоняю я генерала в клуню, сено там было или так. Тишина там была, темнота, прохлада. - Пан, - говорю, - утихомирь свою старость, сдайся мне за ради бога, и мы отдохнем с тобой, пан. А он дышит у стенки грудью и трет лоб красным пальцем. - Не моге, - говорит, - ты зарежешь меня, - только Буденному отдам я мою саблю. Буденного ему подай. Эх, горе ты мое. И вижу - пропадает старый. - Пан, - кричу я и плачу и зубами скрегочу, - слово пролетария, я сам высший начальник. Ты шитья на мне не ищи, а титул есть. Титул, вот он - музыкальный эксцентрик и салонный чревовещатель из города Нижнего... Нижний город на Волге-реке... И бес меня взмыл. Генеральские глаза передо мной, как фонари мигнули. Красное море передо мной открылось. Обида солью вошла мне в рану, потому вижу, не верит мне дед. Замкнул я тогда рот, ребяты, поджал брюхо, взял воздуху и понес по старинке, по-нашенскому, по-бойцовски, по-нижегородски и доказал шляхте мое чревовещание. Побелел тут старик, взялся за сердце и сел на землю. - Веришь теперь Ваське эксцентрику, третьей непобедимой кавбригады комиссару... - Комиссар? - кричит он. - Комиссар, - говорю я. - Коммунист? - кричит он. - Коммунист, - говорю я. - В смертельный мой час, - кричит он, - в последнее мое воздыхание, скажи мне, друг мой, казак, - коммунист ты или врешь? - Коммунист, - говорю я. Садится тут мой дед на землю, целует какую-то ладанку, ломает на-двое саблю и зажигает две плошки в своих глазах, два фонаря над темной степью. - Прости, - говорит, - не могу сдаться коммунисту, - и здоровается со мной за руку, - прости, - говорит, - и руби меня по-солдатски... Эту историю со всегдашним своим шутовством рассказал нам однажды на привале прославленный Конкин, политический комиссар N...ской кавбригады и троекратный кавалер ордена Красного Знамени. - И до чего же ты, Васька, с паном договорился? - Договоришься ли с ним. Гоноровый выдался. Покланялся я ему еще, а он упирается. Бумаги мы тогда у него взяли, какие были, маузер взяли, седелка его, чудака, и посейчас подо мной. А потом вижу - каплет из меня все сильней, ужасный сон на меня нападает, и сапоги мои полны крови, не до него... - Облегчили, значит, старика? - Был грех. ЧЕСНИКИ. Шестая дивизия скопилась в лесу, что у деревни Чесники и ждала сигнала к атаке. Но Апанасенко, начдив шесть, поджидал вторую бригаду и не давал сигнала. Тогда к начдиву подъехал Ворошилов. Он толкнул его мордой лошади в грудь и сказал: - Волыним, начдив шесть, волыним. - Вторая бригада, - ответил Апанасенко глухо, - согласно вашего приказания идет на рысях к месту происшествия. - Волыним, начдив шесть, волыним, - повторил Ворошилов, захохотал и разорвал на себе ремни. Апанасенко отступил от него на шаг. - Во имя совести, - закричал он и стал ломать сырые пальцы, - во имя совести не торопить меня, товарищ Ворошилов. - Не торопить, - прошептал Клим Ворошилов, член Реввоенсовета, и закрыл глаза. Он сидел на лошади с прикрытыми глазами и молчал и шевелил губами. Казак в лаптях и в котелке смотрел на него с недоумением. Штаб армии, рослые генштабисты в штанах, краснее, чем человеческая кровь, делали гимнастику за его спиной и пересмеивались. Скачущие эскадроны шумели в лесу, как шумит ветер, и ломали ветви. Ворошилов расчесывал маузером гриву своей лошади, потом он обернулся к Буденному и выстрелил в воздух... - Командарм, - закричал он, - скажи войскам напутственное слово. Вот он стоит на холмике, поляк, стоит как картина и смеется над тобой... Поляки в самом деле были видны в бинокль. Штаб армии вскочил на коней, и казаки стали стекаться к нему со всех сторон. Иван Акинфиев, бывший повозочный Ревтрибунала, проехал мимо и толкнул меня стременем. - Ты в строю, Иван, - сказал я ему, - ведь у тебя ребер нету. - Положил я на эти ребра, - ответил Акинфиев, сидевший на лошади бочком, - дай послухать, что человек рассказывает. И он проехал вперед и протиснулся к Буденному в упор. Тот вздрогнул и сказал тихо: - Ребята, - сказал Буденный, - у нас плохая положения, веселей надо, ребята... - Даешь Варшаву, - закричал казак в лаптях и в котелке, выкатил глаза и рассек саблей воздух. - Даешь Варшаву, - закричал Ворошилов, поднял коня на дыбы и влетел в средину эскадронов. - Бойцы и командиры, - сказал он со страстью, - в Москве, в древней столице, основалась небывалая власть. Рабоче-крестьянское правительство, первое в мире, приказывает вам, бойцы и командиры, атаковать неприятеля и привезти победу. - Сабли к бою, - отдаленно запел Апанасенко за спиной командарма, и вывороченные малиновые его губы с пеной заблестели в рядах. Красный казакин начдива был оборван, и мясистое, омерзительное его лицо искажено. Клинком неоценимой сабли он отдал честь Ворошилову. - Согласно долга революционной присяги, - сказал начдив шесть, хрипя и озираясь, - докладаю Реввоенсовету Первой Конной: вторая непобедимая кавбригада на рысях подходит к месту происшествия. - Делай, - ответил Ворошилов и махнул рукой. Он тронул повод, и Буденный поехал с ним рядом. Они ехали рядом на длинных рыжих кобылах в одинаковых кителях и в сияющих штанах, расшитых серебром. Бойцы, подвывая, двигались за ними, и бледная сталь мерцала в сукровице осеннего солнца. Но я не услышал единодушия в казацком вое и, дожидаясь атаки, я ушел в лес, в глубь его, к стоянке питпункта. Две пухлых сестры в передничках укладывались там на траве. Они толкались молодыми грудями и отпихивались друг от дружки. Они смеялись замирающим бабьим смешком и подмигивали мне снизу, не мигая. Так подмигивают пересыхающему парню деревенские девки с голыми ногами, деревенские девки, взвизгивающие, как обласканные щенята, и ночующие на дворе в томительных подушках скирды. Подальше от сестер лежал в бреду раненый красноармеец и Степка Дуплищев, вздорный казаченок, чистил скребницей Урагана, кровного жеребца, принадлежавшего начдиву и происходившего от Люлюши, Ростовской рекордистки. Раненый скороговоркой вспоминал о Шуе, о нетели и о каких-то оческах льна, а Дуплищев, заглушая его жалкое бормотанье, пел песню о денщике и толстой генеральше, пел все громче и взмахивал скребницей и гладил коня. Но его прервала Сашка, опухшая Сашка, дама всех эскадронов. Она подъехала к мальчику и прыгнула на землю. - Сделаемся, што ль? - сказала Сашка. - Отваливай, - ответил Дуплищев, повернулся к ней спиной и стал заплетать ленточки в гриву Урагану. - Свому слову ты хозяин, Степка? - сказала тогда Сашка, - или ты вакса. - Отваливай, - ответил Степка, - свому слову я хозяин. Он вплел все ленточки в гриву и вдруг закричал мне с отчаянием: - Вот, Кирилл Васильич, обратите маленькое внимание - какое надругание она надо мной делает. Это цельный месяц я от нее вытерпляю несказанно што. Куды ни повернусь - она тут, куды ни кинусь - она загородка путя моего, спусти ей жеребца, да спусти ей жеребца. Ну, когда начдив каждоденно мне наказывает: "к тебе, говорит, Степа, при таком жеребце многие проситься будут, но не моги ты пускать его по четвертому году"... - Вас, небось, по пятнадцатому году пускаешь, - пробормотала Сашка и отвернулась. - По пятнадцатому, небось, и ничего, молчишь, только пузыри пускаешь. Она отошла к своей кобыле, укрепила подпруги и изготовилась ехать. Шпоры на ее туфлях гремели, ажурные чулки были забрызганы грязью и убраны сеном, и чудовищная грудь ее закидывалась за спину. - Целковый-то я привезла, - сказала Сашка в сторону и поставила туфлю с шпорой в стремя. - Привезла да вот отвозить надо. Она вынула два новеньких полтинника, поиграла ими на ладони, и спрятала опять за пазуху. - Сделаемся, што ль? - сказал тогда Дуплищев, не спуская глаз с серебра, и повел жеребца. Сашка выбрала покатое место на полянке и поставила кобылу. - Ты один, видно, по земле с жеребцом ходишь, - сказала она Степке и стала направлять Урагана. - Да только кобыленка у меня позиционная, два года не покрыта; дай, думаю, хороших кровей добуду... Сашка справилась с жеребцом и потом отвела в сторонку свою лошадь: - Вот мы и с начинкой, девочка, - прошептала она, поцеловала свою кобылу в лошадиные пегие мокрые губы с нависшими палочками слюны, потерлась об лошадиную морду и стала вслушиваться в шум, топавший по лесу. - Вторая бригада бежит, - сказала Сашка строго и обернулась ко мне. - Ехать надо, Лютыч... - Бежит, не бежит, - закричал Дуплищев, и у него перехватило в горле, - ставь, дьякон, деньги на кон... - С деньгами я вся тут, - пробормотала Сашка и вскочила на кобылу. Я бросился за ней, и мы двинулись галопом. Вопль Дуплищева раздался за нами и легкий стук выстрела. - Обратите маленькое внимание, - кричал казачонок и изо всех сил бежал по лесу. Ветер прыгал между ветвями, как обезумевший заяц, вторая бригада летела сквозь галицийские дубы, Ворошилов стоял на холмике и стрелял из маузера, безмятежная пыль канонады восходила над землей, как над мирной хатой. И по знаку начдива мы пошли в атаку, в незабываемую атаку при Чесниках. ЗАМОСТЬЕ. Начдив и штаб его лежали на скошенном поле в трех верстах от Замостья. Войскам предстояла ночная атака города. Приказ по армии требовал, чтобы мы ночевали в Замостье, и начдив ждал донесений о победе. Шел дождь. Над залитой землей летели ветер и тьма. Все звезды были задушены раздувшимися чернилами туч. Изнеможенные лошади вздыхали и переминались во мраке. Им нечего было дать. Я привязал повод коня к моей ноге, завернулся в плащ и лег в яму, полную воды. Размокшая земля открыла мне успокоительные объятия могилы. Лошадь натянула повод и потащила меня за ногу. Она нашла пучок травы и стала щипать его. Тогда я заснул и увидел во сне клуню, засыпанную сеном. Над клуней гудело пыльное золото молотьбы. Снопы пшеницы летели по небу, июльский день переходил в вечер, и чащи заката запрокидывались над селом. Я был простерт на безмолвном ложе, и ласка сена под затылком сводила меня с ума. Потом двери сарая разошлись со свистом. Женщина, одетая для бала, приблизилась ко мне. Она вынула грудь из черных кружев корсажа и понесла ее мне с осторожностью, как кормилица пищу. Она приложила свою грудь к моей. Томительная теплота потрясла основы моей души, и капли пота, живого, движущегося пота, закипели между нашими сосками. - Марго, - хотел я крикнуть, - земля тащит меня на веревке своих бедствий, как упирающегося пса, но все же я увидел вас, Марго... Я хотел это крикнуть, но челюсти мои, сведенные внезапным холодом, не разжимались. Тогда женщина отстранилась от меня и упала на колени. - Иисусе, - сказала она, - прими душу усопшего раба твоего. Она укрепила два истертых пятака на моих веках и забила благовонным сеном отверстие рта. Вопль тщетно метался по кругу закованных моих челюстей, потухающие зрачки медленно повернулись под медяками, я не смог разомкнуть моих рук и... проснулся. Мужик с свалявшейся бородой лежал передо мной. Он держал в руках ружье. Спина лошади черной перекладиной резала небо. Повод тугой петлей сжимал мою ногу, торчавшую кверху. - Заснул земляк, - сказал мне мужик и улыбнулся ночными, бессонными глазами, - лошадь тебя с полверсты протащила... Я распутал ремень и встал. По лицу моему, разодранному бурьяном, лилась кровь. Тут же, в двух шагах от нас, лежала передовая цепь. Мне видны были трубы Замостья, вороватые огни в теснинах его гетто и каланча с разбитым фонарем. Сырой рассвет стекал на нас, как волны хлороформа. Зеленые ракеты взвились над польским лагерем. Они затрепетали в воздухе, осыпались, как розы под луной, и угасли. И я услышал отдаленное дуновение стона. Дым потаенного убийства бродил вокруг нас. - Бьют кого-то, - сказал я, - кого это бьют?.. - Поляк тревожится, - ответил мне мужик, - поляк жидов режет... Мужик переложил ружье из правой руки в левую. Борода его свернулась совсем на бок, он посмотрел на меня с любовью и сказал: - Длинные эти ночи в цепу, конца этим ночам нет. И вот приходит человеку охота поговорить с другим человеком, а где его возьмешь, другого человека-то?.. Мужик заставил меня прикурить от его огонька. - Жид всякому виноват, - сказал он, - и нашему, и вашему. Их после войны самое малое количество останется. Сколько в свете жидов считается? - Десять миллионов, - ответил я и стал взнуздывать коня. - Их двести тысяч останется, - вскричал мужик и тронул меня за руку, боясь, что я уйду. Но я взобрался на седло и поскакал к тому месту, где был штаб. Начдив готовился уже уезжать. Ординарцы стояли перед ним на вытяжку и спали стоя. Спешенные эскадроны ползли по мокрым буграм. - Прижалась наша гайка, - прошептал начдив и уехал. Мы последовали за ним по дороге в Ситанец. Снова пошел дождь. Мертвые мыши поплыли по дорогам. Осень окружила засадой наши сердца, и деревья, голые мертвецы, поставленные на обе ноги, закачались на перекрестках. Мы приехали в Ситанец утром. Я был с Волковым квартирьером штаба. Он нашел для нас свободную хату у края деревни. - Вина, - сказал я хозяйке, - вина, мяса и хлеба! Старуха сидела на полу и кормила из рук спрятанную под кроватью телку. - Ниц нема, - ответила она равнодушно. - И того времени не упомню, когда было. Я сел за стол, снял с себя револьвер и заснул. Через четверть часа я открыл глаза и увидел Волкова, согнувшегося над подоконником. Он писал письмо к невесте. "Многоуважаемая Валя, - писал он, - помните ли вы меня?" Я прочитал первую строчку, потом вынул спички из кармана и поджег кучу соломы на полу. Освобожденное пламя заблестело и кинулось ко мне. Старуха легла на огонь грудью и затушила его. - Что ты делаешь, пан? - сказала старуха, и отступила в ужасе. Волков обернулся, устремил на хозяйку пустые глаза и снова принялся за письмо. - Я спалю тебя, старая, - пробормотал я, засыпая, - тебя спалю и твою краденую телку. - Чекай, - закричала хозяйка высоким голосом. Она побежала в сени и вернулась с кувшином молока и хлебом. Мы не успели съесть и половины, как во дворе застучали выстрелы. Их было множество. Они стучали долго и надоели нам. Мы кончили молоко, и Волков ушел во двор для того, чтобы узнать, в чем дело. - Я заседлал твоего коня, - сказал он мне в окошко, - моего прострочили, лучше не надо. Поляки ставят пулеметы в ста шагах. И вот на двоих у нас осталась одна лошадь. Она едва вынесла нас из Ситанца. Я сел в седло, а Волков пристроился сзади. Обозы бежали, ревели и тонули в грязи. И утро сочилось на нас, как хлороформ сочится на госпитальный стол. - Вы женаты, Лютов? - сказал вдруг Волков, сидевший сзади. - Меня бросила жена, - ответил я и задремал на несколько мгновений литературе, предназначенной для массового распространения? Мы видели, что в общем и целом требования эти удовлетворены. Освещены все области естествознания, имеющие значение для выработки правильного взгляда на мир и понимания основных законов природы, даны хорошие руководства для работы по усвоению методики познания природы, затронуто не мало чисто практических вопросов, не забыто ознакомление широких кругов с последними достижениями науки. Все книжки, за единичными исключениями ("Химия" Роско), вполне научны и свободны от вульгаризации в ущерб этой научности, большинство из них вполне доступно для мало подготовленного читателя. Целое море света и знания внесут эти книжки во мрак нашего невежества, неоценимый материал дают они учителю, лектору, пропагандисту, культурнику, и Научно-популярный Отдел, - надо признать, - несмотря на трудные условия, сумел выковать острое орудие для борьбы с нашей исконной русской темнотой. Теперь дело за нами. Печать, агитпропы, культурные учреждения и организации, парткомы, комсомол, коммунисты, культурники, учителя, одним словом все, кому дороги интересы просвещения масс, должны неустанно стремиться к тому, чтобы эти книги дошли до масс, попали в каждую фабрично-заводскую, сельскую и красноармейскую библиотеку, были бы под руками у каждого учителя. Мало еще сделано нами в этом направлении, долго еще остаются прекрасные книги валяться на полках книжных магазинов, иной раз непонятно долго ищут они даже эти полки, но будем надеяться, что мы, наконец, расшевелимся и издания Научно-популярного Отдела найдут своего читателя. Они стоят того. МОЙ ПЕРВЫЙ ГУСЬ. [Из книги КОНАРМИЯ] Тимошенко, начдив шесть, встал, завидев меня, и я несказанно удивился красоте гигантского его тела. Он встал и пурпуром своих рейтуз, малиновой шапченкой, сбитой на бок, орденами, вколоченными в грудь, разрезал губу пополам, как штандарт разрезает небо. От него пахло недосягаемыми духами и приторной прохладой мыла. Длинные ноги его были похожи на девушек, закованных до плеч в блистающие ботфорты. Он улыбнулся мне, ударил хлыстом по столу и вдруг потянул к себе приказ, только что отдиктованный начальником штаба. Это был приказ Ивану Чеснокову выступать с вверенным ему полком в направлении Чугунов-Добрыводка и войдя в соприкосновение с неприятелем, такового уничтожить. ...каковое уничтожение, - стал писать начдив и измарал весь лист, - возлагаю на ответственность того же Чеснокова вплоть до высшей меры, которого и шлепну на месте, в чем вы товарищ Чесноков, работая со мною на фронтах не первый месяц, не можете сомневаться... Начдив шесть подписал приказ с завитушкой, бросил его ординарцам и повернул ко мне серые глаза, в которых танцовало веселье. - Сказывай, - крикнул он и рассек воздух хлыстом. Потом он прочитал бумагу о прикомандировании меня к штабу дивизии. - Провести приказом, - сказал начдив, - провести приказом и зачислить на всякое удовольствие кроме переднего. Ты грамотный? - Грамотный, - ответил я, завидуя железу и цветам этой юности. - Кандидат прав Петербургского университета. - Ты из киндербальзамов - закричал он, смеясь, - и очки на носу... Какой паршивенький... Шлют вас не спросясь, - а тут режут за очки... Поживешь с нами, что-ль? - Поживу, - ответил я и пошел с квартирьером на село искать ночлега. Квартирьер нес на плечах мой котелок, деревенская улица лежала перед нами, круглая и желтая, как тыква, умирающее солнце испускало на небе свой розовый дух. Мы подошли к хате с расписанными венцами, квартирьер остановился и сказал вдруг с недоумением: - Канитель тут у нас с очками и унять нельзя. Человек высшего отличия - из него здесь душа вон. А пограбь вы мало-мало или испорть даму, самую чистенькую даму, - тогда вам от бойцов ласка... Он помялся с моим сундучком на плечах, подошел ко мне совсем близко, потом отскочил, полный отчаяния, и побежал в первый двор. Казаки сидели там на сене и брили друг друга. - Вот бойцы, - сказал квартирьер и поставил на землю мой сундучок - согласно приказания товарища Тимошенки обязаны вы принять этого человека до себя в помещение и без глупостев, потому этот человек, пострадавший по ученой части. Квартирьер побагровел и ушел не оборачиваясь. Я приложил руку к козырьку и отдал честь казакам. Молодой парень с льняными висячими волосами и с прекрасным рязанским лицом подошел к моему сундучку и выбросил его за ворота. Потом он повернулся ко мне задом и с особенной сноровкой стал издавать постыдные звуки. - Орудия номер два нуля, - крикнул ему казак постарше и засмеялся, - крой беглым. Парень истощил нехитрое свое уменье и отошел. Тогда ползая по земле, я стал собирать рукописи и дырявые мои обноски, вывалившиеся из чемодана. Я собрал их и отнес на другой конец двора. У хаты на кирпичиках стоял котел, в нем варилась свинина, она дымилась, как дымится издалека родной дом в деревне и путала во мне голод с одиночеством без примера. Я покрыл сеном разбитый мой сундочок, сделал из него изголовье и лег на землю, чтобы прочесть в Правде речь Ленина на втором конгрессе Коминтерна. Солнце падало на меня из зубчатых пригорков, казаки ходили по моим ногам, парень потешался надо мной без устали и излюбленные строчки шли ко мне тернистой дорогой и не могли дойти. Тогда я отложил газеты и пошел к хозяйке, сучившей пряжу на крыльце. - Хозяйка, - сказал я, - мне жрать надо. Старуха подняла на меня расплывшиеся белки полуослепших глаз и опустила их снова. - Товарищ, - сказала она помолчав - от этих дел я желаю повеситься. - Господа бога душу мать, - пробормотал я тогда с досадой и толкнул старуху кулаком в грудь - толковать тут с вами... И отвернувшись я увидел чужую саблю, валявшуюся неподалеку. Строгий гусь шатался по двору и безмятежно чистил перья. Я догнал его и пригнул к земле, гусиная головка треснула под моим сапогом, треснула и потекла. Белая шея была разостлана в навозе и крылья заходили над убитой птицей. - Господа бога душу мать, - сказал я, копаясь в гусе саблей, - изжарь мне его хозяйка... Старуха, блестя слепотой и очками подняла птицу, завернула ее в передник и потащила к кухне. - Товарищ, - сказала она помолчав, - я желаю повеситься, - и закрыла за собой дверь. Казаки сидели уже вокруг своего котелка. Они сидели недвижимые, прямые, как жрецы, и не смотрели на гуся. - Подходяще, - сказал один из них и зачерпнул ложкой щи. И они стали ужинать с сдержанным изяществом мужиков, уважающих друг друга. А я вытер саблю песком и вышел за ворота и вернулся снова томясь. Луна висела уже над двором как дешевая серьга. - Братишка, - сказал мне вдруг Суровков, старший из казаков, - садись с нами снедать, покеле твой гусь доспеет. Он вынул из сапога запасную ложку и подал ее мне. Мы похлебали самодельных щей и съели свинину. - В газете-то што пишут? - спросил парень с льняным волосом и опростал мне место. - В газете Ленин пишет, - сказал я, вытаскивая Правду, - Ленин пишет, что во всем у нас недостача. И громко, как торжествующий глухой, я прочитал казакам ленинскую речь. Вечер завернул меня в живительную влагу сумрачных своих простынь, вечер приложил материнские ладони к пылающему моему лбу. Я читал и ликовал и подстерегал, ликуя, таинственную кривую ленинской прямой. - Правда всякую ноздрю щекочет, - сказал Суровков, когда я кончил, - да как ее из кучи вытащишь? А он бьет сразу, как курица по зерну. Это сказал о Ленине Суровков, взводный штабного эскадрона и потом мы пошли спать на сеновале. Мы спали шестеро там, согреваясь друг от друга с перепутанными ногами, под дырявой крышей, пропускавшей звезды. Я видел сны и женщин во сне и только сердце мое, обагренное убийством, скрипело и текло. Письмо. Вот письмо на родину, продиктованное мне Курдюковым. Оно не заслуживает забвения. Я переписал его, не приукрашивая, и передаю дословно, в согласии с истиной. - Любезная мама Евдокия Федоровна. В первых строках сего письма спешу вас уведомить, что благодаря господа, я есть жив и здоров, чего желаю от вас слыхать то же самое. А также нижающе вам кланяюсь от бела лица до сырой земли,.. (следует перечисление родственников, крестных, кумовьев. Опустим это. Перейдем ко второму абзацу). - Любезная мама, Евдокия Федоровна Курдюкова. Спешу вам писать, что я нахожусь в красной Конной армии товарища Буденого, а также тут находится ваш кум Никон Васильич, который есть в настоящее время красный герой. Они взяли меня к себе, в экспедицию Политотдела, где мы развозим на позиции литературу и газеты - Московские Известия Цик, Московская Правда и родную беспощадную газету Красный Кавалерист, которую всякий боец на передовой позиции желает прочитать и опосля этого он с геройским духом рубает подлую шляхту и я живу при Никон Васильиче очень великолепно. - Любезная мама, Евдокия Федоровна. Пришлите чего можете от вашей силы-возможности. Просю вас заколоть рябого кабанчика и сделать мне посылку в Политотдел товарища Буденого, получить Василию Курдюкову. Кажные сутки я ложуся отдыхать не евши и безо всякой одежи, так что дюже холодно. Напишите мне письмо за моего Степу, живой он или нет, просю вас досматривайте до него и напишите мне за него - засекается он еще или перестал, а также насчет чесотки в передних ногах, подковали его или нет. Просю вас, любезная мама Евдокия Федоровна, обмывайте ему беспременно передние ноги с мылом, которое я оставил за образами, а если папаша мыло истребили так купите в Краснодаре и бог вас не оставит. Могу вам писать также, что здеся страна совсем бедная, мужики со своими конями хоронятся от наших красных орлов по лесам, пшеницы видать мало и она ужасно мелкая, мы с нее смеемся. Хозяева сеют рожь и то же самое овес. На палках здеся растет хмель, так что выходит очень аккуратно; из него гонют самогон. Во вторых строках сего письма спешу вам описать за папашу, что они порубали брата Федора Тимофеича Курдюкова тому назад с год времени. Наша красная бригада товарища Апанасенки наступала на город Ростов, когда в наших рядах произошла измена. А папаша были в тое время у Деникина за командира роты. Которые люди их видали, - то говорили, что они носили на себе медали, как при старом режиме. И по случаю той измены всех нас побрали в плен и брат Федор Тимофеич попались папаше на глаза. И папаша начали Федю резать, говоря - шкура, красная собака, сукин сын и разно и резали до темноты, пока брат Федор Тимофеич не кончился. Я написал тогда до вас письмо, как ваш Федя лежит без креста. Но папаша пымали меня с письмом и говорили: вы материны дети, вы ейный корень, потаскухин, я вашу матку брюхатил и буду брюхатить, моя жизнь погибшая, изведу я за правду свое семя и еще разно. Я принимал от них страдания, как спаситель Исус Христос. Только в скорости я от папаши убег и прибился до своей части товарища Апанасенки. И наша бригада получила приказание итти в город Воронеж пополняться и мы получили там пополнение, а также коней, сумки, ноганы и все что до нас принадлежало. За Воронеж могу вам описать, любезная мама Евдокия Федоровна, что это городок очень великолепный, будет поболе Краснодара, люди в ем очень красивы, речка способная до купанья. Давали нам хлеба по два фунта в день, мяса пол фунта и сахару подходяще, так что вставши пили сладкий чай, то же самое вечеряли и про голод забыли, а в обед я ходил к брату Семен Тимофеичу за блинами или гусятиной и опосля этого лягал отдыхать. В тое время Семен Тимофеича за его отчаянность весь полк желал иметь за командира и от товарища Буденого вышло такое приказание и он получил двух коней, справную одежу, телегу для барахла отдельно и орден Красного Знамени, и я при ем считался братом. Таперича какой сосед вас начнет забижать - то Семен Тимофеич может его вполне зарезать. Потом мы начали гнать генерала Деникина, порезали их тыщи и загнали в Черное море, но только папаши нигде не был о видать и Семен Тимофеич их разыскивали по всех позициях, потому что они очень скучали за братом Федей. Но только, любезная мама, как вы знаете, за папашу и за его упорный характер, так он что сделал - нахально покрасил себе бороду с рыжей на вороную и находился в городе Майкоп в вольной одеже, так что никто из жителей не знал, что он есть самый что ни на есть стражник при старом режиме. Но только правда - она себя окажет, кум ваш Никон Васильич случаем увидал его в хате у жителя и написал до Семен Тимофеича письмо. Мы посидали на коней и пробегли двести верст - я, брат Сенька и желающие ребята из станицы. И что же мы увидали в городе Майкопе? Мы увидали, что тыл никак не сочувствует фронту и в ем повсюду измена и полно жидов, как при старом режиме. И Семен Тимофеич в городе Майкопе с жидами здорово спорился, которые не выпущали от себя папашу и засадили его в тюрьму под замок, говоря - пришел приказ товарища Троцкого не рубать пленых, мы сами его будем судить, не серчайте, он свое получит. Но только Семен Тимофеич свое взял и доказал, то он есть командир полка и имеет от товарища Буденого все ордена Красного Знамени и грозился всех порубать, которые спорятся за папашину личность и не выдают ее, и также грозились ребята со станицы. Но только Семен Тимофеич папашу получили и они стали папашу плетить и выстроили во дворе всех бойцев, как принадлежит к военому порядку. И тогда Сенька плеснул папаше Тимофей Родионычу воды на бороду и с бороды потекла краска. И Сенька спросил Тимофей Родионыча: - Хорошо вам, папаша, в моих руках? - Нет, сказали папаша, - худо мне. Тогда Сенька спросил: - А Феде, когда вы его резали, хорошо было в ваших руках? - Нет, сказали папаша, - худо было Феде. Тогда Сенька спросил: - А думали вы, папаша, что и вам худо будет? - Нет, сказали папаша, - не думал я, что мне худо будет. Тогда Сенька поворотился к народу и сказал: - А я так думаю, что если попадусь я к вашим, то не будет мне пощады. А теперь, папаша, мы будем вас кончать. И Тимофей Родионыч зачал нахально ругать Сеньку по матушке и в Богородицу и бить Сеньку по морде и Семен Тимофеич услали меня со двора. Так что я не могу, любезная мама, Евдокия Федоровна, описать вам за то, как кончали, папашу, потому я был усланый со двора. Опосля этого мы получили стоянку в городе в Новороссийском. За этот город можно рассказать, что за ним никакой суши больше нет, а одна вода, Черное море, и мы там оставалися до самого мая, когда выступили на польский фронт и треплем шляхту почем зря... Остаюсь ваш любезный сын Василий Тимофеич Курдюков. Мамка, доглядайте до Степки и бог вас не оставит. Вот письмо Курдюкова, ни в одном слове не измененное. Когда я кончил - он взял исписанный листок и спрятал его за пазуху, на голое тело. - Курдюков, - спросил я мальчика, - злой у тебя был отец? - Отец у меня был кобель, - ответил он угрюмо. - А мать лучше? - Мать подходящая. Если желаешь вот наша фамилия... Он протянул мне сломанную фотографию. На ней был изображен Тимофей Курдюков, плечистый стражник в форменном картузе и с расчесанной бородой, недвижимый, скуластый, с сверкающим взглядом бесцветных и бессмысленных глаз. Рядом с ним, в бамбуковом креслице мерцала крохотная крестьянка в выпущенной кофте с чахлыми, светлыми и застенчивыми чертами лица. А у стены, у этого жалкого провинциального фотографического фона с цветами и голубями высились два парня - чудовищно огромные, тупые, широколицые, лупоглазые, застывшие, как на ученьи, два брата Курдюковых - Федор и Семен. Смерть Долгушова. Завесы боя придвигались к городу. В полдень пролетел мимо нас Корочаев в черной бурке - опальный начдив 4, сражающийся в одиночку и ищущий смерти. Он крикнул мне на бегу: - Коммуникации наши порваны, Радзивилов и Броды в огне. И ускакал - развевающийся, весь черный, с угольными зрачками. На равнине, гладкой, как доска, перестраивались бригады. Солнце катилось в багровой пыли. Раненые закусывали в канавах. Сестры милосердия лежали на траве и вполголоса пели. Афонькины разведчики рыскали по полю, выискивая мертвецов и обмундирование. Афонька проехал в двух шагах от меня и сказал, не поворачивая головы: - Набили нам ряжку. Дважды два. Есть думка за начдива, смещают. Сомневаются бойцы... Поляки подошли к лесу, верстах в трех от нас и поставили пулеметы где-то близко. Пули скулят и взвизгивают. Жалоба их наростает невыносимо. Пули подстреливают землю и роются в ней, дрожа от нетерпения. Вытягайченко, командир полка, храпевший на солнцепеке, закричал во сне и проснулся. Он сел на коня и поехал к головному эскадрону. Лицо его было мятое, в красных полосах от неудобного сна, а карманы полны слив. - Сукиного сына, - сказал он сердито и выплюнул изо рта косточки, - вот гадкая канитель. Тимошка, выкидай флаг. - Пойдем, что-ль, - спросил Тимошка, вынимая древко из стремян и размотал знамя, на котором была нарисована звезда и написано про III Интернационал. - Там видать будет, - сказал Вытягайченко и вдруг закричал дико: - Девки, сидай на коников. Скликай людей, эскадронные... Трубачи проиграли тревогу. Эскадроны построились в колонну. Из канавы вылез раненый и, прикрываясь ладонью, сказал Вытягайченке: - Тарас Григорьевич, я есть делегат, видать вроде того, что останемся мы... - Отобьетесь... - пробормотал Вытягайченко и поднял коня на дыбы. - Есть такая надея у нас, Тарас Григорьевич, что не отобьемся, - сказал раненый ему вслед. - Не канючь - обернулся Вытягайченко, - небось не оставлю - и скомандовал повод. И тотчас же зазвенел плачущий и бабий голос Афоньки Биды, моего друга: - Не переводи ты с места на рыся, Тарас Григорьевич, до его пять верст бежать, как будешь рубать, когда у нас лошади замореные... Хапать нечего - поспеешь к богородице груши околачивать... - Шагом, - скомандовал Вытягайченко, не поднимая глаз. Полк ушел. - Если думка за начдива правильная, прошептал Афонька задерживаясь, - если смещают, тогда мыли холку и выбивай подпорки. Точка. Слезы потекли у него из глаз. Я уставился на Афоньку в несказанном изумлении. Он закрутился волчком, схватился за шапку, захрипел, гикнул и умчался. Грищук со своей глупой тачанкой да я - мы остались одни и до вечера мотались между огненных стен. Штаб дивизии исчез. Чужие части не принимали нас. Поляки вошли в Броды и были выбиты контр-атакой. Мы подъехали к городскому кладбищу. Из-за могил выскочил польский разъезд и, вскинув винтовки, стал бить по нас. Грищук повернул. Тачанка его вопила всеми четырьмя своими колесами. - Грищук - крикнул я сквозь свист и ветер. - Баловство, - ответил он печально. - Пропадаем, - воскликнул я, охваченный гибельным восторгом, - пропадаем, отец. - Зачем бабы трудаются, - ответил он еще печальнее - зачем сватания, венчания, зачем кумы на свадьбах гуляют?.. В небе засиял розовый хвост и погас. Млечный путь проступил между звездами. - Смеха мне - сказал Грищук горестно и показал кнутом на человека, сидевшего при дороге, - смеха мне, зачем бабы трудаются... Человек, сидевший при дороге, был Долгушов, телефонист. Разбросав ноги, он смотрел на нас в упор. - Я вот что - сказал Долгушов, когда мы подъехали - я кончусь. Понятно? - Понятно, - ответил Грищук, останавливая лошадей. - Патрон на меня надо стратить, сказал Долгушов строго. Он сидел прислонившись к дереву. Сапоги его торчали врозь. Не спуская с меня глаз, он бережно отвернул рубаху. Живот у него был вырван, кишки ползли на колени и удары сердца были видны. - Наскочит шляхта - насмешку сделает. Вот документ, матери отпишешь, как и что. - Нет, - ответил я глухо и дал коню шпоры. Долгушов разложил по земле синие ладони и осмотрел их недоверчиво. - Бежишь - пробормотал он сползая - беги, гад. Испарина ползла по моему телу. Пулеметы отстукивали все быстрее, с истерическим упрямством. Обведенный нимбом заката к нам скакал Афонька Бида. - По малости чешем, - закричал он весело - что у вас тут за ярмарка? Я показал ему на Долгушова и отъехал. Они говорили коротко. Я не слышал слов. Долгушов протянул взводному свою книжку. Афонька спрятал ее в сапог и выстрелил Долгушову в рот. - Афоня - сказал я с жалкой улыбкой и подъехал к козаку - а я вот не смог. - Уйди, - ответил он бледнея - убью. Жалеете вы, очкастые, нашего брата, как кошка мышку. И взвел курок. Я поехал шагом, не оборачиваясь, чувствуя спиной холод и смерть. - Вона - закричал сзади Грищук, - не дури, - и схватил Афоньку за руку. - Холуйская кровь - крикнул Афонька, - он от моей руки не уйдет. Грищук нагнал меня у поворота. Афоньки не было. Он уехал в другую сторону. - Вот видишь, Грищук, - сказал я - сегодня я потерял Афоньку, первого моего друга. Грищук вынул из сиденья сморщенное яблоко. - Кушай - сказал он мне - кушай, пожалуйста. И я принял милостыню от него, от Грищука, и съел его яблоко с грустью и благоговением. Дьяков. На деревне стон стоит. Конница травит хлеба и меняет лошадей. Взамен приставших кляч кавалеристы забирают рабочую скотину. Бранить тут некого. Без лошади нет армии. У здания штаба неотступно толпятся крестьяне. Они тащут на веревках упирающихся, скользящих от слабости одров. Лишенные кормильцев мужики - чувствуя в себе прилив горькой храбрости и зная, что храбрости не надолго хватит, спешат, безо всякой надежды, надерзить начальству, богу и своей жалкой доле. Начальник штаба в полной форме стоит на крыльце. Прикрыв воспаленные веки, он с видимым вниманием слушает мужичьи жалобы. Но внимание его не более, как прием. Ж. как всякий вышколенный и переутомившийся работник, умеет в пустые минуты существования полностью прекратить мозговую работу. В эти немногие минуты коровьего блаженного бессмыслия, он встряхивает изношенную машину. Так и на этот раз с мужиками. Под успокоительный аккомпанимент их бессвязного и отчаянного гула, Ж. следит со стороны за той мягкой толкотней в мозгу, которая предвещает чистоту и энергию мысли. Дождавшись этого перебоя в темпе, он ухватывает последнюю мужичью слезу, начальственно огрызается и уходит к себе в штаб работать. На этот раз и огрызнуться не пришлось. На огненном своем англо-арабе подскакал к крыльцу Дьяков, бывший цирковой атлет, а ныне начальник конского запаса - краснорожий, седоусый, в черном плаще и с серебряными лампасами вдоль красных шаровар. - Честным стервам игуменье благословенье, - прокричал он, осаживая коня на карьере и тотчас же к нему под стремя подвалилась облезлая лошаденка, одна из обмененных козаками. - Вон, товарищ начальник - завопил мужик, хлопая себя по штанам - вон чего ваш брат дает нашему брату... Видал, чего дают. Хозяйствуй на ей. - А за этого коня, - раздельно и веско начал тогда Дьяков, - за этого коня, почтенный друг, ты в полном своем праве получить в конском запасе пятнадцать тысяч рублей, а ежели этот конь был бы повеселее, то в ефтим случае, ты получил бы желанный друг, в конском запасе двадцать тысяч рублей. Но, однако, что конь упал - это не хвакт. Ежели конь упал и поднимется, - то это конь, ежели он, обратно сказать, не подымется, тогда это не конь. Но, между прочим, эта справная кобылка у меня подымется... - О, Господи, мамуня же ты моя всемилостивая, - взмахнул руками мужик, - где ей сироте, подняться... Она, сирота, подохнет... - Обижаешь коня, кум, - с глубоким убеждением ответили Дьяков, - прямо таки богохульствуешь, кум, - и он ловко снял с седла свое статное тело атлета. Расправляя прекрасные ноги, схваченные в коленях ремешком, пышный и ловкий, как на сцене, он двинулся к издыхающему животному. Оно уныло уставилось в Дьякова своим крутым, глубоким глазом, слизнуло с его малиновой ладони какое-то невидимое повеление и тотчас же обессиленная лошадь почувствовала умелую силу, истекавшую от этого седого, цветущего и молодцеватого Ромео. Поводя мордой и скользя подламывающимися ногами, ощущая нетерпеливое и властное щекотание хлыста под брюхом - кляча медленно и внимательно становилась на ноги. И вот все мы увидели, как тонкая кисть в развевающемся рукаве потрепала грязную гриву и хлыст со стоном прильнул к кровоточащим бокам. Дрожа всем телом, кляча стояла на своих на четырех и не сводила с Дьякова собачьих, боязливых и влюбленных глаз. - Значит, что конь - сказал Дьяков мужику и добавил мягко, - а ты жалился, желанный друг... Бросив ординарцу поводья, начальник конзапаса взял с маху четыре ступеньки, и взметнув оперным плащем, исчез в здании штаба. Колесников. Буденый в красных штанах с серебряным лампасом стоял у дерева. Только что убили комбрига 2. На его место командарм назначили Колесникова. Час тому назад Колесников был командиром полка. Неделю тому назад Колесников был командиром эскадрона. Нового бригадного вызвали к Буденому. Командарм ждал его, стоя у дерева. Колесников приехал с Гришиным, своим комиссаром. - Жмет нас гад, - сказал командарм с ослепительной своей усмешкой. Победим, или подохнем. Иначе - никак. Понял? - Понял, - ответил Колесников, выпучив глаза. - А побежишь - расстреляю, - сказал командарм, улыбнулся и отвел глаза в сторону начальника особого отдела. - Слушаю, - сказал начальник особого отдела. - Катись, Колесо, - бодро крикнул какой-то казак со стороны. Буденый стремительно повернулся на каблуках и отдал честь новому комбригу. Тот растопырил у козырька пять красных юношеских пальцев, вспотел и ушел по распаханой меже. Лошади ждали его в ста саженях. Он шел, опустив голову и с томительной медленностью перебирал кривыми и длинными ногами. Пылание заката разлилось над ним, малиновое и неправдоподобное, как надвигающаяся смерть. И вдруг - на распростершейся земле, на развороченой и желтой наготе полей мы увидели ее одну - узкую спину Колесникова с болтающимися руками и с упавшей головой в сером картузе. Ординарец подвел ему коня. Он вскочил в седло и поскакал к своей бригаде, не оборачиваясь. Эскадроны ждали его у большой дороги, у Бродского шляха. Стонущее "ура", разорванное ветром, донеслось до нас. Наведя бинокль, я увидел комбрига, вертевшегося на лошади в столбах голубой пыли. - Колесников повел бригаду, - сказал наблюдатель, сидевший над нашими головами, на дереве. - Есть, - ответил Буденый. И в это мгновение первый польский снаряд стал чертить над нами свой завывающий полет. - Идут рысью, - сказал наблюдатель. - Есть, - ответил Буденый, закурил папиросу и закрыл глаза. Ура, едва слышное, удалялось от нас, как нежная песнь. - Идут карьером, - сказал наблюдатель, пошевелив ветвями. Буденый курил, не открывая глаз. Канонада пылила, разросталась, сияла молниями, заволакивала своды, ковала их ударами и громом. - Бригада атакует неприятеля, - пропел наблюдатель там вверху. Ура смолкло. Канонада задохлась. Ненужная шрапнель лопнула над лесом. И мы услышали великое безмолвие рубки. - Душевный малый, - сказал командарм, вставая. - Ищет чести. Надо полагать - вытянет. И потребовав лошадей, Буденый уехал к месту боя. Штаб двинулся за ним. Колесникова мне довелось увидеть в тот же вечер, через час после того, как поляки были уничтожены. Он ехал впереди своей бригады - один - на буланом жеребце невиданной красоты и дремал. Правая рука его висела на перевязи. В десяти шагах от него конный казак вез развернутое знамя. Головной эскадрон лениво запевал похабные куплеты. Бригада тянулась пыльная и бесконечная, как крестьянские возы на ярмарку. В хвосте пыхтели усталые оркестры. В тот вечер, в посадке Колесникова я увидел властительное равнодушие татарского хана и распознал выучку прославленного Книги, своевольного Апанасенки, пленительного Тимошенки. Прищепа. Пробираюсь в Лешнюв, где расположился штаб дивизии. Попутчик мой попрежнему Прищепа - молодой кубанец, неутомительный хам, вычищенный коммунист, будущий барахольщик, беспечный сифилитик, неторопливый враль. На нем малиновая черкеска из тонкого сукна и пуховый башлык, закинутый за спину. По дороге он рассказывал о себе. Мне не забыть его рассказа. Год тому назад Прищепа бежал от белых. В отместку они взяли заложниками его родителей и убили их в контр-разведке. Имущество расхитили соседи. Когда белых прогнали с Кубани, Прищепа вернулся в родную станицу. Было утро, рассвет, мужичий сон вздыхал в прокисшей духоте. Прищепа подрядил казенную телегу и пошел по станице собирать свои граммофоны, жбаны для кваса и расшитые матерью полотенца. Он вышел на улицу в черной бурке с кривым кинжалом за поясом, телега плелась сзади. Прищепа ходил от одного соседа к другому и кровавая печать его подошв тянулась за ним следом. В тех хатах, где казак находил вещи матери или чубук отца, - он оставлял подколотых старух, собак, повешенных над колодцем, и иконы, загаженные пометом. Станичники, раскуривая трубки, угрюмо следили его путь. Молодые казаки рассыпались в степи и вели счет. Счет разбухал и станица молчала. Кончив - Прищепа вернулся в опустошенный отчий дом. Отбитую мебель он расставил в порядке, который был ему памятен с детства и послал за водкой. Запершись в хате он пил двое суток, пел, плакал и рубил шашкой столы. На третью ночь станица увидела дым над избой Прищепы. Опаленный и рваный, виляя ногами, он вывел из стойла корову, вложил ей в рот револьвер и выстрелил. Земля курилась под ним, голубое кольцо пламени вылетело из трубы и растаяло, в конюшне зарыдал оставленный бычок. Пожар сиял, как воскресенье. Прищепа отвязал коня, прыгнул в седло, бросил в огонь прядь своих волос и сгинул. Соль. "Дорогой товарищ редактор. Хочу описать вам за несознательных женщин, которые нам вредные. Надеюся на вас, что вы, объезжая гражданские фронты, которые брали под заметку, не миновали закоренелую станцию Фастов, находящуюся за тридевять земель, в некотором государстве, на неведомом пространстве, я там, конечно, был, самогон-пиво пил, усы обмочило, в рот не заскочило. Про эту вышеизложенную станцию есть много кой чего писать, но как говорится в нашем простом быту - господнего дерьма не перетаскать. Поэтому опишу вам только за то, что мои глаза собственноручно видели. Была тихая славная ночка семь ден тому назад, когда наш заслуженный поезд Конармии остановился там груженый бойцами. Все мы горели способствовать общему делу и имели направление на Бердичев. Но только замечаем, что поезд наш никак не отваливает, Гаврилка наш не крутит и бойцы стали сомневаться, переговариваясь между собой - в чем тут остановка? И действительно, остановка для общего дела вышла громадная по случаю того, что мешечники, эти злые враги, среди которых находилась также несметная сила женского полу, нахальным образом поступали с железнодорожной властью. Безбоязненно ухватились они за поручни, эти злые враги, на рысях пробегали по железных крышах, коловоротили, мутили и в каждых руках фигурировала небезызвестная соль, доходя до пяти пудов в мешке. Но недолго длилось торжество капитала мешечников. Инициатива бойцов, повылазивших из вагона, дала возможность поруганной власти железнодорожников вздохнуть грудью. Один только женский пол со своими торбами остался в окрестностях. Имея сожаление, бойцы которых женщин посадили по теплушкам, а которых не посадили. Также и в нашем вагоне второго взвода оказались налицо две девицы, а пробивши первый звонок, подходит к нам представительная женщина с дитем, говоря: - Пустите меня, любезные казачки, всю войну я страдаю по вокзалам с грудным дитем на руках и теперь хочу иметь свидание с мужем, но по причине железной дороги ехать никак невозможно, неужели я у вас, казачки, не заслужила? - Между прочим, женщина, говорю я ей, какое будет согласие у взвода, такая получится ваша судьба. И обратившись к взводу я им доказываю, что представительная женщина просится ехать к мужу на место назначения и дите, действительно, при ней находится и какое будет ваше согласие - пускать ее или нет? - Пускай ее, - кричат ребята - опосля нас она и мужа не захочет. - Нет - говорю я ребятам довольно вежливо, - кланяюсь вам взвод, но только удивляет меня слышать от вас такую жеребятину, вспомните, взвод, вашу жизнь и как вы сами были дитями при ваших матерях и получается вроде того, что не годится так говорить. И казаки проговоривши между собой, какой он, стало-быть, Балмашев, убедительный, начали пускать женщину в вагон и она с благодарностью лезет. И каждый раскипятившись моей правдой, подсаживает ее, говоря наперебой: - Садитесь, женщина, в куток, ласкайте ваше дитя, как водится с матерями, никто вас в кутке не тронет и приедете вы, нетронутая, к вашему мужу, как это вам желательно и надеемся на вашу совесть, что вы выростите нам смену, потому что старое старится, а молодняка видать мало. Горя мы видели женщина, и на действительной и на сверхсрочной, голодом нас давнуло, холодом обожгло. А вы сидите здесь, женщина, без сомнения... И пробивши третий звонок поезд двинулся. И славная ночка раскинулась шатром. И в том шатре были звезды - каганцы. И бойцы вспомнили кубанскую ночь и зеленую кубанскую звезду. И думка полетела, как птица. А колеса тарахтят, тарахтят... По прошествии времен, когда ночь сменилась с своего поста, и красные барабанщики заиграли зорю на своих красных барабанах, тогда подступилися ко мне казаки, видя, что я сижу без сна и скучаю до последнего. - Балмашев, - говорят мне казаки - отчего ты ужасно скучный и сидишь без сна? - Низко кланяюсь вам бойцы и прошу маленького прощения, но только дозвольте мне переговорить с этой гражданкой пару слов... И задрожав всем корпусом я поднимаюсь со своей лежанки, от которой сон бежал, как волк от своры злодейских псов и подхожу до нее и беру у ней с рук дите и рву с него пеленки и тряпье и вижу по за пеленками добрый пудовик соли. - Вот антиресное дите, товарищи, которое титек не просит, на подол не мочится и людей со сна не беспокоит... - Простите, любезные казачки - встревает женщина в наш разговор очень хладнокровно, - не я обманула, лихо мое обмануло... - Балмашев простит твоему лиху - отвечаю я женщине, - Балмашеву оно немногого стоит, Балмашев за что купил за то и продает. Но оборотись к казакам, женщина, которые тебя возвысили, как трудящуюся мать в Республике. Оборотись на этих двух девиц, которые плачут в настоящее время, как пострадавшие от нас этой ночью. Оборотись на жен наших на пшеничной Кубани, которые исходят женской силой без мужей, и те, тоже самое одинокие, по злой неволе, насильничают проходящих в их жизни девушек... А тебя не трогали, хотя тебя, неподобную только и трогать. Оборотись на Рассею, задавленную болью... А она мне: - Я соли своей решилась, я правды не боюсь. Вы за Рассею не думаете, вы жидов Ленина и Троцкого спасаете. - За жидов сейчас разговора нет, вредная гражданка. Жиды сюда не касаются. Между прочим за Ленина не скажу, но Троцкий есть отчаянный сын тамбовского губернатора и вступился, хотя другого звания, за трудящийся класс. Как присужденные каторжане вытягают они нас - Ленин и Троцкий - на вольную дорогу жизни, а вы, гнусная гражданка, есть более контр-революционерка, чем тот белый генерал, который с вострой шашкой грозится нам на своем тысячном коне... Его видать, того генерала, со всех дорог и трудящийся имеет свою думку-мечту его порезать, а вас несчетная гражданка, с вашими антиресными детками, которые хлеба не просют, и до ветра не бегают - вас не видать, как блоху и вы точите, точите, точите... И я, действительно, признаю, что выбросил эту гражданку на ходу под откос, но она как очень грубая - посидела, махнула юбками и пошла своей подлой дорожкой. И увидев эту невредимую женщину и, несказанную Рассею вокруг нее, и крестьянские поля без колоса и поруганных девиц и товарищей, которые много ездют на фронт, но мало возвращаются, я захотел спрыгнуть с вагона и себе кончить или ее кончить. Но казаки имели ко мне сожаление и сказали: - Ударь ее из винта. И сняв со стенки верного винта я смыл этот позор с лица трудовой земли и Республики. И мы, бойцы второго взвода, клянемся перед вами, дорогой товарищ редактор, и пред вами, дорогие товарищи из редакции, безпощадно поступать со всеми изменниками, которые тащут нас в яму и хотят повернуть речку обратно и выстелить Рассею трупами и мертвою травой". За всех бойцов второго взвода - Никита Балмашев, солдат революции.
Исаак Бабель
КОНАРМИЯ
Переход через Збруч
Начдив шесть донес о том, что Новоград-Волынск взят сегодня на рассвете. Штаб выступил из Крапивно, и наш обоз шумливым арьергардом растянулся по шоссе, идущему от Бреста до Варшавы и построенному на мужичьих костях Николаем Первым.
Поля пурпурного мака цветут вокруг нас, полуденный ветер играет в желтеющей ржи, девственная гречиха встает на горизонте, как стена дальнего монастыря. Тихая Волынь изгибается, Волынь уходит от нас в жемчужный туман березовых рощ, она вползает в цветистые пригорки и ослабевшими руками путается в зарослях хмеля. Оранжевое солнце катится по небу, как отрубленная голова, нежный свет загорается в ущельях туч, штандарты заката веют над нашими головами. Запах вчерашней крови и убитых лошадей каплет в вечернюю прохладу. Почерневший Збруч шумит и закручивает пенистые узлы своих порогов. Мосты разрушены, и мы переезжаем реку вброд. Величавая луна лежит на волнах. Лошади по спину уходят в воду, звучные потоки сочатся между сотнями лошадиных ног. Кто-то тонет и звонко порочит богородицу. Река усеяна черными квадратами телег, она полна гула, свиста и песен, гремящих поверх лунных змей и сияющих ям.
Поздней ночью приезжаем мы в Новоград. Я нахожу беременную женщину на отведенной мне квартире и двух рыжих евреев с тонкими шеями; третий спит, укрывшись с головой и приткнувшись к стене. Я нахожу развороченные шкафы в отведенной мне комнате, обрывки женских шуб на полу, человеческий кал и черепки сокровенной посуды, употребляющейся у евреев раз в году - на пасху.
Уберите, - говорю я женщине. - Как вы грязно живете, хозяева…
Два еврея снимаются с места. Они прыгают на войлочных подошвах и убирают обломки с полу, они прыгают в безмолвии, по-обезьяньи, как японцы в цирке, их шеи пухнут и вертятся. Они кладут на пол распоротую перину, и я ложусь к стенке, рядом с третьим, заснувшим евреем. Пугливая нищета смыкается над моим ложем.
Все убито тишиной, и только луна, обхватив синими руками свою круглую, блещущую, беспечную голову, бродяжит под окном.
Я разминаю затекшие ноги, я лежу на распоротой перине и засыпаю. Начдив шесть снится мне. Он гонится на тяжелом жеребце за комбригом и всаживает ему две пули в глаза. Пули пробивают голову комбрига, и оба глаза его падают наземь. «Зачем ты поворотил бригаду?» - кричит раненому Савицкий, начдив шесть, - и тут я просыпаюсь, потому что беременная женщина шарит пальцами по моему лицу.
Пане, - говорит она мне, - вы кричите со сна и вы бросаетесь. Я постелю вам в другом углу, потому что вы толкаете моего папашу…
Она поднимает с полу худые свои ноги и круглый живот и снимает одеяло с заснувшего человека. Мертвый старик лежит там, закинувшись навзничь. Глотка его вырвана, лицо разрублено пополам, синяя кровь лежите его бороде, как кусок свинца.
Пане, - говорит еврейка и встряхивает перину, - поляки резали его, и он молился им: убейте меня на черном дворе, чтобы моя дочь не видела, как я умру. Но они сделали так, как им было нужно, - он кончался в этой комнате и думал обо мне… И теперь я хочу знать, - сказала вдруг женщина с ужасной силой, - я хочу знать, где еще на всей земле вы найдете такого отца, как мой отец…
Костел в Новограде
Я отправился вчера с докладом к военкому, остановившемуся в доме бежавшего ксендза. На кухне встретила меня пани Элиза, экономка иезуита. Она дала мне янтарного чаю с бисквитами. Бисквиты ее пахли, как распятие. Лукавый сок был заключен в них и благовонная ярость Ватикана.
Рядом с домом в костеле ревели колокола, заведенные обезумевшим звонарем. Был вечер, полный июльских звезд. Пани Элиза, тряся внимательными сединами, подсыпала мне печенья, я насладился пищей иезуитов.
Старая полька называла меня «паном», у порога стояли навытяжку серые старики с окостеневшими ушами, и где-то в змеином сумраке извивалась сутана монаха. Патер бежал, но он оставил помощника - пана Ромуальда.
Гнусавый скопец с телом исполина, Ромуальд величал нас «товарищами». Желтым пальцем водил он по карте, указывая круги польского разгрома. Охваченный хриплым восторгом, пересчитывал он раны своей родины. Пусть кроткое забвение поглотит память о Ромуальде, предавшем нас без сожаления и расстрелянном мимоходом. Но в тот вечер его узкая сутана шевелилась у всех портьер, яростно мела все дороги и усмехалась всем, кто хотел пить водку. В тот вечер тень монаха кралась за мной неотступно. Он стал бы епископом - пан Ромуальд, если бы он не был шпионом.
Я пил с ним ром, дыхание невиданного уклада мерцало под развалинами дома ксендза, и вкрадчивые его соблазны обессилили меня. О распятия, крохотные, как талисманы куртизанки, пергамент папских булл и атлас женских писем, истлевших в синем шелку жилетов!..
Я вижу тебя отсюда, неверный монах в лиловой рясе, припухлость твоих рук, твою душу, нежную и безжалостную, как душа кошки, я вижу раны твоего бога, сочащиеся семенем, благоуханным ядом, опьяняющим девственниц.
Мы пили ром, дожидаясь военкома, но он все не возвращался из штаба. Ромуальд упал в углу и заснул. Он спит и трепещет, а за окном в саду под черной страстью неба переливается аллея. Жаждущие розы колышутся во тьме. Зеленые молнии пылают в куполах. Раздетый труп валяется под откосом. И лунный блеск струится по мертвым ногам, торчащим врозь.
Вот Польша, вот надменная скорбь Речи Посполитой! Насильственный пришелец, я раскидываю вшивый тюфяк в храме, оставленном священнослужителем, подкладываю под голову фолианты, в которых напечатана осанна ясновельможному и пресветлому Начальнику Панства, Иозефу Пилсудскому.
Нищие орды катятся на твои древние города, о Польша, песнь об единении всех холопов гремит над ними, и горе тебе. Речь Посполитая, горе тебе, князь Радзивилл, и тебе, князь Сапега, вставшие на час!..
Все нет моего военкома. Я ищу его в штабе, в саду, в костеле. Ворота костела раскрыты, я вхожу, мне навстречу два серебряных черепа разгораются на крышке сломанного гроба. В испуге я бросаюсь вниз, в подземелье. Дубовая лестница ведет оттуда к алтарю. И я вижу множество огней, бегущих в высоте, у самого купола. Я вижу военкома, начальника особого отдела и казаков со свечами в руках. Они отзываются на слабый мой крик и выводят меня из подвала.
Черепа, оказавшиеся резьбой церковного катафалка, не пугают меня больше, и все вместе мы продолжаем обыск, потому что это был обыск, начатый после того, как в квартире ксендза нашли груды военного обмундирования.
Сверкая расшитыми конскими мордами наших обшлагов, перешептываясь и гремя шпорами, мы кружимся по гулкому зданию с оплывающим воском в руках. Богоматери, унизанные драгоценными камнями, следят наш путь розовыми, как у мышей, зрачками, пламя бьется в наших пальцах, и квадратные тени корчатся на статуях святого Петра, святого Франциска, святого Винцента, на их румяных щечках и курчавых бородах, раскрашенных кармином.
Мы кружимся и ищем. Под нашими пальцами прыгают костяные кнопки, раздвигаются разрезанные пополам иконы, открывая подземелья в зацветающие плесенью пещеры. Храм этот древен и полон тайны. Он скрывает в своих глянцевитых стенах потайные ходы, ниши и створки, распахивающиеся бесшумно.
О глупый ксендз, развесивший на гвоздях спасителя лифчики своих прихожанок. За царскими вратами мы нашли чемодан с золотыми монетами, сафьяновый мешок с кредитками и футляры парижских ювелиров с изумрудными перстнями.
А потом мы считали деньги в комнате военкома. Столбы золота, ковры из денег, порывистый ветер, дующий на пламя свечей, воронье безумье в глазах пани Элизы, громовый хохот Ромуальда и нескончаемый рев колоколов, заведенных паном Робацким, обезумевшим звонарем.
Прочь, - сказал я себе, - прочь от этих подмигивающих мадонн, обманутых солдатами…
Вот письмо на родину, продиктованное мне мальчиком нашей экспедиции Курдюковым. Оно не заслуживает забвения. Я переписал его, не приукрашивая, и передаю дословно, в согласии с истиной.
«Любезная мама Евдокия Федоровна. В первых строках сего письма спешу вас уведомить, что, благодаря господа, я есть жив и здоров, чего желаю от вас слыхать то же самое. А также нижающе вам кланяюсь от бела лица до сырой земли…»
(Следует перечисление родственников, крестных, кумовьев. Опустим это. Перейдем ко второму абзацу.)
«Любезная мама Евдокия Федоровна Курдюкова. Спешу вам написать, что я нахожусь в красной Конной армии товарища Буденного, а также тут находится ваш кум Никон Васильич, который есть в настоящее время красный герой. Они взяли меня к себе, в экспедицию Политотдела, где мы развозим на позиции литературу и газеты - Московские Известия ЦИК, Московская Правда и родную беспощадную газету Красный кавалерист, которую всякий боец на передовой позиции желает прочитать, и опосля этого он с геройским духом рубает подлую шляхту, и я живу при Никон Васильиче очень великолепно.
Любезная мама Евдокия Федоровна. Пришлите чего можете от вашей силы-возможности. Просю вас заколоть рябого кабанчика и сделать мне посылку в Политотдел товарища Буденного, получить Василию Курдюкову. Каждые сутки я ложусь отдыхать не евши и безо всякой одежды, так что дюже холодно. Напишите мне письмо за моего Степу, живой он или нет, просю вас досматривайте до него и напишите мне за него - засекается он еще или перестал, а также насчет чесотки в передних ногах, подковали его или нет? Просю вас, любезная мама Евдокия Федоровна, обмывайте ему беспременно передние ноги с мылом, которое я оставил за образами, а если папаша мыло истребили, так купите в Краснодаре, и бог вас не оставит. Могу вам описать также, что здеся страна совсем бедная, мужики со своими конями хоронятся от наших красных орлов по лесам, пшеницы, видать, мало и она ужасно мелкая, мы с нее смеемся. Хозяева сеют рожь и то же самое овес. На палках здесь растет хмель, так что выходит очень аккуратно; из него гонют самогон.
Во-вторых строках сего письма спешу вам описать за папашу, что они порубали брата Федора Тимофеича Курдюкова тому назад с год времени. Наша красная бригада товарища Павличенки наступала на город Ростов, когда в наших рядах произошла измена. А папаша были в тое время у Деникина за командира роты. Которые люди их видали, - то говорили, что они носили на себе медали, как при старом режиме. И по случаю той измены, всех нас побрали в плен и брат Федор Тимофеич попались папаше на глаза. И папаша начали Федю резать, говоря - шкура, красная собака, сукин сын и разно, и резали до темноты, пока брат Федор Тимофеич не кончился. Я написал тогда до вас письмо, как ваш Федя лежит без креста. Но папаша пымали меня с письмом и говорили: вы - материны дети, вы - ейный корень, потаскухин, я вашу матку брюхатил и буду брюхатить, моя жизнь погибшая, изведу я за правду свое семя, и еще разно. Я принимал от них страдания как спаситель Иисус Христос. Только вскорости я от папаши убег и прибился до своей части товарища Павличенки. И наша бригада получила приказание идти в город Воронеж пополняться, и мы получили там пополнение, а также коней, сумки, наганы, и все, что до нас принадлежало. За Воронеж могу вам описать, любезная мама Евдокия Федоровна, что это городок очень великолепный, будет поболе Краснодара, люди в ем очень красивые, речка способная до купанья. Давали нам хлеба по два фунта в день, мяса полфунта и сахару подходяще, так что вставши пили сладкий чай, то же самое вечеряли и про голод забыли, а в обед я ходил к брату Семен Тимофеичу за блинами или гусятиной и апосля этого лягал отдыхать. В тое время Семен Тимофеича, за его отчаянность весь полк желал иметь за командира и от товарища Буденного вышло такое приказание, и он получил двух коней, справную одежу, телегу для барахла отдельно и орден Красного Знамени, а я при ем считался братом. Таперича какой сосед вас начнет забижать - то Семен Тимофеич может его вполне зарезать. Потом мы начали гнать генерала Деникина, порезали их тыщи и загнали в Черное море, но только папаши нигде не было видать, и Семен Тимофеич их разыскивали по всех позициях, потому что они очень скучали за братом Федей. Но только, любезная мама, как вы знаете за папашу и за его упорный характер, так он что сделал - нахально покрасил себе бороду с рыжей на вороную и находился в городе Майкопе, в вольной одеже, так что никто из жителей не знали, что он есть самый что ни на есть стражник при старом режиме. Но только правда - она себе окажет, кум ваш Никон Васильич случаем увидал его в хате у жителя и написал до Семен Тимофеича письмо. Мы посидали на коней и пробегли двести верст - я, брат Сенька и желающие ребята из станицы.
И что же мы увидали в городе Майкопе? Мы увидали, что тыл никак не сочувствует фронту и в ем повсюду измена и полно жидов, как при старом режиме. И Семен Тимофеич в городе Майкопе с жидами здорово спорился, которые не выпущали от себя папашу и засадили его в тюрьму под замок, говоря - пришел приказ не рубать пленных, мы сами его будем судить, не серчайте, он свое получит. Но только Семен Тимофеич свое взял и доказал, что он есть командир полка и имеет от товарища Буденного все ордена Красного Знамени, и грозился всех порубать, которые спорятся за папашину личность и не выдают ее, а также грозились ребята со станицы. Но только Семен Тимофеич папашу получили, и они стали папашу плетить и выстроили во дворе всех бойцов, как принадлежит к военному порядку. И тогда Сенька плеснул папаше Тимофей Родионычу воды на бороду, и с бороды потекла краска. И Сенька спросил Тимофей Родионыча:
Хорошо вам, папаша, в моих руках?
Нет, - сказал папаша, - худо мне.
Тогда Сенька спросил:
А Феде, когда вы его резали, хорошо было в ваших руках?
Нет, - сказал папаша, - худо было Феде.
Тогда Сенька спросил:
А думали вы, папаша, что и вам худо будет?
Нет, - сказал папаша, - не думал я, что мне худо будет.
Тогда Сенька поворотился к народу и сказал:
А я так думаю, что если попадусь я к вашим, то не будет мне пощады. А теперь, папаша, мы будем вас кончать…
И Тимофей Родионыч зачал нахально ругать Сеньку по матушке и в богородицу и бить Сеньку по морде, и Семен Тимофеич услали меня со двора, так что я не могу, любезная мама Евдокия Федоровна, описать вам за то, как кончали папашу, потому я был усланный со двора.
Опосля этого мы получили стоянку в городе в Новороссийском. За этот город можно рассказать, что за ним никакой суши больше нет, а одна вода. Черное море, и мы там оставались до самого мая, когда выступили на польский фронт и треплем шляхту почем зря…
Остаюсь ваш любезный сын Василий Тимофеич Курдюков. Мамка, доглядайте до Степки, и бог вас не оставит».
Вот письмо Курдюкова, ни в одном слове не измененное. Когда я кончил, он взял исписанный листок и спрятал его за пазуху, на голое тело.
Курдюков, - спросил я мальчика, - злой у тебя был отец?
Отец у меня был кобель, - ответил он угрюмо.
А мать лучше?
Мать подходящая. Если желаешь - вот наша фамилия…
Он протянул мне сломанную фотографию. На ней был изображен Тимофей Курдюков, плечистый стражник в форменном картузе и с расчесанной бородой, недвижный, скуластый, со сверкающим взглядом бесцветных и бессмысленных глаз. Рядом с ним, в бамбуковом креслице, сидела крохотная крестьянка в выпущенной кофте, с чахлыми светлыми и застенчивыми чертами лица. А у стены, у этого жалкого провинциального фотографического фона, с цветами и голубями, высились два парня - чудовищно огромные, тупые, широколицые, лупоглазые, застывшие, как на ученье, два брата Курдюковых - Федор и Семен.
Начальник конзапаса
На деревне стон стоит. Конница травит хлеб и меняет лошадей. Взамен приставших кляч кавалеристы забирают рабочую скотину. Бранить тут некого. Без лошади нет армии.
Но крестьянам не легче от этого сознания. Крестьяне неотступно толпятся у здания штаба.
Они тащат на веревках упирающихся, скользящих от слабости одров. Лишенные кормильцев, мужики, чувствуя в себе прилив горькой храбрости и зная, что храбрости ненадолго хватит, спешат безо всякой надежды надерзить начальству, богу и своей жалкой доле.
Начальник штаба Ж. в полной форме стоит на крыльце. Прикрыв воспаленные веки, он с видимым вниманием слушает мужичьи жалобы. Но внимание его не более как прием. Как Всякий вышколенный и переутомившийся работник, он умеет в пустые минуты существования полностью прекратить мозговую работу. В эти немногие минуты блаженного бессмыслия начальник нашего штаба встряхивает изношенную машину.
Так и на этот раз с мужиками.
Под успокоительный аккомпанемент их бессвязного и отчаянного гула Ж. следит со стороны за той мягкой толкотней в мозгу, которая предвещает чистоту и энергию мысли. Дождавшись нужного перебоя, он ухватывает последнюю мужичью слезу, начальственно огрызается и уходит к себе в штаб работать.
На этот раз и огрызнуться не пришлось. На огненном англоарабе подскакал к крыльцу Дьяков, бывший цирковой атлет, а ныне начальник конского запаса - краснокожий, седоусый, в черном плаще и с серебряными лампасами вдоль красных шаровар.
Честным стервам игуменье благословенье! - прокричал он, осаживая коня на карьере, и в то же мгновенье к нему под стремя подвалилась облезлая лошаденка, одна из обмененных казаками.
Вон, товарищ начальник, - завопил мужик, хлопая себя по штанам, - вон чего ваш брат дает нашему брату… Видал, чего дают? Хозяйствуй на ей…
А за этого коня, - раздельно и веско начал тогда Дьяков, - за этого коня, почтенный друг, ты в полном своем праве получить в конском запасе пятнадцать тысяч рублей, а ежели этот конь был бы повеселее, то в ефтим случае ты получил бы, желанный друг, в конском запасе двадцать тысяч рублей. Но, однако, что конь упал, - это не хвакт. Ежели конь упал и подымается, то это - конь; ежели он, обратно сказать, не подымается, тогда это не конь. Но, между прочим, эта справная кобылка у меня подымется…
О господи, мамуня же ты моя всемилостивая! - взмахнул руками мужик. - Где ей, сироте, подняться… Она, сирота, подохнет…
Обижаешь коня, кум, - с глубоким убеждением ответил Дьяков, - прямо-таки богохульствуешь, кум, - и он ловко снял с седла свое статное тело атлета. Расправляя прекрасные ноги, схваченные в коленях ремешком, пышный и ловкий, как на сцене, он двинулся к издыхающему животному. Оно уныло уставилось на Дьякова своим крутым глубоким глазом, слизнуло с его малиновой ладони невидимое какое-то повеление, и тотчас же обессиленная лошадь почувствовала умелую силу, истекавшую от этого седого, цветущего и молодцеватого Ромео. Поводя мордой и скользя подламывающимися ногами, ощущая нетерпеливое и властное щекотание хлыста под брюхом, кляча медленно, внимательно становилась на ноги. И вот все мы увидели, как тонкая кисть в развевающемся рукаве потрепала грязную гриву и хлыст со стоном прильнул к кровоточащим бокам. Дрожа всем телом, кляча стояла на своих на четырех и не сводила с Дьякова собачьих, боязливых, влюбляющихся глаз.
Значит, что конь, - сказал Дьяков мужику и добавил мягко: - а ты жалился, желанный друг…
Бросив ординарцу поводья, начальник конзапаса взял с маху четыре ступеньки и, взметнув оперным плащом, исчез в здании штаба.
Пан Аполек
Прелестная и мудрая жизнь пана Аполека ударила мне в голову, как старое вино. В Новоград-Волынске, в наспех смятом городе, среди скрюченных развалин, судьба бросила мне под ноги укрытое от мира евангелие. Окруженный простодушным сиянием нимбов, я дал тогда обет следовать примеру пана Аполека. И сладость мечтательной злобы, горькое презрение к псам и свиньям человечества, огонь молчаливого и упоительного мщения - я принес их в жертву новому обету.
В квартире бежавшего новоградского ксендза висела высоко на стене икона. На ней была надпись: «Смерть Крестителя». Не колеблясь, признал я в Иоанне изображение человека, мною виденного когда-то.
Я помню: между прямых и светлых стен стояла паутинная тишина летнего утра. У подножия картины был положен солнцем прямой луч. В нем роилась блещущая пыль. Прямо на меня из синей глубины ниши спускалась длинная фигура Иоанна. Черный плащ торжественно висел на этом неумолимом теле, отвратительно худом. Капли крови блистали в круглых застежках плаща. Голова Иоанна была косо срезана с ободранной шеи. Она лежала на глиняном блюде, крепко взятом большими желтыми пальцами воина. Лицо мертвеца показалось мне знакомым. Предвестие тайны коснулось меня. На глиняном блюде лежала мертвая голова, списанная с пана Ромуальда, помощника бежавшего ксендза. Из оскаленного рта его, цветисто сверкая чешуей, свисало крохотное туловище змеи. Ее головка, нежно-розовая, полная оживления, могущественно оттеняла глубокий фон плаща.
Я подивился искусству живописца, мрачной его выдумке. Тем удивительнее показалась мне на следующий день краснощекая богоматерь, висевшая над супружеской кроватью пани Элизы, экономки старого ксендза. На обоих полотнах лежала печать одной кисти. Мясистое лицо богоматери - это был портрет пани Элизы. И тут я приблизился к разгадке новоградских икон. Разгадка вела на кухню к пани Элизе, где душистыми вечерами собирались тени старой холопской Польши, с юродивым художником во главе. Но был ли юродивым пан Аполек, населивший ангелами пригородные села и произведший в святые хромого выкреста Янека?
Он пришел сюда со слепым Готфридом тридцать лет тому назад в невидный летний день. Приятели - Аполек и Готфрид - подошли к корчме Шмереля, что стоит на Ровненском шоссе, в двух верстах от городской черты. В правой руке у Аполека был ящик с красками, левой он вел слепого гармониста. Певучий шаг их немецких башмаков, окованных гвоздями, звучал спокойствием и надеждой. С тонкой шеи Аполека свисал канареечный шарф, три шоколадных перышка покачивались на тирольской шляпе слепого.
В корчме на подоконнике пришельцы разложили краски и гармонику. Художник размотал свой шарф, нескончаемый, как лента ярмарочного фокусника. Потом он вышел во двор, разделся донага и облил студеною водой свое розовое, узкое, хилое тело. Жена Шмереля принесла гостям изюмной водки и миску зразы. Насытившись, Готфрид положил гармонию на острые свои колени. Он вздохнул, откинул голову и пошевелил худыми пальцами. Звуки гейдельбергских песен огласили стены еврейского шинка. Аполек подпевал слепцу дребезжащим голосом. Все это выглядело так, как будто из костела святой Индегильды принесли к Шмерелю орган и на органе рядышком уселись музы в пестрых ватных шарфах и подкованных немецких башмаках.
Гости пели до заката, потом они уложили в холщовые мешки гармонику и краски, и пан Аполек с низким поклоном передал Брайне, жене корчмаря, лист бумаги.
Милостивая пани Брайна, - сказал он, - примите от бродячего художника, крещенного христианским именем Аполлинария, этот ваш портрет - как знак холопской нашей признательности, как свидетельство роскошного вашего гостеприимства. Если бог Иисус продлит мои дни и укрепит мое искусство, я вернусь, чтобы переписать красками этот портрет. К волосам вашим подойдут жемчуга, а на груди мы припишем изумрудное ожерелье…
На небольшом листе бумаги красным карандашом, карандашом красным и мягким, как глина, было изображено смеющееся лицо пани Брайны, обведенное медными кудрями.
Мои деньги! - вскричал Шмерель, увидев портрет жены. Он схватил палку и пустился за постояльцами в погоню. Но по дороге Шмерель вспомнил розовое тело Аполека, залитое водой, и солнце на своем дворике, и тихий звон гармоники. Корчмарь смутился духом и, отложив палку, вернулся домой.
На следующее утро Аполек представил новоградскому ксендзу диплом об окончании мюнхенской академии и разложил перед ним двенадцать картин на темы из священного писания. Картины эти были написаны маслом на тонких пластинках кипарисового дерева. Патер увидал на своем столе горящий пурпур мантий, блеск смарагдовых полей и цветистые покрывала, накинутые на равнины Палестины.
Святые пана Аполека, весь этот набор ликующих и простоватых старцев, седобородых, краснолицых, был втиснут в потоки шелка и могучих вечеров.
В тот же день пан Аполек получил заказ на роспись нового костела. И за бенедиктином патер сказал художнику.
Санта Мария, - сказал он, - желанный пан Аполлинарий, из каких чудесных областей снизошла к нам ваша столь радостная благодать?..
Аполек работал с усердием, и уже через месяц новый храм был полон блеяния стад, пыльного золота закатов и палевых коровьих сосцов. Буйволы с истертой кожей влеклись в упряжке, собаки с розовыми мордами бежали впереди отары, и в колыбелях, подвешенных к прямым стволам пальм, качались тучные младенцы. Коричневые рубища францисканцев окружали колыбель. Толпа волхвов была изрезана сверкающими лысинами и морщинами, кровавыми, как раны. В толпе волхвов мерцало лисьей усмешкой старушечье личико Льва XIII, и сам новоградский ксендз, перебирая одной рукой китайские резные четки, благословлял другой, свободной, новорожденного Иисуса.
Пять месяцев ползал Аполек, заключенный в свое деревянное сиденье, вдоль стен, вдоль купола и на хорах.
У вас пристрастие к знакомым лицам, желанный пан Аполек, - сказал однажды ксендз, узнав себя в одном из волхвов и пана Ромуальда - в отрубленной голове Иоанна. Он улыбнулся, старый патер, и послал бокал коньяку художнику, работавшему под куполом.
Потом Аполек закончил тайную вечерю и побиение камнями Марии из Магдалы. В одно из воскресений он открыл расписанные стены. Именитые граждане, приглашенные ксендзом, узнали в апостоле Павле Янека, хромого выкреста, и в Марии Магдалине - еврейскую девушку Эльку, дочь неведомых родителей и мать многих подзаборных детей. Именитые граждане приказали закрыть кощунственные изображения. Ксендз обрушил угрозы на богохульника. Но Аполек не закрыл расписанных стен.
Так началась неслыханная война между могущественным телом католической церкви, с одной стороны, и беспечным богомазом - с другой. Она длилась три десятилетия. Случай едва не возвел кроткого гуляку в основатели новой ереси. И тогда это был бы самый замысловатый и смехотворный боец из всех, каких знала уклончивая и мятежная история римской церкви, боец, в блаженном хмелю обходивший землю с двумя белыми мышами за пазухой и с набором тончайших кисточек в кармане.
Пятнадцать злотых за богоматерь, двадцать пять злотых за святое семейство и пятьдесят злотых за тайную вечерю с изображением всех родственников заказчика. Враг заказчика может быть изображен в образе Иуды Искариота, и за это добавляется лишних десять злотых, - так объявил Аполек окрестным крестьянам, после того как его выгнали из строившегося храма.
В заказах он не знал недостатка. И когда через год, вызванная исступленными посланиями новоградского ксендза, прибыла комиссия от епископа в Житомире, она нашла в самых захудалых и зловонных хатах эти чудовищные семейные портреты, святотатственные, наивные и живописные. Иосифы с расчесанной надвое сивой головой, напомаженные Иисусы, многорожавшие деревенские Марии с поставленными врозь коленями - эти иконы висели в красных углах, окруженные венцами из бумажных цветов.
Он произвел вас при жизни в святые! - воскликнул викарий дубенский и новоконстантиновский, отвечая толпе, защищавшей Аполека. - Он окружил вас неизреченными принадлежностями святыни, вас, трижды впадавших в грех ослушания, тайных винокуров, безжалостных заимодавцев, делателей фальшивых весов и продавцов невинности собственных дочерей!
Ваше священство, - сказал тогда викарию колченогий Витольд, скупщик краденого и кладбищенский сторож, - в чем видит правду всемилостивейший пан бог, кто скажет об этом темному народу? И не больше ли истины в картинах пана Аполека, угодившего нашей гордости, чем в ваших словах, полных хулы и барского гнева?
Возгласы толпы обратили викария в бегство. Состояние умов в пригородах угрожало безопасности служителей церкви. Художник, приглашенный на место Аполека, не решался замазать Эльку и хромого Янека. Их можно видеть и сейчас в боковом приделе новоградского костела: Янека - апостола Павла, боязливого хромца с черной клочковатой бородой, деревенского отщепенца, и ее, блудницу из Магдалы, хилую и безумную, с танцующим телом и впалыми щеками.
Борьба с ксендзом длилась три десятилетия. Потом казацкий разлив изгнал старого монаха из его каменного и пахучего гнезда, и Аполек - о превратности судьбы! - водворился в кухне пани Элизы. И вот я, мгновенный гость, пью по вечерам вино его беседы.
Беседы - о чем? О романтических временах шляхетства, о ярости бабьего фанатизма, о художнике Луке дель Раббио и о семье плотника из Вифлеема.
Имею сказать пану писарю… - таинственно сообщает мне Аполек перед ужином.
Да, - отвечаю я, - да, Аполек, я слушаю вас…
Но костельный служка, пан Робацкий, суровый и серый, костлявый и ушастый, сидит слишком близко от нас. Он развешивает перед нами поблекшие полотна молчания и неприязни.
Имею сказать пану, - шепчет Аполек и уводит меня в сторону, - что Иисус, сын Марии, был женат на Деборе, иерусалимской девице незнатного рода…
О, тен чловек! - кричит в отчаянии пан Робацкий. - Тен чловек не умрет на своей постели… Тего чловека забиют людове…
Мне угодно. Зажженный началом Аполековой истории, я расхаживаю по кухне и жду заветного часа. А за окном стоит ночь, как черная колонна. За окном окоченел живой и темный сад. Млечным и блещущим потоком льется под луной дорога к костелу. Земля выложена сумрачным сияньем, ожерелья светящихся плодов повисли на кустах. Запах лилий чист и крепок, как спирт. Этот свежий яд впивается в жирное бурливое дыхание плиты и мертвит смолистую духоту ели, разбросанной по кухне.
Аполек в розовом банте и истертых розовых штанах копошится в своем углу, как доброе и грациозное животное. Стол его измазан клеем и красками. Старик работает мелкими и частыми движениями, тишайшая мелодическая дробь доносится из его угла. Старый Готфрид выбивает ее своими трепещущими пальцами. Слепец сидит недвижимо в желтом и масляном блеске лампы. Склонив лысый лоб, он слушает нескончаемую музыку своей слепоты и бормотание Аполека, вечного друга.
- …И то, что говорят пану попы и евангелист Марк и евангелист Матфей, - то не есть правда… Но правду можно открыть пану писарю, которому за пятьдесят марок я готов сделать портрет под видом блаженного Франциска на фоне зелени и неба. То был совсем простой святой, пан Франциск. И если у пана писаря есть в России невеста… Женщины любят блаженного Франциска, хотя не все женщины, пан…
Так началась в углу, пахнувшем елью, история о браке Иисуса и Деборы. Эта девушка имела жениха, по словам Аполека. Ее жених был молодой израильтянин, торговавший слоновыми бивнями. Но брачная ночь Деборы кончилась недоумением и слезами. Женщиной овладел страх, когда она увидела мужа, приблизившегося к ее ложу. Икота раздула ее глотку. Она изрыгнула все съеденное ею за свадебной трапезой. Позор пал на Дебору, на отца ее, на мать и на весь род ее. Жених оставил ее, глумясь, и созвал всех гостей. Тогда Иисус, видя томление женщины, жаждавшей мужа и боявшейся его, возложил на себя одежду новобрачного и, полный сострадания, соединился с Деборой, лежавшей в блевотине. Потом она вышла к гостям, шумно торжествуя, как женщина, которая гордится своим падением. И только Иисус стоял в стороне. Смертельная испарина выступила на его теле, пчела скорби укусила его в сердце. Никем не замеченный, он вышел из пиршественного зала и удалился в пустынную страну, на восток от Иудеи, где ждал его Иоанн. И родился у Деборы первенец…
Где же он? - вскричал я.
Его скрыли попы, - произнес Аполек с важностью и приблизил легкий и зябкий палец к своему носу пьяницы.
Пан художник, - вскричал вдруг Робацкий, поднимаясь из тьмы, и серые уши его задвигались, - цо вы мувите? То же есть немыслимо…
Так, так, - съежился Аполек и схватил Готфрида, - так, так, пане…
Он потащил слепца к выходу, но на пороге помедлил и поманил меня пальцем.
Блаженный Франциск, - прошептал он, мигая глазами, - с птицей на рукаве, с голубем или щеглом, как пану писарю будет угодно…
И он исчез со слепым и вечным своим другом.
О, дурацтво! - произнес тогда Робацкий, костельный служка. - Тен чловек не умрет на своей постели…
Пан Робацкий широко раскрыл рот и зевнул, как кошка. Я распрощался и ушел ночевать к себе домой, к моим обворованным евреям.
По городу слонялась бездомная луна. И я шел с ней вместе, отогревая в себе неисполнимые мечты и нестройные песни.
Солнце Италии
Я снова сидел вчера в людской у пани Элизы под нагретым венцом из зеленых ветвей ели. Я сидел у теплой, живой, ворчливой печи и потом возвращался к себе глубокой ночью. Внизу, у обрыва, бесшумный Збруч катил стеклянную темную волну.
Обгорелый город - переломленные колонны и врытые-в землю крючки злых старушечьих мизинцев - казался мне поднятым на воздух, удобным и небывалым, как сновиденье. Голый блеск луны лился на него с неиссякаемой силой. Сырая плесень развалин цвела, как мрамор оперной скамьи. И я ждал потревоженной душой выхода Ромео из-за туч, атласного Ромео, поющего о любви, в то время как за кулисами понурый электротехник держит палец на выключателе луны.
Голубые дороги текли мимо меня, как струи молока, брызнувшие из многих грудей. Возвращаясь домой, я страшился встречи с Сидоровым, моим соседом, опускавшим на меня по ночам волосатую лапу своей тоски. По счастью, в эту ночь, растерзанную молоком луны, Сидоров не проронил ни слова. Обложившись книгами, он писал. На столе дымилась горбатая свеча - зловещий костер мечтателей. Я сидел в стороне, дремал, сны прыгали вокруг меня, как котята. И только поздней ночью меня разбудил ординарец, вызвавший Сидорова в штаб. Они ушли вместе. Я подбежал тогда к столу, на котором писал Сидоров, и перелистал книги. Это был самоучитель итальянского языка, изображение римского форума и план города Рима. План был весь размечен крестами и точками. Я наклонился над исписанным листом и с замирающим сердцем, ломая пальцы, прочитал чужое письмо. Сидоров, тоскующий убийца, изорвал в клочья розовую вату моего воображения и потащил меня в коридоры здравомыслящего своего безумия. Письмо начиналось со второй страницы, я не осмелился искать начала:
«…пробито легкое и маленько рехнулся или, как говорит Сергей, с ума слетел. Не сходить же с него, в самом деле, с дурака этого с ума. Впрочем, хвост набок и шутки в сторону… Обратимся к повестке дня, друг мой Виктория…
Я проделал трехмесячный махновский поход - утомительное жульничество, и ничего более… И только Волин все еще там. Волин рядится в апостольские ризы и карабкается в Ленины от анархизма. Ужасно. А батько слушает его, поглаживает пыльную проволоку своих кудрей и пропускает сквозь гнилые зубы мужицкую свою усмешку. И я теперь не знаю, есть ли во всем этом не сорное зерно анархии и утрем ли мы вам ваши благополучные носы, самодельные цекисты из самодельного цека, made in Харьков, в самодельной столице. Ваши рубахи-парни не любят теперь вспоминать грехи анархической их юности и смеются над ними с высоты государственной мудрости, - черт с ними…
А потом я попал в Москву. Как попал я в Москву? Ребята кого-то обижали в смысле реквизиционном и ином. Я, слюнтяй, вступился. Меня расчесали - и за дело. Рана была пустяковая, но в Москве, ах. Виктория, в Москве я онемел от несчастий. Каждый день госпитальные сиделки приносили мне крупицу каши. Взнузданные благоговением, они тащили ее на большом подносе, и я возненавидел эту ударную кашу, внеплановое снабжение и плановую Москву. В совете встретился потом с горсточкой анархистов. Они пижоны, или полупомешанные старички. Сунулся в Кремль с планом настоящей работы. Меня погладили по головке и обещали сделать замом, если исправлюсь. Я не исправился. Что было дальше? Дальше был фронт, Конармия и солдатня, пахнущая сырой кровью и человеческим прахом.
Спасите меня, Виктория. Государственная мудрость сводит меня с ума, скука пьянит. Вы не поможете - и я издохну безо всякого плана. Кто же захочет, чтобы работник подох столь неорганизованно, не вы ведь, Виктория, невеста, которая никогда не будет женой. Вот и сентиментальность, ну ее к распроэтакой матери…
Теперь будем говорить дело. В армии мне скучно. Ездить верхом из-за раны я не могу, значит не могу и драться. Употребите ваше влияние, Виктория - пусть отправят меня в Италию. Язык я изучаю и через два месяца буду на нем говорить. В Италии земля тлеет. Многое там готово. Недостает пары выстрелов. Один из них я произведу. Там нужно отправить короля к праотцам. Это очень важно. Король у них славный дядя, он играет в популярность и снимается с ручными социалистами для воспроизведения в журналах семейного чтения.
В цека, в Наркоминделе вы не говорите о выстреле, о королях. Вас погладят по головке и промямлят: «романтик». Скажите просто, - он болен, зол, пьян от тоски, он хочет солнца Италии и бананов. Заслужил ведь или, может, не заслужил? Лечиться - и баста. А если нет - пусть отправят в одесское Чека… Оно очень толковое и…
Как глупо, как незаслуженно и глупо пишу я, друг мой Виктория…
Италия вошла в сердце как наваждение. Мысль об этой стране, никогда не виданной, сладка мне, как имя женщины, как ваше имя, Виктория…»
Я прочитал письмо и стал укладываться на моем продавленном нечистом ложе, но сон не шел. За стеной искренне плакала беременная еврейка, ей отвечало стонущее бормотание долговязого мужа. Они вспоминали об ограбленных вещах и злобствовали друг на друга за незадачливость. Потом, перед рассветом, вернулся Сидоров. На столе задыхалась догоревшая свеча. Сидоров вынул из сапога другой огарок и с необыкновенной задумчивостью придавил им оплывший фитилек. Наша комната была темна, мрачна, все дышало в ней ночной сырой вонью, и только окно, заполненное лунным огнем, сияло как избавление.
Он пришел и спрятал письмо, мой томительный сосед. Сутулясь, сел он за стол и раскрыл альбом города Рима. Пышная книга с золотым обрезом стояла перед его оливковым невыразительным лицом. Над круглой его спиной блестели зубчатые развалины Капитолия и арена цирка, освещенная закатом. Снимок королевской семьи был заложен тут же, между большими глянцевитыми листами. На клочке бумаги, вырванном из календаря, был изображен приветливый тщедушный король Виктор-Эммануил со своей черноволосой женой, с наследным принцем Умберто и целым выводком принцесс.
…И вот ночь, полная далеких и тягостных звонов, квадрат света в сырой тьме - и в нем мертвенное лицо Сидорова, безжизненная маска, нависшая над желтым пламенем свечи.
В субботние кануны меня томит густая печаль воспоминаний. Когда-то в эти вечера мой дед поглаживал желтой бородой томы Ибн-Эзра. Старуха в кружевной наколке ворожила узловатыми пальцами над субботней свечой и сладко рыдала. Детское сердце раскачивалось в эти вечера, как кораблик на заколдованных волнах…
Я кружу по Житомиру и ищу робкой звезды. У древней синагоги, у ее желтых и равнодушных стен старые евреи продают мел, синьку, фитили, - евреи с бородами пророков, со страстными лохмотьями на впалой груди…
Вот предо мной базар и смерть базара. Убита жирная душа изобилия. Немые замки висят на лотках, и гранит мостовой чист, как лысина мертвеца. Она мигает и гаснет - робкая звезда…
Удача пришла ко мне позже, удача пришла перед самым заходом солнца. Лавка Гедали спряталась в наглухо закрытых торговых рядах. Диккенс, где была в тот вечер твоя тень? Ты увидел бы в этой лавке древностей золоченые туфли и корабельные канаты, старинный компас и чучело орла, охотничий винчестер с выгравированной датой «1810» и сломанную кастрюлю.
Старый Гедали расхаживает вокруг своих сокровищ в розовой пустоте вечера - маленький хозяин в дымчатых очках и в зеленом сюртуке до полу. Он потирает белые ручки, он щиплет сивую бороденку и, склонив голову, слушает невидимые голоса, слетевшиеся к нему.
Эта лавка - как коробочка любознательного и важного мальчика, из которого выйдет профессор ботаники. В этой лавке есть и пуговицы и мертвая бабочка. Маленького хозяина ее зовут Гедали. Все ушли с базара, Гедали остался. Он вьется в лабиринте из глобусов, черепов и мертвых цветов, помахивает пестрой метелкой из петушиных перьев и сдувает пыль с умерших цветов.
Мы сидим на бочонках из-под пива. Гедали свертывает и разматывает узкую бороду. Его цилиндр покачивается над нами, как черная башенка. Теплый воздух течет мимо нас. Небо меняет цвета. Нежная кровь льется из опрокинутой бутылки там, вверху, и меня обволакивает легкий запах тления.
Революция - скажем ей «да», но разве субботе мы скажем «нет»? - так начинает Гедали и обвивает меня шелковыми ремнями своих дымчатых глаз. - «Да», кричу я революции, «да», кричу я ей, но она прячется от Гедали и высылает вперед только стрельбу…
В закрывшиеся глаза не входит солнце, - отвечаю я старику, - но мы распорем закрывшиеся глаза…
Поляк закрыл мне глаза, - шепчет старик чуть слышно. - Поляк - злая собака. Он берет еврея и вырывает ему бороду, - ах, пес! И вот его бьют, злую собаку. Это замечательно, это революция! И потом тот, который бил поляка, говорит мне: «Отдай на учет твой граммофон, Гедали…» - «Я люблю музыку, пани», - отвечаю я революции. - «Ты не знаешь, что ты любишь, Гедали, я стрелять в тебя буду, тогда ты это узнаешь, и я не могу не стрелять, потому что я - революция…»
Она не может не стрелять, Гедали, - говорю я старику, - потому что она - революция…
Но поляк стрелял, мой ласковый пан, потому что он - контрреволюция. Вы стреляете потому, что вы - революция. А революция - это же удовольствие. И удовольствие не любит в доме сирот. Хорошие дела делает хороший человек. Революция - это хорошее дело хороших людей. Но хорошие люди не убивают. Значит, революцию делают злые люди. Но поляки тоже злые люди. Кто же скажет Гедали, где революция и где контрреволюция? Я учил когда-то талмуд, я люблю комментарии Раше и книги Маймонида. И еще другие понимающие люди есть в Житомире. И вот мы все, ученые люди, мы падаем на лицо и кричим на-голос: горе нам, где сладкая революция?..
Старик умолк. И мы увидели первую звезду, пробивавшуюся вдоль Млечного Пути.
Заходит суббота, - с важностью произнес Гедали, - евреям надо в синагогу… Пане товарищ, - сказал он, вставая, и цилиндр, как черная башенка, закачался на его голове, - привезите в Житомир немножко хороших людей. Ай, в нашем городе недостача, ай, недостача! Привезите добрых людей, и мы отдадим им все граммофоны. Мы не невежды. Интернационал… мы знаем, что такое Интернационал. И я хочу Интернационала добрых людей, я хочу, чтобы каждую душу взяли на учет и дали бы ей паек по первой категории. Вот, душа, кушай, пожалуйста, имей от жизни свое удовольствие. Интернационал, пане товарищ, это вы не знаете, с чем его кушают…
Его кушают с порохом, - ответил я старику, - и приправляют лучшей кровью…
И вот она взошла на свое кресло из синей тьмы, юная суббота.
Гедали, - говорю я, - сегодня пятница и уже настал вечер. Где можно достать еврейский коржик, еврейский стакан чаю и немножко этого отставного бога в стакане чаю?..
Нету, - отвечает мне Гедали, навешивая замок на свою коробочку, - нету. Есть рядом харчевня, и хорошие люди торговали в ней, но там уже не кушают, там плачут…
Он застегнул свой зеленый сюртук на три костяные пуговицы. Он обмахал себя петушиными перьями, поплескал водицы на мягкие ладони и удалился - крохотный, одинокий, мечтательный, в черном цилиндре и с большим молитвенником под мышкой.
Наступает суббота. Гедали - основатель несбыточного Интернационала - ушел в синагогу молиться.
Мой первый гусь
Савицкий, начдив шесть, встал, завидев меня, и я удивился красоте гигантского его тела. Он встал и пурпуром своих рейтуз, малиновой шапочкой, сбитой набок, орденами, вколоченными в грудь, разрезал избу пополам, как штандарт разрезает небо. От него пахло духами и приторной прохладой мыла. Длинные ноги его были похожи на девушек, закованных до плеч в блестящие ботфорты.
Он улыбнулся мне, ударил хлыстом по столу и потянул к себе приказ, только что отдиктованный начальником штаба. Это был приказ Ивану Чеснокову выступить с вверенным ему полком в направлении Чугунов - Добрыводка и, войдя в соприкосновение с неприятелем, такового уничтожить…
«…Каковое уничтожение, - стал писать начдив и измазал весь лист, - возлагаю на ответственность того же Чеснокова вплоть до высшей меры, которого и шлепну на месте, в чем вы, товарищ Чесноков, работая со мною на фронте не первый месяц, не можете сомневаться…»
Начдив шесть подписал приказ с завитушкой, бросил его ординарцам и повернул ко мне серые глаза, в которых танцевало веселье.
Я подал ему бумагу о прикомандировании меня к штабу дивизии.
Провести приказом! - сказал начдив. - Провести приказом и зачислить на всякое удовольствие, кроме переднего. Ты грамотный?
Грамотный, - ответил я, завидуя железу и цветам этой юности, - кандидат прав Петербургского университета…
Ты из киндербальзамов, - закричал он, смеясь, - и очки на носу. Какой паршивенький!.. Шлют вас, не спросясь, а тут режут за очки. Поживешь с нами, што ль?
Поживу, - ответил я и пошел с квартирьером на село искать ночлега.
Квартирьер нес на плечах мой сундучок, деревенская улица лежала перед нами, круглая и желтая, как тыква, умирающее солнце испускало на небе свой розовый дух.
Мы подошли к хате с расписными венцами, квартирьер остановился и сказал вдруг с виноватой улыбкой:
Канитель тут у нас с очками и унять нельзя. Человек высшего отличия - из него здесь душа вон. А испорть вы даму, самую чистенькую даму, тогда вам от бойцов ласка…
Он помялся с моим сундучком на плечах, подошел ко мне совсем близко, потом отскочил в отчаянии и побежал в первый двор. Казаки сидели там на сене и брили друг друга.
Вот, бойцы, - сказал квартирьер и поставил на землю мой сундучок. - Согласно приказания товарища Савицкого, обязаны вы принять этого человека к себе в помещение и без глупостев, потому этот человек пострадавший по ученой части…
Конец бесплатного ознакомительного фрагмента.
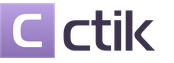










Последние предсказания Ванги — тайны предсмертного одра ясновидящей Предсказания Ванги о России
Протоиерей Александр Геронимус Малая церковь
Неумывакин Иван Павлович: биография
Доктор Гитт: лечение суставов различными методами Виталий демьянович мануальный терапевт
Тэд Эндрюс - Определи свой тотем