Ее почти слепые глаза жадно цеплялись за свет ночных огней. Когда тебе за 80-ть и ты одинока, самое страшное - это темнота. Она сгущается вместе с одиночеством и сжимает сердце железными тисками тоски. Но только загораются огни, тьма расступается.
Эти огни такие разные. Одни мерцают из прошлого. Это воспоминания. Другие сияют совсем рядом - огни сегодняшнего дня. Но самые теплые, дарящие надежду, - это огни будущего. Даже у 80-летней женщины такие огни есть. Да, будущее есть у всех. И надо пройти свою дорогу до конца - "дорогу, уходящую вдаль".
Писательница и драматург Александра Бруштейн написала самую знаменитую свою книгу "Дорога уходит вдаль" в возрасте 75 лет. Она уже совсем потеряла слух и почти полностью - зрение. Но она все равно оставалась женщиной, у которой есть завтра, есть будущее, есть заветные огни впереди.
Эта книга стала настоящей сенсацией. Подростки страны Советов читали книгу взахлеб, а в библиотеках занимали очередь, чтобы почитать "Дорогу..."
Это было абсолютно непостижимой загадкой, явлением вне логики и здравого смысла. Ну скажите, что может быть общего у среднестатистического советского школьника и девятилетней еврейской девочки из города Вильно, удивительного города трех культур - польской, белорусской и литовской? Чем могут быть интересны злоключения маленькой еврейки, привыкшей к незаслуженным обидам и неравенству? В чем секрет этой легкой и поучительной книжки, почему незамеченными остались, возможно, даже более сильные драматургические произведения, а "Дорога..." стала культовым произведением целого поколения детей?
Это загадка, у которой нет одного правильного ответа. Но, возможно, верный ответ кроется в истоках - в семье?
Все мы родом из детства
Александра Яковлевна Бруштейн родилась в Вильно в 1884 году в еврейской семье врачей. Ее отец Яков Выгодский, был настоящим идеалистом, твердо уверенным, что врач - профессия вне классов и рангов. Он лечил всех, и богатых, и бедных, причем последних зачастую абсолютно бесплатно. Ему приходилось работать так много, что вечерами от напряжения и усталости у него начинали дрожать руки, и супруга Елена Семеновна кормила его, подавая еду.
У них была прекрасная семья - такая, о которой только может мечтать ребенок. Яков Выгодский был седьмым ребенком в семье, и всего его братья любили собираться в доме своих родителей на Пасху. Это было самое счастливое и веселое время.
Очень часто в еврейских семьях главным человеком для девочек является не мать, а именно отец. Для Сашеньки Выгодской отец был почти богом. Образец благородства, трудолюбия и человеколюбия. Она часто и подолгу разговаривала с ним обо всем на свете, и даже о "трех аршинах" которыми заканчивается человеческая жизнь. Юная Сашенька сокрушалась, ну, как же она сможет поместиться на них вместе с отцом, ведь это так мало! Сама мысль, что когда-нибудь им придется расстаться, была для девочки странной и нелепой. У отца хватало мудрости пояснять, что к тому времени, когда отца не станет, она будет взрослой девочкой и сможет приходить к нему в гости, чтобы поговорить.
" Вот ты придешь к этому домику и скажешь тихонько - можно даже не вслух, а мысленно: папа, это я, твоя дочка Пуговица... Я живу честно, никого не обижаю, работаю, хорошие люди меня уважают... И все. Подумаешь так - и пойдешь себе...»"
Якова Выгодского расстреляли фашисты в 1941 году, когда вошли в Вильно. И у Александры Бруштейн не осталось ничего, даже этих злосчастных трех аршинов, куда она могла бы прийти и сказать: "Папа, я живу честно... "
По любви
Александра Выгодская сумела удивить всех. Совсем юной девчонкой она влюбилась в 28-летнего врача-физиатра и в 17 лет вышла замуж. Степенный и рассудительный Сергей Бруштейн сходил с ума по маленькой веселой девчонке, которая ни на минуту не давала ему скучать.
Очень скоро в семье Бруштейнов родились дети, сын Михаил и дочь Наденька. И все как-то стало ладно складываться, очень уж благополучно. На карьеру мужа не повлияла даже революция 1917 года. Он был востребованным специалистом, возглавил Государственный институт физиатрии. Сын возглавил кондитерский завод "Красный октябрь" и с увлечением разрабатывал новую рецептуру конфет. Дочь стала артисткой, организовала собственный ансамбль и с успехом выступала. Да и сама Александра нашла себя в драматургии.
Она стала писать пьесы - и оригинальные, и по мотивам известных европейских авторов. Они ставились на разных сценах. Нельзя сказать, что с огромным успехом, но, тем не менее, ставились. Все было хорошо, пока не пришла...
...Война
Война пришла страшным горем в семью Выгодских - Бруштейн. В 1941 году фашисты расстреляли Якова и Елену Выгодских. Они не захотели эвакуироваться в тыл. Но и в тылу было непросто. Сергей Бруштейн в Новосибирске возглавил кафедру физиотерапии. Из-за напряженной работы, пережитого горя утраты и постоянного волнения за своих детей его сердце не выдержало, и он скончался через два года после Победы. Ушел из жизни и сын Александры Бруштейн, Михаил, который тоже подорвал свое здоровье непомерно тяжелой работой и умер из-за болезни сердца. Чудом выжила Надежда, которая всю войну была на передовой, выступая перед солдатами, поднимая дух раненных бойцов в госпиталях.
Все эти удары тяжело перенесла и сама Александра Бруштейн. Она катастрофически быстро стала терять зрение и слух, но это лишь подстегивало ее, заставляя работать все больше и больше. Она словно торопилась успеть закончить главную книгу своей жизни - трилогию...
"Дорога уходит вдаль"
Первая книга трилогии с одноименным названием увидела свет в 1956 году и сразу же разлетелась по библиотекам и книжным магазинам. Ее искали, читали, передавали друг другу. Причем не только дети, но и взрослые. Было в ней то, что оказалось абсолютно универсальным для всех возрастов.
Главная героиня книги, девятилетняя Саша Яновская, - это и есть сама Бруштейн. Ее книга абсолютно биографичная - родители Саши Яновской, ее брат, бабушка, дедушка, гувернантка, учительница немецкого - все эти герои списаны из жизни. Их речь, такая самобытная, наделила героев настолько невероятным колоритом и шармом, что в них невольно влюбляешься и незаметно для себя начинаешь повторять все эти "умалишотка", "глупство", "запохаживается" и множество других словечек.
В книге маленькая девочка борется за свое место под солнцем, огорчается, страдает, но никогда не сдается.
Вместе со своим отцом она спасает Юльку от смертельного недуга, негодует, что ксендз не разрешает ее матери выйти замуж за любимого человека лишь потому, что тот не католик, видит нищету и жестокость.
Однажды с мамой она стала свидетелем, как художник, у которого нет рук, создает картины, рисуя ногами. Это настолько потрясло девочку, что она решает купить одну из его картин.
«Пусть маленькая барышня возьмёт рисунок «Дорога уходит в даль…» Когда я ещё был художником - а я был настоящим художником, прошу мне поверить! - это была моя любимая тема: «Всё - вперёд, всё - в даль! Идёшь - не падай, упал - встань, расшибся - не хнычь. Всё - вперед! Всё - в даль!..» Это стало жизненным кредо и Саши Яновской, и Александры Бруштейн.
О добре и тупом непобедимом зле
Феномен "Дороги" не разгадан и по сей день. Но кажется, что наиболее приблизился к разгадке Дмитрий Быков, который в своей работе, посвященной книге, вывел формулу ее успеха.

Он назвал "Дорогу" воплощением вечного конфликта добра и тупого непобедимого зла.
В своей лекции «История о девочке, живущей на границе миров» (цикл «Сто лет – сто книг») он говорит об этом так:
Я понял, в чём секрет этого удивительного произведения. Сашенька Яновская, которая выросла в очень живой семье, на протяжение всей книги постоянно сталкивается с нерассуждающим, тупым и непобедимым злом.
И вот эта эмоция нам всем очень близка! Мы не понимаем, как человек может быть настолько жесток и глуп. А он может - и даже получает от этого удовольствие.
Доминирующая эмоция этой книги - это сначала ужас, а потом весёлая злоба при столкновении со страшным, тупым злом - с расизмом, антисемитизмом, с чванством богатых, с репрессивной системой государства...
Тупое зло - это то, с чем каждый день приходится сталкиваться детям: ничем не объяснимый деспотизм взрослых, девочка, потерявшая способность ходить из-за безденежья и равнодушия взрослых, антисемитизм, когда еврейской девочке, для того чтобы поступить в гимназию, приходилось сдавать более сложные экзамены и проходить более жестокий отбор, чем девочкам других национальностей.
Тупое зло, по версии Быкова, не имеет ни расы, ни национальности, ни профессии. Оно может быть всем и никем. И все мы зачастую оказываемся абсолютно беззащитными перед его лицом.
Но в книге нет пессимизма. Ведь автору удается передать своим читателям неимоверный позитив и простые, чистые понятные правила жизни : не ври, никого не обижай, поступай честно и много работай. Это своеобразная прививка от тупого зла. Пройти сквозь все удары судьбы и остаться человеком - вот что имеет значение.
"Дорога уходит в даль…" – первая повесть автобиографической трилогии ("В рассветный час", "Весна") Александры Бруштейн (1884–1968).
В книге описываются детские и школьные годы юной Сашеньки Яновской, прототипом которой является автор. Детство и юность героини проходят в дореволюционной России сначала в провинциальном городке, а затем в Петербурге.
Вечные темы не устаревают – именно поэтому этой книгой зачитывалось не одно поколение читателей.
Для среднего школьного возраста.
Александра Бруштейн
Дорога уходит в даль…
Памяти моих родителей посвящаю эту книгу.
Глава первая. Воскресное утро
Я у мамы и папы одна. Ни братьев у меня, ни сестер. И это уже – пропащее дело! Даже если у нас еще родится кто-нибудь – мальчик или девочка, все равно, – мне-то от этого никакого проку! Мне сейчас уже девять лет, а им будет – нисколько. Как с ними играть? А когда они меня догонят, дорастут до девяти лет, мне-то уже будет целых восемнадцать… Опять неинтересно будет мне с ними!.. Вот если бы они теперь, сейчас были моими однолетками!
Я беру с маминого столика маленькое – размером с книгу – трехстворчатое зеркало. Открываю все три створки – из них смотрят на меня с одинаковым любопытством три совершенно одинаковые растрепанные девочки с бантом, сползающим на один глаз. Я воображаю, будто это мои сестры.
– Здрасьте! – киваю я им.
И все три девочки очень приветливо кивают мне, тряся своими бантами. Неслышно, одними губами, они тоже говорят: "Здрасьте"…
Можно, конечно, еще и высунуть язык, провести им по губам справа налево и обратно, можно даже попробовать дотянуться кончиком языка до носа – зеркальные девочки в точности повторят все эти движения. Но ведь неинтересно! Вот если бы я закивала "Да, да!", а которая-нибудь из зеркальных девочек замотала бы головой "Нет, нет!" Или другая из них засмеялась бы, когда я не смеюсь, а третья вдруг вовсе взяла бы да ушла!
Гораздо интереснее та девочка, которая смотрит на меня с блестящего выпуклого бока самовара. Хотя у нее все тот же бант, сползающий на один глаз, но все-таки она одновременно и похожа на меня и – не совсем. Придвинешься к ней лицом – у самоварной девочки лицо расплывается, становится круглым, как решето, щеки распухают – очень смешно, я так не умею. Откинешь голову назад – лицо у самоварной девочки вытягивается вверх, становится худенькое-худенькое, и вдруг из ее головы начинает расти другая голова, точь-в-точь такая же, только опрокинутая волосами вниз, подбородком вверх, – это еще смешнее!
– Ты что? – говорю я самоварной девочке очень грозно.
Но тут в комнату входит мама и, конечно, портит всю игру!
– Опять ты гримасничаешь перед самоваром! Как мартышка!
– Мне скучно… – обиженно бубню я под нос.
– Поди играть с фрейлейн Цецильхен.
На это я не отвечаю – я жду, пока мама выйдет из комнаты. Тогда я говорю не громко, но с громадной убежденностью:
– Фрейлейн Цецильхен дура!
И еще раз, еще громче – мама-то ведь успела отойти далеко! – я повторяю с удовольствием:
– Цецильхен дура! Ужасная!
Конечно, мне так говорить о взрослых не следовало бы… Но фрейлейн Цецильхен, немка, живущая у нас и обучающая меня немецкому языку, в самом деле очень глупая. Вот уже полгода, как она приехала к нам из Кенигсберга; за это время я выучилась бойко сыпать по-немецки и даже читать, а Цецильхен все еще не знает самых простых русских слов: "хлеб", "вода", "к черту". В своей вязаной пелерине Цецильхен очень похожа на соседского пуделька, которого водят гулять в пальтишке с карманчиком и с помпончиками. Цецильхен только не лает, как он. У Цецильхен безмятежные голубые глаза, как у куклы, и кудрявая белокурая головка. Кудри делаются с вечера: смоченные волосы накручиваются перед сном на полоски газетной бумаги. Дело нехитрое – так раскудрявить можно кого угодно, хоть бабушку мою, хоть дворника Матвея, даже бахрому диванной подушки.
Разговаривать с Цецильхен скучно, она ничего интересного не знает! О чем ее ни спроси, она только беспомощно разводит пухлыми розовыми ручками: "Ах, боже в небе! Откуда же я должна знать такое?"
А я вот именно обожаю задавать вопросы! Папа мой говорит, что вопросы созревают в моей голове, как крыжовник на кусте. Обязательно ли все люди умирают или не обязательно? Почему зимой нет мух? Что такое громоотвод? Кто сильнее – лев или кит? Вафли делают в Африке, да? Так почему же их называют "вафли", а не "вафри"? Кто такая Брамапутра – хорошая она или плохая? Зачем людям "прибивают" оспу?
Только один человек умеет ответить на все мои вопросы или объяснить, почему тот или другой из них "дурацкий". Это папа. К сожалению, у папы для меня почти нет времени. Он врач. То он торопится к больному или в госпиталь, то он сейчас только вернулся оттуда – очень усталый…
Вот и сегодня, в воскресенье, рано утром папа приехал домой такой измученный – сделал трудную операцию, провел при больном бессонную ночь, – что мама нарезает ему завтрак на кусочки: у папы от усталости не слушаются руки.
Позавтракав, папа ложится поспать в столовой на диване, укрывшись старой енотовой шубой. Все в доме ходят на цыпочках и говорят шепотом, даже горластая Юзефа – моя старая няня, ставшая кухаркой после водворения у нас фрейлейн Цецильхен. Юзефа сидит на кухне, чистит кастрюлю и ворчит на той смеси русского языка с белорусским и польским, на какой говорит большинство населения нашего края:
– Другий доктор за такую пра́цу (работу) в золотых подштанниках ходил бы!
В кухне сидит полотер Рафал, очень осведомленная личность с огромными связями во всех слоях общества. Даже Юзефа считается с мнением Рафала! И он тоже подтверждает, что да, за такую работу – "Я же вижу! Господи Иисусе, и когда только он спит?" – другой доктор на золоте ел бы!
– Не умеет? Он? – Юзефа смертельно оскорблена. – А когда Дроздова, генеральша, разродиться не могла, кто помог? Все тутейшие доктора спугалися, – из Петербургу главного профессора по железной дороге привезли, так ен только головой покрутил. "Не берусь, сказал, не имею отва́ги!" А наш взял – раз-раз, и готово! Сделал репарацию (так Юзефа называет операцию) – родила генеральша, сама здорова, и ребеночек у ей живой!
Наступает пауза – слышно только, как старательно полотер Рафал втягивает в себя чай.
– А за гэтых Дроздовых, – говорит он вдруг, – вы, тетечко, не ударяйтеся, пожалейте свою сердцу. Я у их мало что не десять годов подлоги (полы) натираю. У их свою заработанную копейку из горла вырывать надо!..
Папа спит часа полтора. Он накрыт шубой с головой. Рядом с диваном, на стуле, – папины очки. Поникшие дужки их – как оглобельки саней, из которых выпряжен конь.
Терпеливо, как всегда, я подкарауливаю папино пробуждение. Вот он откидывает с головы шубу, мигает невидящими, очень близорукими глазами:
– Ты тут, Пуговица?.. Стой, стой, очки раздавишь! Назрели вопросы? Ну, сыпь свой крыжовник!
Добрый вечер! У нас третья, заключительная лекция о детской литературе, такое приложение к циклу «Сто лет ― сто книг». Мы поговорим сегодня об Александре Яковлевне Бруштейн, авторе самой знаменитой советской детской книги «Дорога уходит в даль…».
Я говорю о ней именно как о самой знаменитой, потому что Бруштейн укоренилась в сознании советских детей гораздо глубже, чем даже Гайдар с его почти гениальной «Судьбой барабанщика» или «Тимуром». И помнят ее лучше, и цитатами из нее обмениваются чаще, чем цитатами из Кассиля, скажем, даже из «Кондуита и Швамбрании». Бруштейн воспитала, без дураков, целое поколение.
Как у нее это получилось, я до сих пор не понимаю. Хотя слово «тайна» не вяжется с ее ясной, удивительно простой и чистой судьбой, я действительно не понимаю, как это случилось, каким образом трилогия, три романа из жизни девочки, живущей в Вильно на рубеже Российской Империи и на рубеже веков, на границе двух столетий, на границе польского, белорусского, русского и еврейского ― каким образом эта история стала такой знаменитой.
Я помню, что с большинством своих друзей при первом же знакомстве мы начинали, как паролями, обмениваться цитатами из «Дорога уходит в даль…». «Мой дуся ксендз», «сто Тамарок отдам за одного Шарафута», «отставной козы барабанщик, тамбур-мажорчик», «Тамара ― нормальная здоровая девочка, зачем ей икать и квакать?». Или «изобретение Варварвары Забебелиной», «незабудудочки» . Какие-то совершенно идиотские штуки, шутки, словечки всплывают в памяти, Гриша с его любимым словцом «запохаживается» и так далее.
Это невероятно яркая вещь, как переводная картинка, но не в этом же только дело, наверно? Я очень долго думал, почему «Дорога уходит в даль…» стала любимой книгой моего поколения и всех последующих. Её так долго, как и всю советскую литературу, не переиздавали, а она хранилась у нас в домах, мы ее читали. Она вышла еще довольно неудобным образом: сначала первая часть трилогии, потом первые две в одном томе ― «Дорога уходит в даль…» и «В рассветный час». Потом вышла «Весна» отдельно, я помню, как все друг у друга брали почитать эту «Весну», как ее не могли достать.
Понимаете, для нас всех почему-то судьба Сашеньки Яновской (на самом деле она была Выгодская), судьба этой девочки из литовско-белорусско-русского города была для нас даже ближе, чем судьба Д"Артаньяна. Ее отца, ее няньку Юзефу, ее мать, ее брата Сенечку, ее гимназических друзей все мы почему-то воспринимали абсолютно как членов семьи.
Во многом тут, конечно, сработал опыт Бруштейн, которая была драматургом. Она написала несколько изумительных пьес. Став ее абсолютным фаном, я эти пьесы везде искал и нашел книгу ее драматургии, почти наизусть знал ее замечательную пьесу в стихах «Тристан и Изольда», изумительную. «Согрей, земля, дыханьем материнским озябшие сердца твоих детей». Но я любил ее тоже не за это, не за драматургию даже, не за речевую ясность. Хотя Чуковский, например, считал главным секретом успеха «Дороги» именно то, что все герои там говорят, как живые. Не в этом дело.
Может быть, конечно, как всякий роман-воспитание, он действует на молодую душу так сентиментально, как, скажем, «Кадеты» Куприна. Всегда со слезами себя представляешь в чужом мире, в чужом классе, среди непонимающих людей и злобных учителей. Это тоже очень интимный и универсальный опыт. Но и не в этом дело ― господи, мало ли у нас школьной и даже гимназической прозы, а любим мы Бруштейн!
Я долго думал и, наконец, мне кажется, стал понимать, в чем секрет этого удивительного произведения. Там же, собственно, эта Сашенька Яновская, которая выросла в очень горячей, очень непосредственной, очень живой семье, на протяжении всей книги постоянно сталкивается с нерассуждающим, тупым и непобедимым злом. И вот эта эмоция нам всем очень близка. Мы не понимаем, как это возможно, как человек может быть настолько жесток и глуп, а он может и даже получает от этого удовольствие.
Доминирующая эмоция этой книги ― это сначала ужас, а потом такая довольно веселая злоба именно при столкновении со страшным, тупым злом, с тупой мерзостью: с расизмом, антисемитизмом, чванством богатых, репрессивной системой государства. Везде, где на твоем пути тупая злобная сила, возникает это чувство ― даже не страха, а прежде всего непонимания. Господи, как это возможно, как они сами не понимают? Да всё они прекрасно понимают.
И мы должны не пытаться найти с ними компромисс, не договариваться с ними, не бояться. Мы должны их вот здесь и сейчас победить. И у нас нет другого варианта. Мы погибнем или победим. Это очень сильная эмоция, очень редкая, и Бруштейн удивительно ее описала.
Ведь с чем там сталкивается эта Сашенька? Сначала она сталкивается с нищетой детей, которых не пускают в панские дома. А дети эти, кстати, прекрасны. С болезнью, с девочкой, которая обезножела от голода и нищеты. Потом она сталкивается со страшной несправедливостью в этой гимназии, где унижают детей на каждом шагу, где запрещают им читать даже Пушкина. А дальше ― больше, серьезнее. Дальше покушение Гирша Леккерта, дальше дело Дрейфуса, дальше русский аналог дела Дрейфуса ― дело мултанских вотяков.
Я должен вам сказать, что люди моего поколения о деле Дрейфуса и деле вотяков, которое выиграл Короленко, узнавали из Бруштейн. Как-то больше негде об этом было узнать. В школьных классах об этом не очень говорилось, потому что ксенофобия была вообще не самой любимой темой. Дело мултанских вотяков, убийство нищего Конона Матюнина, в котором якобы были виноваты пермские язычники, которые к этому делу ни сном ни духом, а просто их крестьяне хотели согнать с хороших земель. Они были хорошими хозяевами, и их оклеветали. Пять лет тянулось это дело, было два совершенно несправедливых приговора. Только в третий раз Кони и Короленко добились справедливости. Короленко написал об этом одно из самых знаменитых в мире судебных расследований, гениальный документальный роман, очень страшный, кстати.
И вот только из Бруштейн мы узнаем о перипетиях этого дела, о том, как вся интеллигентная Россия следит за этим гнусным, ксенофобским, заведомо неправым судом. Ведь это Короленко вскрыл все ошибки этого судопроизводства, незнание элементарных вещей, клевету на каждом шагу. Писатель добился справедливости, а всё судебное следствие пошло на поводу у государственных заказчиков, у той же кровавой ксенофобии, у натравливания людей друг на друга.
А о деле Дрейфуса где мы могли узнать? История дрейфусовского дела, которое всю Европу разделило на дрейфусаров и антисемитов ― именно это дело у Бруштейн описано с невероятной, горячей, живой репортерской теплотой, с невероятной интимностью переживания, потому что Сашенька Выгодская (Яновская) всё, что происходит так далеко, воспринимает как происходящее в ее собственной семье, вот эта удивительная непосредственность восприятия.
Там собираются провинциальные интеллигенты и зачитывают французские газеты, друг другу объясняют и делают доклады, что, собственно, происходит. И когда Дрейфус наконец оправдан, это становится праздником для всего этого города, ведь это живое неравнодушие к судьбам мира, тем более что девочка эта живет, в общем, в сердце Восточной Европы, и все европейские дела касаются ее непосредственно.
Я уже не говорю о том, что навеки запоминаются невероятно обаятельные образы. Ее гимназические подруги Маня Фейгель, Варвара Забелина, Лида Карцева, ее друзья ― Леня Хованский, доктор Рогов. Сейчас, благодаря усилиям фанатов всё той же Бруштейн, и прежде всего Марии Гельфонд, найдены прототипы, установлены подлинные семейные связи, напечатаны фрагменты дневников Бруштейн ― то есть книга обрела вторую жизнь.
Но для нас тогдашних это была удивительная хроника противостояния злу и тупости, и поэтому сегодня, в нынешние времена, мы ко всему готовы. Надо сказать, что сегодня Бруштейн читается почти как вчера написанная, потому что наглая, уверенная в себе ложь, пошлое зло, абсолютная тупость, не желающая ни меняться, ни развиваться, сегодня опять на нас вылезают из портрета и топают ногами, как там написано. И вот к этому топанию мы уже привычны. Это сделала Александра Яковлевна Бруштейн, которая на закате своей жизни, между 75 и 85 годами, написала самую влиятельную советскую книгу. И слава богу, что она у нас есть.
Естественно, мы поздравляем всех с Новым годом и надеемся, что он принесет нам много-много радости, а для просвещенного человека, который читает много книжек, такие радости вообще рассыпаны на каждом шагу.
Загадка успеха у советских школьников книжки о гимназистке из дореволюционного ВильноНа закате своей жизни — между 75 и 85 годами, Александра Яковлевна Бруштейн написала чуть ли не самую знаменитую детскую книгу послевоенного СССР — «Дорога уходит вдаль...» В сознании советских детей эта книга укоренилась сильнее, чем «Тимур и его команда» Гайдара, а цитатами из неё обменивались чаще, чем фразами из «Швамбрании» Льва Кассиля. Можно сказать, что Бруштейн воспитала целое поколение, и как у неё это получилось — самая настоящая загадка.
У трилогии «Дорога уходит в даль...», написанной в конце 50-х годов прошлого века, до сих пор множество почитателей и даже фанатов, хотя современные подростки об этой книге уже почти не знают.
Для тех же, кто взрослел в позднем СССР, она была больше, чем просто чтением. «Дорога уходит в даль...» была одной из тех книг, по которым безошибочно определяли «своих» — цитатами из неё обменивались, как паролями: «она же здоровая, умная девочка — зачем ей икать и квакать», «сто Тамарок за одного Шарафута», «замечательное изобретение Варварвары Забебелиной»...
Когда Александра Яковлевна работала над «Дорогой...» — по сути, первой своей книгой, она уже практически не слышала и почти ослепла. Но поверить в это совершенно невозможно — по страницам скачет, смеясь, живая девочка, совершенно не изменившаяся за шестьдесят пять лет.
Главная литературная загадка XX века
Писательская карьера Александры Бруштейн и судьба её книги — одна из самых больших загадок ХХ века. Хотя, казалось бы, в её личности, текстах и биографии ничего загадочного нет. Более того, они — пример редкой недвусмысленности, и даже само слово «тайна» не вяжется с её удивительно простой и чистой судьбой.
И всё же её трилогия — загадка, уникальный феномен. Потому что совершенно невозможно было представить, что воспоминания о жизни девочки из еврейской семьи, росшей в Вильно в конце ХIХ века, станут абсолютным бестселлером, на который в библиотеках выстроятся многомесячные очереди. Кто предсказал бы, что книги о деле Дрейфуса и процессе мултанских вотяков разойдутся на цитаты? Что Сашенька Яновская станет лучшей подругой и ровесницей миллионов советских подростков, которые сначала будут жадно ждать каждой новой книги о её взрослении, а потом бесконечно, до дыр зачитывать эти три тома.
Почему же эта история стала такой невероятно популярной? Откуда в СССР 70-х — 80-х годов прошлого века возник такой горячий такой интерес к судьбе еврейской девочки, взрослеющей на рубеже столетий, на границе польской, белорусской, русской и еврейской культур?
Пожалуй, лучше всего ответ на этот вопрос сформулировал писатель, поэт и литературный критик Дмитрий Быков в лекции из цикла «Сто лет - сто книг» .
Мы приведём его слова в конце статьи, но сначала — немного о Сашеньке и её семье. Ведь Сашенька Яновская и Александра Яковлевна Бруштейн — это один и тот же человек: роман не только автобиографичен, но ещё и очень точен. Книга Бруштейн — это настоящая энциклопедия провинциальной российской жизни рубежа XIX-XX веков.
Семья Сашеньки Яновской
Александра Бруштейн родилась 11 августа 1884 года в семье доктора, общественного деятеля и писателя на идише Якова Иехильевича (Ефимовича) Выгодского и его жены Елены Семёновны Выгодской (в девичестве Ядловкиной) — девушки из ассимилировавшейся еврейской семьи.
Яков Ефимович Выгодский был старшим ребенком в многодетной семье — у него было еще шесть братьев. В книгах Бруштейн много упоминаний о дедушке и бабушке. Пожалуй, самый запоминающийся — празднование Пасхи, когда в дом к родителям собираются все семь братьев. Бабушка называет их «мои бриллианты». («Бабушка и Бася-Дубина с ног сбились в ожидании гостей: к вечерней пасхальной трапезе должны съехаться и сойтись все семь сыновей! Кроме уже приехавших Тимы и Абраши, ждут еще дядю Ганю, врача-окулиста из Петербурга, и дядю Лазаря, студента-медика из Харькова. Да еще здешние сыновья — папа, Николай, Мирон. Итого — семеро!»)
Это удивительно тёплая, дружная и любящая семья, и сама писательница говорит о том, что когда она думает о большой и крепкой семье, ей на память приходит именно этот семейный вечер.
Отец Саши был одним из докторов-подвижников, которые стремились в первую очередь помочь пациенту, не выясняя национальности, политических взглядов и финансового положения больного. Выгодского приглашали к самым богатым и знатным пациентам Вильно, но он успевал и работать в городской клиникем — помогать неимущим.
Бруштейн вспоминала: отец уставал так, что у него тряслись руки, и матери приходилось резать ему еду. И Саша, и появившийся через несколько лет сын Семен, воспитывались на живом примере, как надо относиться к людям, как помогать им — искренне и бескорыстно.
Отношения с дочерью у Якова Ефимовича были особенные и здесь лучше предоставить слово самой Александре Бруштейн. Вот отрывок из «Дороги»:
« — Папа, — говорю я тихонько, — какой дом, Юзефа говорит, у тебя будет... в три аршина?
— Да ну, — отмахивается папа. — Юзефины сказки!..
— Как же мы все там поместимся?
— Нет... — неохотно роняет папа. — Я там буду один.
— А мы?
— Вы будете приходить ко мне в гости. Вот ты придешь к этому домику и скажешь тихонько — можно даже не вслух, а мысленно: папа, это я, твоя дочка Пуговица... Я живу честно, никого не обижаю, работаю, хорошие люди меня уважают... И все. Подумаешь так — и пойдешь себе...»
В этот день дочь и труженик-отец, даже не заметивший в вечной своей работе, что в центре города есть такой замечательный сквер, «кутят». Они никуда не торопятся, сидят в сквере, поедают бублики и мороженое «крем-брюля». Говорят о разных разностях. ...«Папа обнимает меня, я крепко прижимаюсь к нему. Вероятно, это одна из тех минут, когда мы особенно ясно чувствуем, как сильно любим друг друга...»
Но именно здесь, в этом месте, писательница Бруштейн внезапно прервет свое повествование.
«Папа мой, папа!.. Через пятьдесят лет после этого вечера, когда мы с тобой „кутили“, тебя, 85-летнего старика, расстреляли фашисты, занявшие город. Ты не получил даже того трехаршинного домика, который тебе сулила Юзефа, и я не знаю, где тебя схоронили. Мне некуда прийти сказать тебе, что я живу честно, никого не обижаю, что я тружусь и хорошие люди меня уважают... Я говорю тебе это здесь».
Но случится эта трагедия ещё не скоро, а пока Саша растёт среди удивительных людей и впитывает всё то, что её окружает - теплоту, любовь, и принципы - истового труженичества, высокой культуры и безукоризненной порядочности.
Своя семья и взрослая жизнь
Неожиданно для всех в 17 лет Саша вышла замуж за 28-летнего доктора Сергея Бруштейна, уже тогда известного физиатра.
«Встретил девочку — удивительную. С этой — не заскучаешь...» — так писал он о жене.
Александра Бруштейн
Их сын Михаил впоследствии стал главным инженером на фабрике «Красный октябрь», дочь Надежда создала знаменитый ансамбль народного танца «Березка».
После 1917 года Александра Бруштейн с неиссякающим энтузиазмом бросилась строить новое общество. Только в Петрограде она открыла 117 школ и кружков по ликвидации безграмотности. Написала более 60 пьес для детей и юношества — оригинальных и переложений классиков от Диккенса до Сервантеса. Пьесы пользовались успехом, впрочем, не слишком громким.
В целом судьба Александры и её близких по тем временам складывалась удачно — её печатали, хвалили, муж возглавлял Государственный институт физиотерапии, сын изобретал новые рецепты конфет, дочь ставила сольные номера в театре. Никто не пострадал от репрессий, никого не притесняли.
Но ничто и не предвещало, что вполне заурядный драматург вдруг станет автором удивительной книги.
Война
Судьбы семьи изувечила война. В 1941 году после оккупации Вильно-Вильнюса погибли отец и мать Саши — Яков и Елена Выгодские. Сын Михаил трудился в тылу, напряженная работа вызвала тяжелую болезнь сердца. Дочь Надежда с фронтовой бригадой гастролировала на передовой и уцелела чудом. Муж возглавил кафедру физиотерапии в Новосибирске, в эвакуации, и через два года после Победы тоже скончался от сердечного заболевания.
У самой Александры Яковлевны тяжелые переживания «ударили по глазам» — почти глухая писательница начала стремительно терять и без того слабое зрение. И... стала работать ещё больше.
Дорога уходит вдаль
Первый том трилогии «Дорога уходит в даль» опубликовали в 1956 году. И книга за считанные годы сама, без рекламы или раскрутки, стала всесоюзным бестселлером.
Все события, описанные в книге достоверны, большинство её героев жили на самом деле. Бруштейн рассказывала о том, что видела и слышала, не позволяя себе неправды даже в мелких деталях. «Дорога» изумительно написана. Её раздергивают на цитаты, безупречно точно описывающие те или иные события жизни, причем у каждого фаната набор цитат свой. «Умалишотка!». «Моя семейства». «Какое глупство, Юзефа!».
Юбилейная речь
На юбилейном вечере, посвящённом 80-летию Александры Бруштейн, большой зал Дома литераторов не вмещал всех желающих. Говорят, вместо 700 человек поздравить писательницу пришло полторы тысячи. Любовь Кабо вспоминает:
Мы с Фридочкой Вигдоровой сидели на одном стуле. Фрида потом напишет Александре Яковлевне: «Никогда не видела зала, который был так полон любовью. Зал, готовый взорваться от любви. А мне от любви к Вам все время хотелось плакать...»
Александра Яковлевна была растерянной, взволнованной, то ли плачущей, то ли смеющейся — издали, из зрительного зала, не разберешь. А зал веселился, хохотал, аплодировал. Юбиляршу приветствовали Леонид Утесов и Сергей Образцов, звучал записанный на пленку голос Корнея Чуковского: «Вы старая-престарая старуха...», и, словно полемизируя с Чуковским, стихи Самуила Маршака — десятилетней давности, написанные еще к прошлому юбилею:
Пусть юбилярша,
А. Я. Бруштейн,
Намного старше,
Чем Шток и Штейн,
Пускай Погодин
В сынки ей годен,
А Корнейчук
Почти что внук...
Однако все же, —
Как у Жорж Занд, —
Что год — моложе
Её талант...
В ответной речи на своём 80-лети Бруштейн скажет удивительные слова:
«Когда сегодня здесь говорили, я все думала — о ком это они говорят? В чем дело? Кто это? Какая замечательная старушка! Умная, талантливая, чудесный характер... И чего-чего только в этой старушке нет. Я слушала с интересом... Товарищи! Я, конечно, трудяга, я много работала, мне дано было много лет... Но сделанного мною могло быть больше и могло быть сделано лучше. Это факт, это я знаю совершенно точно... Смешно, когда человек в 80 лет говорит, что в будущем он исправится. А мне не смешно. Я думаю, что будущее есть у каждого человека, пока он живет и пока он хочет что-то сделать... Я сейчас всем друзьям и товарищам, которые находятся в зале и которых здесь нет, даю торжественное обещание: пока я жива, пока я дышу, пока у меня варит голова, пока не остыло сердце, — одним словом, пока во мне старится „квартира“, а не „жилец“, — до самого последнего дня, последнего вздоха...»
О тупом, непобедимом зле
В чём же секрет успеха книг Бруштейн? Корней Чуковский писал ей в восторженном письме, что в лепке характеров, в диалогах прежде всего, чувствуется крепкая рука драматурга. Все так: речвые характеристики у Бруштейн идеальны, и речь горничной Юзефы не спутаешь с такой же русско-польско-еврейской речью бабушки, а Гриша Ярчук — это не только фирменная приговорка «запохаживается» или шепелявое «слуфай», но и собственное построение фраз.
Но ведь она уже много лет была детским драматургом и почему же тогда пьесы Бруштейн — даже лучшие и популярнейшие из них — это просто хорошие пьесы. Не гениальные и даже не хиты.
Конечно же, это «роман воспитания», каких много было в советской литературе — «Кондуит и Швамбрания», «Республика ШКИД», «Белеет парус одинокий» и т. д. Но в рамки классической детской литературы это произведение не умещается. Дмитрий Быков в статье о «Дороге...», назвал её «книгой без правил». Внежанровой, вневременной, не имеющей гендерной ориентации и возрастных ограничений.
Но лучше всего, на наш взгляд, ему удалось сформулировать секрет успеха этой очень детской и совсем недетской книги в упомянутой видеолекции «История о девочке, живущей на границе миров» из цикла «Сто лет - сто книг». Вот она, обещанная выше цитата:
«Я понял, в чём секрет этого удивительного произведения. Сашенька Яновская, которая выросла в очень живой семье, на протяжение всей книги постоянно сталкивается с нерассуждающим, тупым и непобедимым злом.
И вот эта эмоция нам всем очень близка! Мы не понимаем, как человек может быть настолько жесток и глуп. А он может — и даже получает от этого удовольствие.
Доминирующая эмоция этой книги — это сначала ужас, а потом весёлая злоба при столкновении со страшным, тупым злом — с расизмом, антисемитизмом, с чванством богатых, с репрессивной системой государства...»
Тупое зло — оно не имеет национальной или временной принадлежности. Дети всегда распознают его лучше всех, какую бы форму оно не принимало.
Зло — это нищета детей, которых не пускают в панские дома, хотя дети эти — замечательные умницы. Это когда девочка обездвижела от голода и запущенного рахита. Это страшная несправедливость репрессивной системы гимназического воспитания, когда детям не позволяют читать даже Пушкина и унижают на каждом шагу. Всё это, вместе с «расизмом, антисемитизмом, чванством богатых и репрессивной системой государства» — явления одного порядка и проявления одной и той же силы, которую так важно уметь распознать и «не пытаться найти компромис, не договариваться, не бояться, а прямо вот здесь и сейчас, не сходя с места, победить. И у нас нет другого варианта — мы погибнем или победим». Детям это очевидно.
Зато в самом факте появления такой книги, как «Дорога уходит вдаль...» есть что-то невероятно обнадёживающее. То, что таким кристальным людям, как Александра Бруштейн всё-таки удаётся иногда пройти сквозь сложнейшую, жесточайшую эпоху как нож сквозь масло — и остаться таким же светлым человеком с неисковерканной душой, да ещё и передать огромному количеству детей те простые и честные правила жизни, и сделать прививку от «тупого зла» - всё это, безусловно, вселяет оптимизм. Спасибо Вам, Александра Яковлевна!
Александра Яковлевна Бруштейн
Дорога уходит в даль…
Книга первая
Памяти моих родителей посвящаю эту книгу.
Глава первая. ВОСКРЕСНОЕ УТРО
Я у мамы и папы одна. Ни братьев у меня, ни сестер. И это уже - пропащее дело! Даже если у нас еще родится кто-нибудь - мальчик или девочка, все равно, - мне-то от этого никакого проку! Мне сейчас уже девять лет, а им будет - нисколько. Как с ними играть? А когда они меня догонят, дорастут до девяти лет, мне-то уже будет целых восемнадцать… Опять неинтересно будет мне с ними!.. Вот если бы они теперь, сейчас были моими однолетками!
Я беру с маминого столика маленькое - размером с книгу - трехстворчатое зеркало. Открываю все три створки - из них смотрят на меня с одинаковым любопытством три совершенно одинаковые растрепанные девочки с бантом, сползающим на один глаз. Я воображаю, будто это мои сестры.
Здрасьте! - киваю я им.
И все три девочки очень приветливо кивают мне, тряся своими бантами. Неслышно, одними губами, они тоже говорят: «Здрасьте»…
Можно, конечно, еще и высунуть язык, провести им по губам справа налево и обратно, можно даже попробовать дотянуться кончиком языка до носа - зеркальные девочки в точности повторят все эти движения. Но ведь неинтересно! Вот если бы я закивала «Да, да!», а которая-нибудь из зеркальных девочек замотала бы головой «Нет-нет!» Или другая из них засмеялась бы, когда я не смеюсь, а третья вдруг вовсе взяла бы да ушла!
Гораздо интереснее та девочка, которая смотрит на меня с блестящего выпуклого бока самовара. Хотя у нее все тот же бант, сползающий на один глаз, но все-таки она одновременно и похожа на меня и - не совсем. Придвинешься к ней лицом - у самоварной девочки лицо расплывается, становится круглым, как решето, щеки распухают - очень смешно, я так не умею. Откинешь голову назад - лицо у самоварной девочки вытягивается вверх, становится худенькое-худенькое, и вдруг из ее головы начинает расти другая голова, точь-в-точь такая же, только опрокинутая волосами вниз, подбородком вверх, - это еще смешнее!
Ты что? - говорю я самоварной девочке очень грозно. Но тут в комнату входит мама и, конечно, портит всю игру!
Опять ты гримасничаешь перед самоваром! Как мартышка!
Мне скучно… - обиженно бубню я под нос.
Поди играть с фрейлейн Цецильхен.
На это я не отвечаю - я жду, пока мама выйдет из комнаты. Тогда я говорю не громко, но с громадной убежденностью:
Фрейлейн Цецильхен дура!
И еще раз, еще громче - мама-то ведь успела отойти далеко! - я повторяю с удовольствием:
Цецильхен дура! Ужасная!
Конечно, мне так говорить о взрослых не следовало бы… Но фрейлейн Цецильхен, немка, живущая у нас и обучающая меня немецкому языку, в самом деле очень глупая. Вот уже полгода, как она приехала к нам из Кенигсберга; за это время я выучилась бойко сыпать по-немецки и даже читать, а Цецильхен все еще не знает самых простых русских слов: «хлеб», «вода», «к черту». В своей вязаной пелерине Цецильхен очень похожа на соседского пуделька, которого водят гулять в пальтишке с карманчиком и с помпончиками. Цецильхен только не лает, как он. У Цецильхен безмятежные голубые глаза, как у куклы, и кудрявая белокурая головка. Кудри делаются с вечера: смоченные волосы накручиваются перед сном на полоски газетной бумаги. Дело нехитрое - так раскудрявить можно кого угодно, хоть бабушку мою, хоть дворника Матвея, даже бахрому диванной подушки.
Разговаривать с Цецильхен скучно, она ничего интересного не знает! О чем ее ни спроси, она только беспомощно разводит пухлыми розовыми ручками: «Ах, боже в небе! Откуда же я должна знать такое?»
А я вот именно обожаю задавать вопросы! Папа мой говорит, что вопросы созревают в моей голове, как крыжовник на кусте. Обязательно ли все люди умирают или не обязательно? Почему зимой нет мух? Что такое громоотвод? Кто сильнее - лев или кит? Вафли делают в Африке, да? Так почему же их называют «вафли», а не «вафри»? Кто такая Брамапутра - хорошая она или плохая? Зачем людям «прибивают» оспу?
Только один человек умеет ответить на все мои вопросы или объяснить, почему тот или другой из них «дурацкий». Это папа. К сожалению, у папы для меня почти нет времени. Он врач. То он торопится к больному или в госпиталь, то он сейчас только вернулся оттуда - очень усталый…
Вот и сегодня, в воскресенье, рано утром папа приехал домой такой измученный - сделал трудную операцию, провел при больном бессонную ночь, - что мама нарезает ему завтрак на кусочки: у папы от усталости не слушаются руки.
Позавтракав, папа ложится поспать в столовой на диване, укрывшись старой енотовой шубой. Все в доме ходят на цыпочках и говорят шепотом, даже горластая Юзефа - моя старая няня, ставшая кухаркой после водворения у нас фрейлейн Цецильхен. Юзефа сидит на кухне, чистит кастрюлю и ворчит на той смеси русского языка с белорусским и польским, на какой говорит большинство населения нашего края:
Другий доктор за такую працу (работу) в золотых подштанниках ходил бы!
В кухне сидит полотер Рафал, очень осведомленная личность с огромными связями во всех слоях общества. Даже Юзефа считается с мнением Рафала! И он тоже подтверждает, что да, за такую работу - «Я же вижу! Господи Иисусе, и когда только он спит?» - другой доктор на золоте ел бы!
Свирепо закусив губу и словно желая стереть в порошок кастрюлю - зачем она не золотая, а только медная? - Юзефа яростно шипит:
Я скольки разов ему говорила: богатых лечить надо, богатых!
А он? - интересуется полотер.
Как глухой! - вздыхает Юзефа. - Никого не слушает. Ко всем бедакам, ко всем бедолагам ездит. А бедаки что платят? Вот что яны платят! - И пальцы Юзефы, выпачканные в самоварной мази, показывают здоровенный кукиш.
Какая жаль!.. - вежливо качает головой полотер Рафал. - Богатые и бедные - это же две большие разницы!
А то нет! - отзывается Юзефа.
Сегодня, в воскресенье, Рафал явился без щеток и без ведра с мастикой - только уговориться, когда ему прийти натирать полы. Юзефа принимает его в кухне, как гостя, и он чинно пьет чай, наливая его в блюдечко.
А може, - говорит Рафал осторожно, - може, не умеет ваш доктор богатых лечить?
Не умеет? Он? - Юзефа смертельно оскорблена. - А когда Дроздова, генеральша, разродиться не могла, кто помог? Все тутейшие доктора спугалися, - из Петербургу главного профессора по железной дороге привезли, так ен только головой покрутил. «Не берусь, сказал, не имею отваги!» А наш взял - раз-раз, и готово! Сделал репарацию (так Юзефа называет операцию) - родила генеральша, сама здорова, и ребеночек у ей живой!
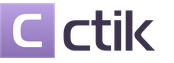










Расовый состав сша Чёрные и афро- американцы
Блаженное чрево, икона божией матери
Икона Пресвятой Богородицы «Избавительница от бед»: в чем помогает
Школа стильных образов и идей Она защищает дом и семью от любых невзгод, бед и проблем, поддерживает в сложную минуту, дарит надежду и новые силы
Гербы городов рижской губернии российской империи