«Теперь или никогда!» — эти грозные слова были первым, о чем вспомнил Обломов, проснувшись на следующее утро. Илья Ильич задумался над ними. Что ему делать: идти вперед или остаться на месте. Как долго и мучительно думал над этим вопросом Илья Ильич!
Спустя 2 недели Андрей отправился в Англию, взяв с Ильи Ильича слово не задерживаться, приехать прямо в Париж. И Обломов готовился. Тарантьеву велено было перевезти мебель к своей куме, Захар бегал по лавкам, покупал все необходимые для отъезда вещи, проклиная и Андрея Ивановича и всех, кто выдумал путешествия. Знакомые, одни с недоверием, другие со смехом, а третьи с испугом обсуждали переезд Обломова.
Но Илья Ильич так и не уехал. Накануне отъезда у него раздулась губа, вероятно, от укуса мухи. Илья Ильич отложил отъезд до следующего парохода. Однако и в следующий раз отъезду не суждено было сбыться.
Штольц давно уже находится в Париже, шлет своему другу неистовые письма, но ответа на них не получает. И совсем не потому, что у его друга нет бумаги и высохли чернила.
Произошло чудо: Обломов изменился. Он встает теперь в 7 утра, читает книги и носит их куда-то. На лице его нет ни скуки, ни усталости. В глазах Обломова даже появился блеск. И все благодаря Ольге, с которой познакомил Илью Ильича Штольц.
В вечер их знакомства, в доме тетки Ольги, Обломов чувствовал себя очень неуютно. К тому же он заметил, что Ольга, разговаривая со Штольцем, с любопытством смотрит на него, и вовсе стушевался. А она, такая скромная, непохожая на других манерой поведения, не яркая красавица, но очень красивая, державшаяся от других в стороне, так легко и непринужденно чувствовала себя в компании Штольца, который то смешил ее, то помогал разобраться в серьезных, непонятных для ее еще недостаточно взрослого ума вещах. Штольцу тоже было интересно с Ольгой. В ней не было кокетства, жеманства, мишуры, поэтому она не была популярна среди молодых людей. Почти один только Штольц и ценил ее.
После знакомства с Ольгой Обломов долго не мог уснуть: все представлял ее образ, а наутро даже велел привести в порядок комнату.
Приняв приглашение Ольгиной тетки на обед, Обломов стал бывать у них каждый день. А узнав, что против их дачи есть одна свободная, тут же переселился туда.
В первый же вечер их знакомства Ольга спросила, правда ли, что Илья Ильич очень скучает. Он признался, что скучает, но не очень, так как понемногу готовится к переезду в деревню. На вопрос Ольги, собирается ли Обломов за границу, он ответил, что обязательно поедет. Увидев, что Ольга как-то лукаво улыбается, Обломов не решился обмануть ее.
— Я немного», ленив... — сказал он, — но...
И ему стало неловко за себя и досадно. А еще большую неловкость он испытал, когда Ольга стала спрашивать его, много ли он читает и что.
Потом она пела. Такого пения Илья Ильич не слыхал давно.
После этого вечера Обломов с Ольгой виделись почти каждый день, много говорили, Ольга часто мило подшучивала над ним, над его леностью, о которой рассказал ей Штольц.
Илья Ильич страдал от этих ее слов, однако Ольга так располагала к себе, была такой доброй и ласковой, что обида быстро проходила. Однажды, после того как она исполнила арию, Обломов признался ей в любви.
| Часть 1 | Часть 2 | Часть 3 | Часть 4 |
ЧАСТЬ ВТОРАЯ
Штольц был немец только вполовину, по отцу; мать его была русская; веру он исповедовал православную; природная речь его была русская: он учился ей у матери и из книг, в университетской аудитории и в играх с деревенскими мальчишками, в толках с их отцами и на московских базарах. Немецкий же язык он наследовал от отца да из книг.
В селе Верхлёве, где отец его был управляющим, Штольц вырос и воспитывался. С восьми лет он сидел с отцом за географической картой, разбирал по складам Гердера, Виланда, библейские стихи и подводил итоги безграмотным счетам крестьян, мещан и фабричных, а с матерью читал священную историю, учил басни Крылова и разбирал по складам же «Телемака».
Оторвавшись от указки, бежал разорять птичьи гнезда с мальчишками, и нередко, среди класса или за молитвой, из кармана его раздавался писк галчат.
Бывало и то, что отец сидит в послеобеденный час под деревом в саду и курит трубку, а мать вяжет какую-нибудь фуфайку или вышивает по канве; вдруг с улицы раздается шум, крики, и целая толпа людей врывается в дом.
Что такое? - спрашивает испуганная мать.
Верно, опять Андрея ведут, - хладнокровно говорит отец.
Двери распахиваются, и толпа мужиков, баб, мальчишек вторгается в сад. В самом деле, привели Андрея - но в каком виде: без сапог, с разорванным платьем и с разбитым носом или у него самого, или у другого мальчишки.
Мать всегда с беспокойством смотрела, как Андрюша исчезал из дома на полсутки, и если б только не положительное запрещение отца мешать ему, она бы держала его возле себя.
Она его обмоет, переменит белье, платье, и Андрюша полсутки ходит таким чистеньким, благовоспитанным мальчиком, а к вечеру, иногда и к утру, опять его кто-нибудь притащит выпачканного, растрепанного, неузнаваемого, или мужики привезут на возу с сеном, или, наконец, с рыбаками приедет он на лодке, заснувши на неводу.
Мать в слезы, а отец ничего, еще смеется.
Добрый бурш будет, добрый бурш! - скажет иногда.
Помилуй, Иван Богданыч, - жаловалась она, - не проходит дня, чтоб он без синего пятна воротился, а намедни нос до крови разбил.
Что за ребенок, если ни разу носу себе или другому не разбил? - говорил отец со смехом.
Мать поплачет, поплачет, потом сядет за фортепьяно и забудется за Герцем: слезы каплют одна за другой на клавиши. Но вот приходит Андрюша или его приведут; он начнет рассказывать так бойко, так живо, что рассмешит и ее, притом он такой понятливый! Скоро он стал читать «Телемака», как она сама, и играть с ней в четыре руки.
Однажды он пропал уже на неделю: мать выплакала глаза, а отец ничего - ходит по саду да курит.
Вот если б Обломова сын пропал, - сказал он на предложение жены поехать поискать Андрея, - так я бы поднял на ноги всю деревню и земскую полицию, а Андрей придет. О, добрый бурш!
На другой день Андрея нашли преспокойно спящего в своей постели, а под кроватью лежало чье-то ружье и фунт пороху и дроби.
Где ты пропадал? Где взял ружье? - засыпала мать вопросами. - Что ж молчишь?
Так! - только и было ответа.
Отец спросил: готов ли у него перевод из Корнелия Непота на немецкий язык.
Нет, - отвечал он.
Отец взял его одной рукой за воротник, вывел за ворота, надел ему на голову фуражку и ногой толкнул сзади так, что сшиб с ног.
Ступай, откуда пришел, - прибавил он, - и приходи опять с переводом вместо одной двух глав, а матери выучи роль из французской комедии, что она задала: без этого не показывайся!
Андрей воротился через неделю и принес и перевод и выучил роль.
Когда он подрос, отец сажал его с собой на рессорную тележку, давал вожжи и велел везти на фабрику, потом в поля, потом в город, к купцам, в присутственные места, потом посмотреть какую-нибудь глину, которую возьмет на палец, понюхает, иногда лизнет, и сыну даст понюхать, и объяснит, какая она, на что годится. Не то так отправятся посмотреть, как добывают поташ или деготь, топят сало.
Четырнадцати-пятнадцати лет мальчик отправлялся частенько один, в тележке или верхом, с сумкой у седла, с поручениями от отца в город, и никогда не случалось, чтоб он забыл что-нибудь, переиначил, недоглядел, дал промах.
Recht gut, mein lieber Junge! 4 - говорил отец, выслушав отчет, и, трепля его широкой ладонью по плечу, давал два-три рубля, смотря по важности поручения.
Мать после долго отмывает копоть, грязь, глину и сало с Андрюши.
Ей не совсем нравилось это трудовое, практическое воспитание. Она боялась, что сын ее сделается таким же немецким бюргером, из каких вышел отец. На всю немецкую нацию она смотрела как на толпу патентованных мещан, не любила грубости, самостоятельности и кичливости, с какими немецкая масса предъявляет везде свои тысячелетием выработанные бюргерские права, как корова носит свои рога, не умея кстати их спрятать.
На ее взгляд, во всей немецкой нации не было и не могло быть ни одного джентльмена. Она в немецком характере не замечала никакой мягкости, деликатности, снисхождения, ничего того, что делает жизнь так приятною в хорошем свете, с чем можно обойти какое-нибудь правило, нарушить общий обычай, не подчиниться уставу.
Нет, так и ломят эти невежи, так и напирают на то, что у них положено, что заберут себе в голову, готовы хоть стену пробить лбом, лишь бы поступить по правилам.
Она жила гувернанткой в богатом доме и имела случай быть за границей, проехала всю Германию и смешала всех немцев в одну толпу курящих коротенькие трубки и поплевывающих сквозь зубы приказчиков, мастеровых, купцов, прямых как палка офицеров с солдатскими и чиновников с будничными лицами, способных только на черную работу, на труженическое добывание денег, на пошлый порядок, скучную правильность жизни и педантическое отправление обязанностей, - всех этих бюргеров с угловатыми манерами, с большими грубыми руками, с мещанской свежестью в лице и с грубой речью.
«Как ни наряди немца, - думала она, - какую тонкую и белую рубашку он ни наденет, пусть обуется в лакированные сапоги, даже наденет желтые перчатки, а всё он скроен как будто из сапожной кожи; из-под белых манжет всё торчат жесткие и красноватые руки, и из-под изящного костюма выглядывает если не булочник, так буфетчик. Эти жесткие руки так и просятся приняться за шило или много-много - что за смычок в оркестре».
А в сыне ей мерещился идеал барина, хотя выскочки, из черного тела, от отца бюргера, но все-таки сына русской дворянки, все-таки беленького, прекрасно сложенного мальчика, с такими маленькими руками и ногами, с чистым лицом, с ясным, бойким взглядом, такого, на каких она нагляделась в русском богатом доме, и тоже за границею, конечно не у немцев.
И вдруг он будет чуть не сам ворочать жернова на мельнице, возвращаться домой с фабрик и полей, как отец его: в сале, в навозе, с красно-грязными, загрубевшими руками, с волчьим аппетитом!
Она бросалась стричь Андрюше ногти, завивать кудри, шить изящные воротнички и манишки; заказывала в городе курточки; учила его прислушиваться к задумчивым звукам Герца, пела ему о цветах, о поэзии жизни, шептала о блестящем призвании то воина, то писателя, мечтала с ним о высокой роли, какая выпадает иным на долю...
И вся эта перспектива должна сокрушиться от щелканья счетов, от разбиранья замасленных расписок мужиков, от обращения с фабричными!
Она возненавидела даже тележку, на которой Андрюша ездил в город, и клеенчатый плащ, который подарил ему отец, и замшевые зеленые перчатки - все грубые атрибуты трудовой жизни.
На беду, Андрюша отлично учился, и отец сделал его репетитором в своем маленьком пансионе.
Ну, пусть бы так; но он положил ему жалованье, как мастеровому, совершенно по-немецки: по десяти рублей в месяц, и заставлял его расписываться в книге.
Утешься, добрая мать: твой сын вырос на русской почве - не в будничной толпе с бюргерскими коровьими рогами, с руками, ворочающими жернова. Вблизи была Обломовка: там вечный праздник! Там сбывают с плеч работу, как иго; там барин не встает с зарей и не ходит по фабрикам около намазанных салом и маслом колес и пружин.
Да и в самом Верхлёве стоит, хотя большую часть года пустой, запертый дом, но туда частенько забирается шаловливый мальчик, и там видит он длинные залы и галереи, темные портреты на стенах, не с грубой свежестью, не с жесткими большими руками, - видит томные голубые глаза, волосы под пудрой, белые, изнеженные лица, полные груди, нежные с синими жилками руки в трепещущих манжетах, гордо положенные на эфес шпаги; видит ряд благородно-бесполезно в неге протекших поколений, в парче, бархате и кружевах.
Он в лицах проходит историю славных времен, битв, имен; читает там повесть о старине, не такую, какую рассказывал ему сто раз, поплевывая, за трубкой, отец о жизни в Саксонии между брюквой и картофелем, между рынком и огородом...
Года в три раз этот замок вдруг наполнялся народом, кипел жизнью, праздниками, балами; в длинных галереях сияли по ночам огни.
Приезжали князь и княгиня с семейством: князь - седой старик с выцветшим пергаментным лицом, тусклыми навыкате глазами и большим плешивым лбом, с тремя звездами, с золотой табакеркой, с тростью с яхонтовым набалдашником, в бархатных сапогах; княгиня - величественная красотой, ростом и объемом женщина, к которой, кажется, никогда никто не подходил близко, не обнял, не поцеловал ее, даже сам князь, хотя у ней было пятеро детей.
Она казалась выше того мира, в который нисходила в три года раз; ни с кем не говорила, никуда не выезжала, а сидела в угольной зеленой комнате с тремя старушками, да через сад, пешком, по крытой галерее, ходила в церковь и садилась на стул за ширмы.
Зато в доме кроме князя и княгини был целый такой веселый и живой мир, что Андрюша детскими зелененькими глазками своими смотрел вдруг в три или четыре разные сферы, бойким умом жадно и бессознательно наблюдал типы этой разнородной толпы, как пестрые явления маскарада.
Тут были князья Пьер и Мишель, из которых первый тотчас преподал Андрюше, как бьют зорю в кавалерии и пехоте, какие сабли и шпоры гусарские и какие драгунские, каких мастей лошади в каждом полку и куда непременно надо поступить после ученья, чтоб не опозориться.
Другой, Мишель, только лишь познакомился с Андрюшей, как поставил его в позицию и начал выделывать удивительные штуки кулаками, попадая ими Андрюше то в нос, то в брюхо, потом сказал, что это английская драка.
Дня через три Андрей, на основании только деревенской свежести и с помощью мускулистых рук, разбил ему нос и по английскому, и по русскому способу, без всякой науки, и приобрел авторитет у обоих князей.
Были еще две княжны, девочки одиннадцати и двенадцати лет, высокенькие, стройные, нарядно одетые, ни с кем не говорившие, никому не кланявшиеся и боявшиеся мужиков.
Была их гувернантка, m-lle Ernestine, которая ходила пить кофе к матери Андрюши и научила делать ему кудри. Она иногда брала его голову, клала на колени и завивала в бумажки до сильной боли, потом брала белыми руками за обе щеки и целовала так ласково!
Потом был немец, который точил на станке табакерки и пуговицы, потом учитель музыки, который напивался от воскресенья до воскресенья, потом целая шайка горничных, наконец, стая собак и собачонок.
Всё это наполняло дом и деревню шумом, гамом, стуком, кликами и музыкой.
С одной стороны Обломовка, с другой - княжеский замок, с широким раздольем барской жизни, встретились с немецким элементом, и не вышло из Андрея ни доброго бурша, ни даже филистера.
Отец Андрюши был агроном, технолог, учитель. У отца своего, фермера, он взял практические уроки в агрономии, на саксонских фабриках изучил технологию, а в ближайшем университете, где было около сорока профессоров, получил призвание к преподаванию того, что кое-как успели ему растолковать сорок мудрецов.
С тех пор Иван Богданович не видал ни родины, ни отца. Шесть лет пространствовал он по Швейцарии, Австрии, а двадцать лет живет в России и благословляет свою судьбу.
Он был в университете и решил, что сын его должен быть также там, - нужды нет, что это будет уже не немецкий университет, нужды нет, что университет русский должен будет произвести переворот в жизни его сына и далеко отвести от той колеи, которую мысленно проложил отец в жизни сына.
А он сделал это очень просто: взял колею от своего деда и продолжил ее, как по линейке, до будущего своего внука и был покоен, не подозревая, что варьяции Герца, мечты и рассказы матери, галерея и будуар в княжеском замке обратят узенькую немецкую колею в такую широкую дорогу, какая не снилась ни деду его, ни отцу, ни ему самому.
Впрочем, он не был педант в этом случае и не стал бы настаивать на своем; он только не умел бы начертать в своем уме другой дороги сыну.
Он мало об этом заботился. Когда сын его воротился из университета и прожил месяца три дома, отец сказал, что делать ему в Верхлёве больше нечего, что вон уж даже Обломова отправили в Петербург, что, следовательно, и ему пора.
А отчего нужно ему в Петербург, почему не мог он остаться в Верхлёве и помогать управлять имением, - об этом старик не спрашивал себя; он только помнил, что когда он сам кончил курс ученья, то отец отослал его от себя.
И он отослал сына - таков обычай в Германии. Матери не было на свете, и противоречить было некому.
В день отъезда Иван Богданович дал сыну сто рублей ассигнациями.
Ты поедешь верхом до губернского города, - сказал он. - Там получи от Калинникова триста пятьдесят рублей, а лошадь оставь у него. Если ж его нет, продай лошадь; там скоро ярмарка: дадут четыреста рублей и не на охотника. До Москвы доехать тебе станет рублей сорок, оттуда в Петербург - семьдесят пять; останется довольно. Потом - как хочешь. Ты делал со мной дела, стало быть, знаешь, что у меня есть некоторый капитал; но ты прежде смерти моей на него не рассчитывай, а я, вероятно, еще проживу лет двадцать, разве только камень упадет на голову. Лампада горит ярко, и масла в ней много. Образован ты хорошо: перед тобой все карьеры открыты; можешь служить, торговать, хоть сочинять, пожалуй, - не знаю, что ты изберешь, к чему чувствуешь больше охоты...
Да я посмотрю, нельзя ли вдруг по всем, - сказал Андрей.
Отец захохотал изо всей мочи и начал трепать сына по плечу так, что и лошадь бы не выдержала. Андрей ничего.
Ну а если не станет уменья, не сумеешь сам отыскать вдруг свою дорогу, понадобится посоветоваться, спросить - зайди к Рейнгольду: он научит. О! - прибавил он, подняв пальцы вверх и тряся головой. - Это... это (он хотел похвалить и не нашел слова)... Мы вместе из Саксонии пришли. У него четырехэтажный дом. Я тебе адрес скажу...
Не надо, не говори, - возразил Андрей, - я пойду к нему, когда у меня будет четырехэтажный дом, а теперь обойдусь без него...
Опять трепанье по плечу.
Андрей вспрыгнул на лошадь. У седла были привязаны две сумки: в одной лежал клеенчатый плащ и видны были толстые, подбитые гвоздями сапоги да несколько рубашек из верхлёвского полотна - вещи, купленные и взятые по настоянию отца; в другой лежал изящный фрак тонкого сукна, мохнатое пальто, дюжина тонких рубашек и ботинки, заказанные в Москве, в память наставлений матери.
Ну! - сказал отец.
Ну! - сказал сын.
Всё? - спросил отец.
Всё! - отвечал сын.
Они посмотрели друг на друга молча, как будто пронзали взглядом один другого насквозь.
Между тем около собралась кучка любопытных соседей посмотреть, с разинутыми ртами, как управляющий отпустит сына на чужую сторону.
Отец и сын пожали друг другу руки. Андрей поехал крупным шагом.
Каков щенок: ни слезинки! - говорили соседи. - Вон две вороны так и надседаются, каркают на заборе: накаркают они ему - погоди ужо!..
Да что ему вороны? Он на Ивана Купала по ночам в лесу один шатается: к ним, братцы, это не пристает. Русскому бы не сошло с рук!..
А старый-то нехристь хорош! - заметила одна мать. - Точно котенка выбросил на улицу: не обнял, не взвыл!
Стой! Стой, Андрей! - закричал старик.
Андрей остановил лошадь.
А! Заговорило, видно, ретивое! - сказали в толпе с одобрением.
Ну? - спросил Андрей.
Подпруга слаба, надо подтянуть.
Доеду до Шамшевки, сам поправлю. Время тратить нечего, надо засветло приехать.
Ну! - сказал, махнув рукой, отец.
Ну! - кивнув головой, повторил сын и, нагнувшись немного, только хотел пришпорить коня.
Ах вы, собаки, право, собаки! Словно чужие! - говорили соседи.
Но вдруг в толпе раздался громкий плач: какая-то женщина не выдержала.
Батюшка ты, светик! - приговаривала она, утирая концом головного платка глаза. - Сиротка бедный! Нет у тебя родимой матушки, некому благословить-то тебя... Дай хоть я перекрещу тебя, красавец мой!..
Андрей подъехал к ней, соскочил с лошади, обнял старуху, потом хотел было ехать - и вдруг заплакал, пока она крестила и целовала его. В ее горячих словах послышался ему будто голос матери, возник на минуту ее нежный образ.
Он еще крепко обнял женщину, наскоро отер слезы и вскочил на лошадь. Он ударил ее по бокам и исчез в облаке пыли; за ним с двух сторон отчаянно бросились вдогонку три дворняжки и залились лаем.
Сноски
4 Недурно, мой дорогой мальчик! (нем .).
Часть вторая
Штольц был немец только по отцу, мать его была русской. Вырос и воспитывался Штольц в селе Верхлеве, где его отец был управляющим. С детства Штольц был приучен к наукам. Но Андрей любил и пошалить, так что ему нередко разбивали то нос, то глаз. Отец никогда не ругал его за это, даже говорил, что так и должен расти мальчик.
Мать очень переживала за сына. Она боялась, что Штольц вырастет таким же, как его отец — настоящим немецким бюргером. В сыне ей мерещился идеал барина. И она стригла ему ногти, завивала локоны, читала ему стихи, пела песни, играла произведения великих композиторов. И Андрей вырос на почве русской культуры, хоть и с немецкими задатками. Ведь рядом были Обломовка и княжеский замок, куда нередко наведывались хозяева, которые ничего не имели против дружбы со Штольцем.
Отец мальчика даже и не подозревал, что все это окружение обратит «узенькую немецкую колею в такую широкую дорогу, какая не снилась ни деду, ни отцу, ни ему самому».
Когда мальчик вырос, отец отпустил сына из дома, чтобы дальше он строил свою жизнь сам. Отец хочет дать сыну «нужные адреса» нужных людей, но Андрей отказывается, говоря, что пойдет к ним лишь тогда, когда у него будет свой дом. Мать плачет, провожая сына. Андрей обнял ее и тоже расплакался, но взял себя в руки и уехал.
Штольц — ровесник Обломову. Он всегда в движении. По жизни шел твердо и бодро, воспринимая все ясно и прямо. Больше всего он боялся воображения, мечты, все у него подвергалось анализу, пропускалось через ум. И он все шел и шел прямо по избранной раз им дороге, отважно шагая через все преграды.
С Обломовым его связывали детство и школа. Он выполнял при Илье Ильиче роль сильного. Кроме того, Штольца привлекала та светлая и детская душа, которая была у Обломова.
Штольц и Обломов здороваются. Штольц советует Обломову встряхнуться, поехать куда-нибудь. Обломов жалуется на свои несчастья. Штольц советует снять старосту, завести школу в деревне. А с квартирой обещает все уладить. Штольц интересуется, ходит ли Обломов куда- нибудь, бывает ли где? Обломов говорит, что нет. Штольц возмущен, он говорит, что пора давно выйти из этого сонного состояния.
Штольц решил встряхнуть Обломова, он зовет Захара, чтобы тот одел барина. Чрез десять минут Штольц и Обломов выходят из дома.
Обломов из уединения вдруг очутился в толпе людей. Так прошла неделя, другая. Обломов восставал, жаловался, ему не нравилась вся эта суета, вечная беготня, игра страстей. Где же здесь человек? Он говорит, что свет, общество, в сущности, тоже спят, это все сон. Ни на ком нет свежего лица, ни у кого нет спокойного, ясного взгляда. Штольц называет Обломова философом. Обломов говорит, что его план жизни — это деревня, спокойствие, жена, дети. Штольц спрашивает, кто таков Илья Ильич, к какому разряду он себя причисляет? Обломов говорит, что пусть Захара спросит. Захар отвечает, что это — барин. Штольц смеется. Обломов продолжает рисовать Штольцу свой идеальный мир, в котором царят покой и тишина. Штольц говорит, что Илья Ильич выбрал для себя то, что было у дедов и отцов. Штольц предлагает познакомить Обломова с Ольгой Ильинской, а также говорит, что нарисованный ему Обломовым мир — это не жизнь, это обломовщина. Штольц напоминает Илье Ильичу, что когда-то тот хотел путешествовать, увидеть мир. Куда все это делось? Обломов просит Штольца не бранить его, а лучше помочь, потому что сам он не справится. Ведь он просто гаснет, никто не указал ему, как жить. «Или я не понял этой жизни, или она никуда не годится», — заключает Обломов. Штольц спрашивает, почему же Илья не бежал прочь от этой жизни? Обломов говорит, что не он один таков: «Да я ли один? Смотри: Михайлов, Петров, Семенов, Алексеев, Степанов… не пересчитаешь: наше имя — легион!» Штольц решает, не медля ни минуты, собираться к отъезду за границу.
После ухода Штольца Обломов размышляет, что за такое ядовитое слово «обломовщина». Что ему теперь делать: идти вперед или остаться там, где он сейчас?
Через две недели Штольц уехал в Англию, взяв с Обломова слово, что тот приедет в Париж. Но Обломов не сдвинулся с места ни через месяц, ни через три. Что же стало причиной? Обломов более не лежит на диване, он пишет, читает, переехал жить на дачу. Все дело в Ольге Ильинской.
Штольц познакомил Обломова с ней перед отъездом. Ольга — это чудесное создание «с благоухающей свежестью ума и чувств». Она была проста и естественна, не было в ней ни жеманства, ни кокетства, ни доли лжи. Она любила музыку и прекрасно пела. Она не была в строгом смысле слова красавица, но всем казалось таковой. Ее взгляд смущал Обломова.
Тарантьев в один день перевез весь дом Обломова к своей куме на Выборгскую сторону, и Обломов жил теперь на даче по соседству с дачей Ильинских. Обломов заключил с кумой Тарантьева контракт. Штольц рассказал Ольге все об Обломове и попросил приглядывать за ним. Ольга и Илья Ильич проводят все дни вместе.
Обломову Ольга стала сниться по ночам. Он думает, что это и есть тот идеал спокойной любви, к которому он стремился.
Ольга же воспринимала их знакомство как урок, который она преподаст Обломову. Она уже составила план, как отучит его от лежания, заставит читать книги и полюбить вновь все то, что он любил раньше. Так что Штольц не узнает своего друга, когда вернется.
После встречи с Обломовым Ольга сильно изменилась, осунулась, боялись, что она даже заболела.
Во время очередной встречи Обломов и Ольга разговаривают о предполагаемой поездке Ильи Ильича. Обломов не
решается признаться Ильинской в любви. Ольга протягивает ему руку, которую тот целует, и Ольга уходит домой.
Обломов вернулся к себе и отругал Захара за мусор, который повсюду в доме. Захар к тому времени успел жениться на Анисье, и теперь она заправляла всем хозяйством Обломова. Она быстро прибрала в доме.
Обломов же опять лег на диван и все думал о том, что, возможно, Ольга тоже любит его, только боится признаться в этом. Но в то же время он не может поверить, что его можно полюбить. Пришел человек от тетки Ольги звать Обломова в гости. И Обломов вновь уверяется в том, что Ольга любит его. Он опять хочет признаться Ильинской в любви, но так и не может перебороть себя.
Весь этот день Обломову пришлось провести с компании тетки Ольги и барона, опекуна небольшого имения Ольги. Появление в доме Ильинских Обломова не взволновало тетку, она никак не смотрела на постоянные прогулки Ольги и Ильи Ильича, тем более, что слышала о просьбе Штольца не спускать с Обломова глаз, раскачать его.
Обломову скучно сидеть с теткой и бароном, он страдает оттого, что дал понять Ольге, что знает о ее чувствах к нему. Когда Ольга наконец появилась, Обломов не узнал ее, это был другой человек. Видно было, что она заставила себя спуститься.
Ольгу просят спеть. Она поет так, как поют все, ничего завораживающего Обломов в ее голосе не услышал. Обломов не может понять, что же случилось. Он раскланивается и уходит.
Ольга переменилась за это время, она как будто «слушала курс жизни не по дням, а по часам». Она теперь вступила «в сферу сознания».
Обломов решает переехать либо в город, либо за границу, но подальше от Ольги, ему невыносимы перемены, произошедшие в ней.
На следующий день Захар сообщил Обломову, что видел Ольгу, рассказал ей, как живет барин и что хочет переехать
в город. Обломов очень разозлился на болтливого Захара и прогнал его. Но Захар вернулся и сказал, что барышня просила Обломова прийти в парк. Обломов одевается и бежит к Ольге. Ольга спрашивает Обломова, почему он так давно у них не появлялся. Обломов понимает, что она выросла, стала выше его духовно, и ему становится страшно. Разговор идет о том о сем: о здоровье, книгах, о работе Ольги. Затем он решили пройтись. Обломов намеками говорит о своих чувствах. Ольга дает ему понять, что есть надежда. Обломов обрадовался своему счастью. Так они и расстались.
С тех пор уже не было внезапных перемен в Ольге. Она была ровна. Иногда она вспоминала слова Штольца, что она еще не начинала жить. И теперь она поняла, что Штольц был прав.
Для Обломова теперь Ольга была «первым человеком», он мысленно разговаривал с ней, продолжал разговор при встрече, а потом опять в мыслях дома. Он уже не жил прежней жизнью и соизмерял свою жизнь с тем, что скажет Ольга. Они везде бывают, ни дня Обломов не провел дома, не прилег. И Ольга расцвела, в глазах ее прибавился свет, в движениях — грация. В то же время она гордилась и любовалась Обломовым, поверженным к ее ногам.
Любовь обоих героев стала тяготить их, появились обязанности и какие-то права. Но все же жизнь Обломова оставалась в планах, не была реализована. Обломов больше всего боялся, что однажды Ольга потребует от него решительных действий.
Ольга с Обломовым много разговаривают, гуляют. Ольга говорит, что любовь — это долг, и ей хватит сил прожить всю жизнь и пролюбить. Обломов говорит, что когда Ольга рядом, ему все ясно, но когда ее нет, начинается игра в вопросы, в сомнения. И ни Обломов, ни Ольга не лгали в своих чувствах.
На следующее утро Обломов проснулся в плохом настроении. Дело в том, что вечером он углубился в самоанализ и пришел к выводу, что не могла Ольга полюбить его, это не любовь, а лишь предчувствие ее. А он — тот, кто первым подвернулся под руку. Он решил писать к Ольге. Илья Ильич пишет, что шалости прошли, и любовь стала для него болезнью. А с ее стороны это не любовь, это всего лишь бессознательная потребность любить. И когда придет тот, другой, она очнется. Больше не надо видеться.
Обломову стало легко на душе, после того как он «сбыл груз души с письмом». Запечатав письмо, Илья Ильич приказывает Захару отнести его Ольге. Но Захар не отнес, а все перепутал. Тогда Обломов передал письмо Кате — горничной Ольги, а сам пошел в деревню.
По дороге он увидел вдалеке Ольгу, увидел, как она прочла письмо. Он пошел в парк и встретил там Ольгу, она плакала.
Обломов спросил, что он может сделать, чтобы она не плакала, но Ольга просит лишь уйти и взять письмо с собой. Обломов говорит, что у него тоже болит душа, но он отказывается от Ольги ради ее же счастья. Но Ольга говорит, что он страдает оттого, что когда-нибудь она разлюбит его, а ей страшно, что когда-нибудь он может разлюбить ее. Это не любовь была, а эгоизм. Обломов был поражен тем, что говорила Ольга, тем более, что это была правда, которой он так избегал. Ольга желает Обломову быть спокойным, ведь его счастье в этом. Обломов говорит, что Ольга умнее его. Она отвечает, что проще и смелее. Ведь он всего боится, считает, что можно вот так взять и разлюбить. Она говорит, что письмо было нужно, ведь в нем вся нежность и забота Ильи Ильича о ней, его пламенное сердце — все то, за что она его и полюбила. Ольга уходит домой, садится за пианино и поет, как еще не пела никогда.
Дома Обломов нашел письмо от Штольца с требованием приехать в Швейцарию. Обломов думает, что Андрей не знает, какая трагедия здесь разыгрывается. Много дней кряду Обломов не отвечает Штольцу. Он опять с Ольгой. Между ними установились какие-то другие отношения: все было намеком на любовь. Они стали чутки и осторожны. Однажды Ольге стало плохо. Она сказала, что у нее жар в сердце. Но потом все прошло. Ее мучило то, что Обломов стал для нее ближе, дороже, роднее. Он был не испорчен светом, невинен. И это Ольга угадала в нем.
Время шло, а Обломов так и не сдвинулся с места. Вся его жизнь теперь крутилась вокруг Ольги и ее дома, «все остальное утопало в сфере чистой любви». Ольга чувствует, что чего-то ей недостает в это любви, но чего, не может понять.
Однажды они шли вместе откуда-то, вдруг остановилась коляска, и оттуда выглянула Сонечка — давняя знакомая Ольги, светская львица, и ее сопровождающие. Все как-то странно взглянули на Обломова, он не мог вынести этого взгляда и быстро ушел. Это обстоятельство заставило его еще раз подумать об их любви. И Илья Ильич решает, что вечером он расскажет Ольге, какие строгие обязанности налагает любовь.
Обломов нашел Ольгу в роще и сказал, что так любит ее, что если бы она полюбила другого, он бы молча проглотил свое горе и уступил бы ее другому. Ольга говорит, что она бы не уступила его другой, она хочет быть счастлива только с ним. Тогда Обломов говорит, что нехорошо, что они видятся всегда тихонько, ведь на свете столько соблазнов. Ольга говорит, что она всегда сообщает тетушке, когда видится с ним. Но Обломов настаивает на том, что видеться наедине плохо. Что скажут, когда узнают? Например, Сонечка, она так странно смотрела на него. Ольга говорит, что Сонечка давно все знает. Обломов не ожидал такого поворота. Перед его глазами стояли теперь Сонечка, ее муж, тетка Ольги и все смеялись над ним. Ольга хочет уйти, но Обломов останавливает ее. Он просит Ольгу быть его женой. Она соглашается. Обломов спрашивает Ольгу, смогла бы она, как некоторые женщины, пожертвовать всем ради него, бросить вызов свету. Ольга говорит, что никогда не пошла бы таким путем, потому что он ведет в итоге к расставанию. А она расставаться с Обломовым не хочет. «Он испустил радостный вопль и упал на траву к ее ногам».
Краткий пересказ второй части романа Гончарова «Обломов»
4.7 (93.33%) 3 votesНа этой странице искали:
- обломов 2 часть краткое содержание
- краткий пересказ 2 части обломова
- краткое содержание обломова 2 часть
- краткое содержание обломов 2 часть
- краткий пересказ обломов 2 часть
«Теперь или никогда!» - явились Обломову грозные слова, лишь только он проснулся утром.
Он встал с постели, прошелся раза три по комнате, заглянул в гостиную: Штольц сидит и пишет.
Захар! - кликнул он.
Не слышно прыжка с печки - Захар нейдет: Штольц услал его на почту.
Обломов подошел к своему запыленному столу, сел, взял перо, обмакнул в чернильницу, но чернил не было, поискал бумаги - тоже нет.
Он задумался и машинально стал чертить пальцем по пыли, потом посмотрел, что написал: вышло Обломовщина .
Он проворно стер написанное рукавом. Это слово снилось ему ночью написанное огнем на стенах, как Бальтазару на пиру.
Пришел Захар и, найдя Обломова не на постели, мутно поглядел на барина, удивляясь, что он на ногах. В этом тупом взгляде удивления написано было: «Обломовщина!»
«Одно слово, - думал Илья Ильич, - а какое… ядовитое!..»
Захар, по обыкновению, взял гребенку, щетку, полотенце и подошел было причесать Илью Ильича.
Поди ты к черту! - сердито сказал Обломов и вышиб из рук Захара щетку, а Захар сам уже уронил и гребенку на пол.
Не ляжете, что ли, опять? - спросил Захар. - Так я бы поправил постель.
Принеси мне чернил и бумаги, - отвечал Обломов.
Обломов задумался над словами: «Теперь или никогда!»
Вслушиваясь в это отчаянное воззвание разума и силы, он сознавал и взвешивал, что́ у него осталось еще в остатке воли и куда он понесет, во что положит этот скудный остаток.
После мучительной думы он схватил перо, вытащил из угла книгу и в один час хотел прочесть, написать и передумать все, чего не прочел, не написал и не передумал в десять лет.
Что ему делать теперь? Идти вперед или остаться? Этот обломовский вопрос был для него глубже гамлетовского. Идти вперед - это значит вдруг сбросить широкий халат не только с плеч, но и с души, с ума; вместе с пылью и паутиной со стен смести паутину с глаз и прозреть!
Какой первый шаг сделать к тому? С чего начать? Не знаю, не могу… нет… лукавлю, знаю и… Да и Штольц тут, под боком; он сейчас скажет.
А что он скажет? «В неделю, скажет, набросать подробную инструкцию поверенному и отправить его в деревню, Обломовку заложить, прикупить земли, послать план построек, квартиру сдать, взять паспорт и ехать на полгода за границу, сбыть лишний жир, сбросить тяжесть, освежить душу тем воздухом, о котором мечтал некогда с другом, пожить без халата, без Захара и Тарантьева, надевать самому чулки и снимать с себя сапоги, спать только ночью, ехать, куда все едут, по железным дорогам, на пароходах, потом… Потом… поселиться в Обломовке, знать, что такое посев и умолот, отчего бывает мужик беден и богат; ходить в поле, ездить на выборы, на завод, на мельницы, на пристань. В то же время читать газеты, книги, беспокоиться о том, зачем англичане послали корабль на Восток…»
Вот что он скажет! Это значит идти вперед… И так всю жизнь! Прощай, поэтический идеал жизни! Это какая-то кузница, не жизнь; тут вечно пламя, трескотня, жар, шум… когда же пожить? Не лучше ли остаться?
Остаться - значит надевать рубашку наизнанку, слушать прыганье Захаровых ног с лежанки, обедать с Тарантьевым, меньше думать обо всем, не дочитать до конца путешествия в Африку, состариться мирно на квартире у кумы Тарантьева…
«Теперь или никогда!» «Быть или не быть!» Обломов приподнялся было с кресла, но не попал сразу ногой в туфлю и сел опять.
Через две недели Штольц уже уехал в Англию, взяв с Обломова слово приехать прямо в Париж. У Илья Ильича уже и паспорт был готов, он даже заказал себе дорожное пальто, купил фуражку. Вот как подвинулись дела.
Уже Захар глубокомысленно доказывал, что довольно заказать и одну пару сапог, а под другую подкинуть подметки. Обломов купил одеяло, шерстяную фуфайку, дорожный несессер, хотел - мешок для провизии, но десять человек сказали, что за границей провизии не возят.
Захар метался по мастеровым, по лавкам, весь в поту, и хоть много гривен и пятаков положил себе в карман от сдач по лавкам, но проклял и Андрея Ивановича и всех, кто выдумал путешествия.
Что он там один-то будет делать? - говорил он в лавочке. - Там, слышь, служат господам все девки. Где девке сапоги стащить? И как она станет чулки натягивать на голые ноги барину?..
Он даже усмехнулся, так что бакенбарды поднялись в сторону, и покачал головой. Обломов не поленился, написал, что взять с собой и что оставить дома. Мебель и прочие вещи поручено Тарантьеву отвезти на квартиру к куме, на Выборгскую сторону, запереть их в трех комнатах и хранить до возвращения из-за границы.
Уже знакомые Обломова, иные с недоверчивостью, другие со смехом, а третьи с каким-то испугом, говорили: «Едет; представьте, Обломов сдвинулся с места!»
Но Обломов не уехал ни через месяц, ни через три.
Накануне отъезда у него ночью раздулась губа. «Муха укусила, нельзя же с этакой губой в море!» - сказал он и стал ждать другого парохода. Вот уж август, Штольц давно в Париже, пишет к нему неистовые письма, но ответа не получает.
Отчего же? Вероятно, чернила засохли в чернильнице и бумаги нет? Или, может быть, оттого, что в обломовском стиле часто сталкиваются который и что , или, наконец, Илья Ильич в грозном клике: теперь или никогда остановился на последнем, заложил руки под голову - и напрасно будит его Захар.
Нет, у него чернильница полна чернил, на столе лежат письма, бумага, даже гербовая, притом исписанная его рукой.
Написав несколько страниц, он ни разу не поставил два раза который; слог его лился свободно и местами выразительно и красноречиво, как в «оны дни», когда он мечтал со Штольцем о трудовой жизни, о путешествии.
Встает он в семь часов, читает, носит куда-то книги. На лице ни сна, ни усталости, ни скуки. На нем появились даже краски, в глазах блеск, что-то вроде отваги или по крайней мере самоуверенности. Халата не видать на нем: Тарантьев увез его с собой к куме с прочими вещами.
Обломов сидит с книгой или пишет в домашнем пальто; на шее надета легкая косынка; воротнички рубашки выпущены на галстук и блестят, как снег. Выходит он в сюртуке, прекрасно сшитом, в щегольской шляпе… Он весел, напевает… Отчего же это?..
Вот он сидит у окна своей дачи (он живет на даче, в нескольких верстах от города), подле него лежит букет цветов. Он что-то проворно дописывает, а сам беспрестанно поглядывает через кусты, на дорожку, и опять спешит писать.
Вдруг по дорожке захрустел песок под легкими шагами; Обломов бросил перо, схватил букет и подбежал к окну.
Это вы, Ольга Сергеевна? Сейчас, сейчас! - сказал он, схватил фуражку, тросточку, выбежал в калитку, подал руку какой-то прекрасной женщине и исчез с ней в лесу, в тени огромных елей…
Захар вышел из-за какого-то угла, поглядел ему вслед, запер комнату и пошел в кухню.
Ушел! - сказал он Анисье.
А обедать будет?
Кто его знает? - сонно отвечал Захар.
Захар все такой же: те же огромные бакенбарды, небритая борода, тот же серый жилет и прореха на сюртуке, но он женат на Анисье, вследствие ли разрыва с кумой или так, по убеждению, что человек должен быть женат; он женился и, вопреки пословице, не переменился.
Штольц познакомил Обломова с Ольгой и ее теткой. Когда Штольц привел Обломова в дом к Ольгиной тетке в первый раз, там были гости. Обломову было тяжело и, по обыкновению, неловко.
«Хорошо бы перчатки снять, - думал он, - ведь в комнате тепло. Как я отвык от всего!..»
Штольц сел подле Ольги, которая сидела одна, под лампой, поодаль от чайного стола, опершись спиной на кресло, и мало занималась тем, что вокруг нее происходило.
Она очень обрадовалась Штольцу; хотя глаза ее не зажглись блеском, щеки не запылали румянцем, но по всему лицу разлился ровный, покойный свет и явилась улыбка.
Она называла его другом, любила за то, что он всегда смешил ее и не давал скучать, но немного и боялась, потому что чувствовала себя слишком ребенком перед ним.
Когда у ней рождался в уме вопрос, недоумение, она не вдруг решалась поверить ему: он был слишком далеко впереди ее, слишком выше ее, так что самолюбие ее иногда страдало от этой недозрелости, от расстояния в их уме и летах.
Штольц тоже любовался ею бескорыстно, как чудесным созданием, с благоухающею свежестью ума и чувств. Она была в глазах его только прелестный, подающий большие надежды ребенок.
Штольц, однакож, говорил с ней охотнее и чаще, нежели с другими женщинами, потому что она, хотя бессознательно, но шла простым, природным путем жизни и по счастливой натуре, по здравому, не перехитренному воспитанию не уклонялась от естественного проявления мысли, чувства, воли, даже до малейшего, едва заметного движения глаз, губ, руки.
Не оттого ли, может быть, шагала она так уверенно по этому пути, что по временам слышала рядом другие, еще более уверенные шаги «друга», которому верила, и с ними соразмеряла свои шаг.
Как бы то ни было, но в редкой девице встретишь такую простоту и естественную свободу взгляда, слова, поступка. У ней никогда не прочтешь в глазах: «теперь я подожму немного губу и задумаюсь - я так недурна. Взгляну туда и испугаюсь, слегка вскрикну, сейчас подбегут ко мне. Сяду у фортепьяно и выставлю чуть-чуть кончик ноги»…
Ни жеманства, ни кокетства, никакой лжи, никакой мишуры, ни умысла! Зато ее и ценил почти один Штольц, зато не одну мазурку просидела она одна, не скрывая скуки; зато, глядя на нее, самые любезные из молодых людей были неразговорчивы, не зная, что и как сказать ей…
Одни считали ее простой, недальней, неглубокой, потому что не сыпались с языка ее ни мудрые сентенции о жизни, о любви, ни быстрые, неожиданные и смелые реплики, ни вычитанные или подслушанные суждения о музыке и литературе: говорила она мало, и то свое, неважное - и ее обходили умные и бойкие «кавалеры»; небойкие, напротив, считали ее слишком мудреной и немного боялись. Один Штольц говорил с ней без умолка и смешил ее.
Любила она музыку, но пела чаще втихомолку, или Штольцу, или какой-нибудь пансионной подруге; а пела она, по словам Штольца, как ни одна певица не поет.
Только что Штольц уселся подле нее, как в комнате раздался ее смех, который был так звучен, так искренен и заразителен, что кто ни послушает этого смеха, непременно засмеется сам, не зная о причине.
Но не все смешил ее Штольц: через полчаса она слушала его с любопытством и с удвоенным любопытством переносила глаза на Обломова, а Обломову от этих взглядов - хоть сквозь землю провалиться.
«Что они такое говорят обо мне?» - думал он, косясь в беспокойстве на них. Он уже хотел уйти, но тетка Ольги подозвала его к столу и посадила подле себя, под перекрестный огонь взглядов всех собеседников.
Он боязливо обернулся к Штольцу - его уже не было, взглянул на Ольгу и встретил устремленный на него все тот же любопытный взгляд.
«Все еще смотрит!» - подумал он, в смущении оглядывая свое платье.
Он даже отер лицо платком, думая, не выпачкан ли у него нос, трогал себя за галстук, не развязался ли: это бывает иногда с ним; нет, все, кажется, в порядке, а она смотрит!
Но человек подал ему чашку чаю и поднос с кренделями. Он хотел подавить в себе смущение, быть развязным и в этой развязности захватил такую кучу сухарей, бисквитов, кренделей, что сидевшая с ним рядом девочка засмеялась. Другие поглядывали на кучу с любопытством.
«Боже мой, и она смотрит! - думает Обломов. - Что я с этой кучей сделаю?»
Он, и не глядя, видел, как Ольга встала с своего места и пошла в другой угол. У него отлегло от сердца.
А девочка навострила на него глаза, ожидая, что он сделает с сухарями.
«Съем поскорей», - подумал он и начал проворно убирать бисквиты; к счастью, они так и таяли во рту.
Оставались только два сухаря; он вздохнул свободно и решился взглянуть туда, куда пошла Ольга…
Боже! Она стоит у бюста, опершись на пьедестал, и следит за ним. Она ушла из своего угла, кажется, затем, чтоб свободнее смотреть на него: она заметила его неловкость с сухарями.
За ужином она сидела на другом конце стола, говорила, ела и, казалось, вовсе не занималась им. Но едва только Обломов боязливо оборачивался в ее сторону, с надеждой, авось она не смотрит, как встречал ее взгляд, исполненный любопытства, но вместе такой добрый…
Обломов после ужина торопливо стал прощаться с теткой: она пригласила его на другой день обедать и Штольцу просила передать приглашение. Илья Ильич поклонился и, не поднимая глаз, прошел всю залу. Вот сейчас за роялем ширмы и дверь. Он взглянул - за роялем сидела Ольга и смотрела на него с большим любопытством. Ему показалось, что она улыбалась.
«Верно, Андрей рассказал, что на мне были вчера надеты чулки разные или рубашка наизнанку!» - заключил он и поехал домой не в духе и от этого предположения и еще более от приглашения обедать, на которое отвечал поклоном: значит, принял.
С этой минуты настойчивый взгляд Ольги не выходил из головы Обломова. Напрасно он во весь рост лег на спину, напрасно брал самые ленивые и покойные позы - не спится, да и только. И халат показался ему противен, и Захар глуп и невыносим, и пыль с паутиной нестерпима.
Он велел вынести вон несколько дрянных картин, которые навязал ему какой-то покровитель бедных артистов; сам поправил штору, которая давно не поднималась, позвал Анисью и велел протереть окна, смахнул паутину, а потом лег на бок и продумал с час - об Ольге.
Он сначала пристально занялся ее наружностью, все рисовал в памяти ее портрет.
Ольга в строгом смысле не была красавица, то есть не было ни белизны в ней, ни яркого колорита щек и губ, и глаза не горели лучами внутреннего огня; ни кораллов на губах, ни жемчугу во рту не было, ни миньятюрных рук, как у пятилетнего ребенка, с пальцами в виде винограда.
Но если б ее обратить в статую, она была бы статуя грации и гармонии. Несколько высокому росту строго отвечала величина головы, величине головы - овал и размеры лица; все это, в свою очередь, гармонировало с плечами, плечи - с станом…
Кто ни встречал ее, даже рассеянный, и тот на мгновение останавливался перед этим так строго и обдуманно, артистически созданным существом.
Нос образовал чуть заметно выпуклую, грациозную линию; губы тонкие и большею частию сжатые: признак непрерывно устремленной на что-нибудь мысли. То же присутствие говорящей мысли светилось в зорком, всегда бодром, ничего не пропускающем взгляде темных, серо-голубых глаз. Брови придавали особенную красоту глазам: они не были дугообразны, не округляли глаз двумя тоненькими, нащипанными пальцем ниточками - нет, это были две русые, пушистые, почти прямые полоски, которые редко лежали симметрично: одна на линию была выше другой, от этого над бровью лежала маленькая складка, в которой как будто что-то говорило, будто там покоилась мысль.
Ходила Ольга с наклоненной немного вперед головой, так стройно, благородно покоившейся на тонкой, гордой, шее; двигалась всем телом ровно, шагая легко, почти неуловимо…
«Что это она вчера смотрела так пристально на меня? - думал Обломов. - Андрей божится, что о чулках и о рубашке еще не говорил, а говорил о дружбе своей ко мне, о том, как мы росли, учились, - все, что было хорошего, и между тем (и это рассказал), как несчастлив Обломов, как гибнет все доброе от недостатка участия, деятельности, как слабо мерцает жизнь и как…»
«Чему ж улыбаться? - продолжал думать Обломов. - Если у ней есть сколько-нибудь сердца, оно должно бы замереть, облиться кровью от жалости, а она… ну, бог с ней! Перестану думать! Вот только съезжу сегодня, отобедаю - и ни ногой».
Проходили дни за днями: он там и обеими ногами, и руками, и головой.
В одно прекрасное утро Тарантьев перевез весь его дом к своей куме, в переулок, на Выборгскую сторону, и Обломов дня три провел, как давно не проводил: без постели, без дивана, обедал у Ольгиной тетки.
Вдруг оказалось, что против их дачи есть одна свободная. Обломов нанял ее заочно и живет там. Он с Ольгой с утра до вечера; он читает с ней, посылает цветы, гуляет по озеру, по горам… он, Обломов.
Чего не бывает на свете! Как же это могло случиться? А вот как.
Когда они обедали со Штольцем у ее тетки, Обломов во время обеда испытывал ту же пытку, что и накануне, жевал под ее взглядом, говорил, зная, чувствуя, что над ним, как солнце, стоит этот взгляд, жжет его, тревожит, шевелит нервы, кровь. Едва-едва на балконе, за сигарой, за дымом, удалось ему на мгновение скрыться от этого безмолвного, настойчивого взгляда.
Что это такое? - говорил он, ворочаясь во все стороны. - Ведь это мученье! На смех, что ли, я дался ей? На другого ни на кого не смотрит так: не смеет. Я посмирнее, так вот она… Я заговорю с ней! - решил он, - и выскажу лучше сам словами то, что она так и тянет у меня из души глазами.
Вдруг она явилась перед ним на пороге балкона; он подал ей стул, и она села подле него.
Правда ли, что вы очень скучаете? - спросила она его.
Правда, - отвечал он, - но только не очень… У меня есть занятия.
Андрей Иваныч говорил, что вы пишете какой-то план?
Да, я хочу ехать в деревню пожить, так приготовляюсь понемногу.
А за границу поедете?
Да, непременно, вот как только Андрей Иваныч соберется.
Вы охотно едете? - спросила она.
Да, я очень охотно…
Он взглянул: улыбка так и ползает у ней по лицу, то осветит глаза, то разольется по щекам, только губы сжаты, как всегда. У него недостало духа солгать покойно.
Я немного… ленив… - сказал он, - но…
Ему стало вместе и досадно, что она так легко, почти молча, выманила у него сознание в лени. «Что она мне? Боюсь, что ли, я ее?» - думал он.
Ленивы! - возразила она с едва приметным лукавством. - Может ли это быть? Мужчина ленив - я этого не понимаю.
«Чего тут не понимать? - подумал он, - кажется, просто».
Я все больше дома сижу, оттого Андрей и думает, что я…
Но, вероятно, вы много пишете, - сказала она, - читаете. - Читали ли вы…?
Она смотрела на него так пристально.
Нет, не читал! - вдруг сорвалось у него в испуге, чтоб она не вздумала его экзаменовать.
Чего? - засмеявшись, спросила она.
И он засмеялся…
Я думал, что вы хотите спросить меня о каком-нибудь романе: я их не читаю.
Не угадали; я хотела спросить о путешествиях…
Он зорко поглядел на нее: у ней все лицо смеялось, а губы нет…
«О! да она… с ней надо быть осторожным…» - думал Обломов.
Что же вы читаете? - с любопытством спросила она.
Я, точно, люблю больше путешествия…
В Африку? - лукаво и тихо спросила она.
Он покраснел, догадываясь, не без основания, что ей было известно не только о том, что он читает, но и как читает.
Вы музыкант? - спросила она, чтоб вывести его из смущения.
В это время подошел Штольц.
Илья! Вот я сказал Ольге Сергеевне, что ты страстно любишь музыку, просил спеть что-нибудь… Casta diva .
Зачем же ты наговариваешь на меня? - отвечал Обломов. - Я вовсе не страстно люблю музыку…
Каков? - перебил Штольц. - Он как будто обиделся! Я рекомендую его как порядочного человека, а он спешит разочаровать на свой счет!
Я уклоняюсь только от роли любителя: это сомнительная, да и трудная роль!
Какая же музыка вам больше нравится? - спросила Ольга.
Трудно отвечать на этот вопрос! всякая! Иногда я с удовольствием слушаю сиплую шарманку, какой-нибудь мотив, который заронился мне в память, в другой раз уйду на половине оперы; там Мейербер зашевелит меня; даже песня с барки: смотря по настроению! Иногда и от Моцарта уши зажмешь…
Значит, вы истинно любите музыку.
Спойте же что-нибудь, Ольга Сергеевна, - просил Штольц.
А если мусье Обломов теперь в таком настроении, что уши зажмет? - сказала она, обращаясь к нему.
Тут следует сказать какой-нибудь комплимент, - отвечал Обломов. - Я не умею, да если б и умел, так не решился бы…
Отчего же?
А если вы дурно поете! - наивно заметил Обломов. - Мне бы потом стало так неловко…
Как вчера с сухарями… - вдруг вырвалось у ней, и она сама покраснела и бог знает что дала бы, чтоб не сказать этого. - Простите - виновата!.. - сказала она.
Обломов никак не ожидал этого и потерялся.
Это злое предательство! - сказал он вполголоса.
Нет, разве маленькое мщение, и то, ей-богу, неумышленное, за то, что у вас не нашлось даже комплимента для меня.
Может быть, найду, когда услышу.
А вы хотите, чтоб я спела? - спросила она.
Нет, это он хочет, - отвечал Обломов, указывая на Штольца.
Обломов покачал отрицательно головой:
Я не могу хотеть, чего не знаю.
Ты грубиян, Илья! - заметил Штольц. - Вот что значит залежаться дома и надевать чулки…
Помилуй, Андрей, - живо перебил Обломов, не давая ему договорить, - мне ничего не стоит сказать: «Ах! я очень рад буду, счастлив, вы, конечно, отлично поете… - продолжал он, обратясь к Ольге, - это мне доставит…» и т. д. Да разве это нужно?
Но вы могли пожелать по крайней мере, чтоб я спела… хоть из любопытства.
Не смею, - отвечал Обломов, - вы не актриса…
Ну, я вам спою, - сказала она Штольцу.
Илья, готовь комплимент.
Между тем наступил вечер. Засветили лампу, которая, как луна, сквозила в трельяже с плющом. Сумрак скрыл очертания лица и фигуры Ольги и набросил на нее как будто флеровое покрывало; лицо было в тени: слышался только мягкий, но сильный голос, с нервной дрожью чувства.
Она пела много арий и романсов, по указанию Штольца; в одних выражалось страдание с неясным предчувствием счастья, в других - радость, но в звуках этих таился уже зародыш грусти.
От слов, от звуков, от этого чистого, сильного девического голоса билось сердце, дрожали нервы, глаза искрились и заплывали слезами. В один и тот же момент хотелось умереть, не пробуждаться от звуков, и сейчас же опять сердце жаждало жизни…
Обломов вспыхивал, изнемогал, с трудом сдерживал слезы, и еще труднее было душить ему радостный, готовый вырваться из души крик. Давно не чувствовал он такой бодрости, такой силы, которая, казалось, вся поднялась со дна души, готовая на подвиг.
Он в эту минуту уехал бы даже за границу, если б ему оставалось только сесть и поехать.
В заключение она запела Casta diva : все восторги, молнией несущиеся мысли в голове, трепет, как иглы, пробегающий по телу, - все это уничтожило Обломова: он изнемог.
Довольны вы мной сегодня? - вдруг спросила Ольга Штольца, перестав петь.
Спросите Обломова, что он скажет? - сказал Штольц.
Ах! - вырвалось у Обломова.
Он вдруг схватил было Ольгу за руку и тотчас же оставил и сильно смутился.
Извините… - пробормотал он.
Слышите? - сказал ей Штольц. - Скажи по совести, Илья: как давно с тобой не случалось этого?
Это могло случиться сегодня утром, если мимо окон проходила сиплая шарманка… - вмешалась Ольга с добротой, так мягко, что вынула жало из сарказма.
Он с упреком взглянул на нее.
У него окна по сю пору не выставлены: не слыхать, что делается наруже, - прибавил Штольц.
Обломов с упреком взглянул на Штольца.
Штольц взял руку Ольги…
Не знаю, чему приписать, что вы сегодня пели, как никогда не пели, Ольга Сергеевна, по крайней мере я давно не слыхал. Вот мой комплимент! - сказал он, целуя каждый палец у нее.
Штольц уехал. Обломов тоже собрался, но Штольц и Ольга удержали его.
У меня дело есть, - заметил Штольц, - а ты ведь пойдешь лежать… еще рано…
Он не спал всю ночь: грустный, задумчивый проходил он взад и вперед по комнате; на заре ушел из дома, ходил по Неве, по улицам, бог знает что чувствуя, о чем думая…
Чрез три дня он опять был там и вечером, когда прочие гости уселись за карты, очутился у рояля, вдвоем с Ольгой. У тетки разболелась голова; она сидела в кабинете и нюхала спирт.
Хотите, я вам покажу коллекцию рисунков, которую Андрей Иваныч привез мне из Одессы? - спросила Ольга. - Он вам не показывал?
Вы, кажется, стараетесь по обязанности хозяйки занять меня? - спросил Обломов. - Напрасно!
Отчего напрасно? Я хочу, чтоб вам не было скучно, чтоб вы были здесь как дома, чтоб вам было ловко, свободно, легко и чтоб не уехали… лежать.
«Она - злое, насмешливое создание!» - подумал Обломов, любуясь против воли каждым ее движением.
Вы хотите, чтоб мне было легко, свободно и не было скучно? - повторил он.
Да, - отвечала она, глядя на него по-вчерашнему, но еще с большим выражением любопытства и доброты.
Для этого, во-первых, не глядите на меня так, как теперь, и как глядели намедни…
Любопытство в ее глазах удвоилось.
Вот именно от этого взгляда мне становится очень неловко… Где моя шляпа?..
Отчего же неловко? - мягко спросила она, и взгляд ее потерял выражение любопытства. Он стал только добр и ласков.
Не знаю; только мне кажется, вы этим взглядом добываете из меня все то, что не хочется, чтоб знали другие, особенно вы…
Отчего же? Вы друг Андрея Иваныча, а он друг мне, следовательно…
Следовательно, нет причины, чтоб вы знали про меня все, что знает Андрей Иваныч, - договорил он.
Причины нет, а есть возможность…
Благодаря откровенности моего друга - плохая услуга с его стороны!..
Разве у вас есть тайны? - спросила она. - Может быть, преступления? - прибавила она, смеясь и отодвигаясь от него.
Может быть, - вздохнув, отвечал он.
Да, это важное преступление, - сказала она робко и тихо, - надевать разные чулки.
Обломов схватил шляпу.
Нет сил! - сказал он. - И вы хотите, чтоб мне было ловко! Я разлюблю Андрея… Он и это сказал вам?
Он сегодня ужасно рассмешил меня этим, - прибавила Ольга, - он все смешит. Простите, не буду, не буду, и глядеть постараюсь на вас иначе…
Она сделала лукаво-серьезную мину.
Все это еще во-первых, - продолжала она, - ну, я не гляжу по-вчерашнему, стало быть вам теперь свободно, легко. Следует: во-вторых что надо сделать, чтоб вы не соскучились?
Он глядел прямо в ее серо-голубые, ласковые глаза.
Вот вы сами смотрите на меня теперь как-то странно… - сказала она.
Он в самом деле смотрел на нее как будто не глазами, а мыслью, всей своей волей, как магнетизер, но смотрел невольно, не имея силы не смотреть.
«Боже мой, какая она хорошенькая! Бывают же такие на свете! - думал он, глядя на нее почти испуганными глазами. - Эта белизна, эти глаза, где, как в пучине, темно и вместе блестит что-то… душа, должно быть! Улыбку можно читать, как книгу; за улыбкой эти зубы и вся голова… как она нежно покоится на плечах, точно зыблется, как цветок, дышит ароматом»…
«Да, я что-то добываю из нее, - думал он, - из нее что-то переходит в меня. У сердца, вот здесь, начинает будто кипеть и биться… Тут я чувствую что-то лишнее, чего, кажется, не было… Боже мой, какое счастье смотреть на нее! Даже дышать тяжело».
У него вихрем неслись эти мысли, и он все смотрел на нее, как смотрят в бесконечную даль, в бездонную пропасть, с самозабвением, с негой.
Да полноте, мсье Обломов, теперь как вы сами смотрите на меня! - говорила она, застенчиво отворачивая голову, но любопытство превозмогало, и она не сводила глаз с его лица.
Он не слышал ничего.
Он в самом деле все глядел и не слыхал ее слов и молча поверял, что в нем делается; дотронулся до головы - там тоже что-то волнуется, несется с быстротой. Он не успевает ловить мыслей: точно стая птиц, порхнули они, а у сердца, в левом боку, как будто болит.
Не смотрите же на меня так странно, - сказала она, - мне тоже неловко… И вы, верно, хотите добыть что-нибудь из моей души…
Что я могу добыть у вас? - машинально спросил он.
У меня тоже есть планы , начатые и неконченные, - отвечала она.
Он очнулся от этого намека на его неконченный план.
Странно! - заметил он. - Вы злы, а взгляд у вас добрый. Недаром говорят, что женщинам верить нельзя: они лгут и с умыслом - языком, и без умысла - взглядом, улыбкой, румянцем, даже обмороками…
Она не дала усилиться впечатлению, тихо взяла у него шляпу и сама села на стул.
Не стану, не стану, - живо повторила она. - Ах! простите, несносный язык! Но, ей-богу, это не насмешка! - почти пропела она, и в пении этой фразы задрожало чувство.
Обломов успокоился.
Этот Андрей!.. - с упреком произнес он.
Ну, во-вторых, скажите же, что делать, чтобы вы не соскучились? - спросила она.
Спойте! - сказал он.
Вот он, комплимент, которого я ждала! - радостно вспыхнув, перебила она. - Знаете ли, - с живостью продолжала потом, - если б вы не сказали третьего дня этого «ах» после моего пения, я бы, кажется, не уснула ночь, может быть плакала бы.
Отчего? - с удивлением спросил Обломов.
Она задумалась.
Сама не знаю, - сказала потом.
Вы самолюбивы; это оттого.
Да, конечно, оттого, - говорила она, задумываясь и перебирая одной рукой клавиши, - но ведь самолюбие везде есть, и много. Андрей Иваныч говорит, что это почти единственный двигатель, который управляет волей. Вот у вас, должно быть, нет его, оттого вы все…
Она не договорила.
Что? - спросил он.
Нет, так, ничего, - замяла она. - Я люблю Андрея Иваныча, - продолжала она, - не за то только, что он смешит меня, иногда он говорит - я плачу, и не за то, что он любит меня, а, кажется, за то… что он любит меня больше других: видите, куда вкралось самолюбие!
Вы любите Андрея? - спросил ее Обломов и погрузил напряженный, испытующии взгляд в ее глаза.
Да, конечно, если он любит меня больше других, я его и подавно, - отвечала она серьезно.
Обломов глядел на нее молча; она ответила ему простым, молчаливым взглядом.
Он любит Анну Васильевну тоже, и Зинаиду Михайловну, да все не так, - продолжала она, - он с ними не станет сидеть два часа, не смешит их и не рассказывает ничего от души; он говорит о делах, о театре, о новостях, а со мной он говорит, как с сестрой… нет, как с дочерью, - поспешно прибавила она, - иногда даже бранит, если я не пойму чего-нибудь вдруг или не послушаюсь, не соглашусь с ним. А их не бранит, и я, кажется, за это еще больше люблю его. Самолюбие! - прибавила она задумчиво, - но я не знаю, как оно сюда попало, в мое пение? Про него давно говорят мне много хорошего, а вы не хотели даже слушать меня, вас почти насильно заставили. И если б вы после этого ушли, не сказав мне ни слова, если б на лице у вас я не заметила ничего… я бы, кажется, захворала… да, точно, это самолюбие! - решительно заключила она.
А вы разве заметили у меня что-нибудь на лице? - спросил он.
Слезы, хотя вы и скрывали их; это дурная черта у мужчин - стыдиться своего сердца. Это тоже самолюбие, только фальшивое. Лучше бы они постыдились иногда своего ума: он чаще ошибается. Даже Андрей Иваныч, и тот стыдлив сердцем. Я ему это говорила, и он согласился со мной. А вы?
В чем не согласишься, глядя на вас! - сказал он.
Еще комплимент! Да какой…
Она затруднилась в слове.
Пошлый! - договорил Обломов, не спуская с нее глаз.
Она улыбкой подтвердила значение слова.
Вот я этого и боялся, когда не хотел просить вас петь… Что скажешь, слушая в первый раз? А сказать надо. Трудно быть умным и искренним в одно время, особенно в чувстве, под влиянием такого впечатления, как тогда…
А я в самом деле пела тогда, как давно не пела, даже, кажется, никогда… Не просите меня петь, я не спою уже больше так… Постойте, еще одно спою… - сказала она, и в ту же минуту лицо ее будто вспыхнуло, глаза загорелись, она опустилась на стул, сильно взяла два-три аккорда и запела.
Боже мой, что слышалось в этом пении! Надежды, неясная боязнь гроз, самые грозы, порывы счастия - все звучало, не в песне, а в ее голосе.
Долго пела она, по временам оглядываясь к нему, детски спрашивая: «Довольно? Нет, вот еще это», - и пела опять.
Щеки и уши рдели у нее от волнения; иногда на свежем лице ее вдруг сверкала игра сердечных молний, вспыхивал луч такой зрелой страсти, как будто она сердцем переживала далекую будущую пору жизни, и вдруг, опять потухал этот мгновенный луч, опять голос звучал свежо и серебристо.
И в Обломове играла такая же жизнь; ему казалось, что он живет и чувствует все это - не час, не два, а целые годы…
Оба они, снаружи неподвижные, разрывались внутренним огнем, дрожали одинаким трепетом; в глазах стояли слезы, вызванные одинаким настроением. Все это симптомы тех страстей, которые должны, по-видимому, заиграть некогда в ее молодой душе, теперь еще подвластной только временным, летучим намекам и вспышкам спящих сил жизни.
У него на лице сияла заря пробужденного, со дна души восставшего счастья; наполненный слезами взгляд устремлен был на нее.
Теперь уж она, как он, также невольно взяла его за руку.
Что с вами? - спросила она. - Какое у вас лицо! Отчего?
Но она знала, отчего у него такое лицо, и внутренне скромно торжествовала, любуясь этим выражением своей силы.
Посмотрите в зеркало, - продолжала она, с улыбкой указывая ему его же лицо в зеркале, - глаза блестят, боже мой, слезы в них! Как глубоко вы чувствуете музыку!..
Нет, я чувствую… не музыку… а… любовь! - тихо сказал Обломов.
Она мгновенно оставила его руку и изменилась в лице. Ее взгляд встретился с его взглядом, устремленным на нее: взгляд этот был неподвижный, почти безумный; им глядел не Обломов, а страсть.
Ольга поняла, что у него слово вырвалось, что он не властен в нем и что оно - истина.
Он опомнился, взял шляпу и, не оглядываясь, выбежал из комнаты. Она уже не провожала его любопытным взглядом, она долго, не шевелясь, стояла у фортепьяно, как статуя, и упорно глядела вниз; только усиленно поднималась и опускалась грудь…
| Это произведение перешло в общественное достояние
в России и странах, где срок охраны авторского права действует 70 лет, или менее, согласно ст. 1281 ГК РФ .
Если произведение является переводом, или иным производным произведением , или создано в соавторстве, то срок действия исключительного авторского права истёк для всех авторов оригинала и перевода. |
Общественное достояние Общественное достояние false false
Обломов постоянно думает об Ольге и она постоянно является в его мечтах. Сама же Ольга заходит к Обломову редко, да и стала она загадочнее. Штольц просил Ольгу не дать уснуть его другу, чем Ольга и стала заниматься, разрабатывая план, как заставить героя двигаться. Но это признание в любви выбило ее из колеи и она не знала, как себя вести и молчала при встречах. Обломов начал избегать девушку, но однажды они столкнулись. Обломов стал объясняться. Он говорил, что те слова вырвались невольно, что это не правда и во всем виновата музыка. Просил, чтобы она простила и не обижалась. И чуть не признается девушке в любви снова. Ольга отвечает, что она не сердится, и удаляется.
7 глава
Обломов долго смотрел девушке вслед, а потом и сам направился домой, где увидел грязь. Он вызвал Захара и приказал все убрать. Захар был женат на Анисье, которая теперь отвечала за хозяйство Обломова. Пока Анисья занималась уборкой, наш главный персонаж думал об Ольге, о том что и она может его любить, но пока не может признается. Хотя, с другой стороны, разве такая женщина может полюбить такого, как он… Посмотрев на себя в зеркало, Обломов увидел существенные изменения в своей внешности. Он посвежел и похорошел. Тут от тетки Ольги пришел человек чтобы пригласить Илью на обед. Обломов собрался, он был в приподнятом настроении, хоть и были мысли о том, что Ольга с ним просто кокетничает.
8 глава
Когда Обломов пришел к Ильиным, там была тетка и опекун небольшого имения девушки. Однако появление нашего героя никак не взволновало присутствующих. В компании с ними было скучно, но тут появляется Ольга. Она казалась какой-то другой. Даже когда она пела, была другой, и музыка звучала без души. Такое поведение девушки было непонятным для Обломова, и он уходит домой. В последующие дни Ольга вела себя отстраненно, без любопытства и Обломов вновь стал возвращаться в свое ленивое русло. Однажды собравшись к Ильиным, ему стало лень идти в гору и он возвратился домой. Теперь ему хотелось все время спать и он решает переехать в город. Об этом и рассказал Захар Ольге, которую встретил в булочной. Та же назначила встречу в парке, куда и направился Обломов, вновь ощутив надежду на взаимность. При встрече они затронули тему о бесполезности существования, и такой бесполезной Обломов считал свою жизнь. Он намекает, что без девушки жизнь для него, словно , и Ольга дает ему надежду. Теперь Илья счастлив и в таком настроении они прощаются.
9 глава
Теперь у Ольги не было резких перемен в настроении, Обломов же постоянно думает о девушке. Словом, Ольга теперь стала первым для него человеком. Обломова редко можно было встретить дома, он был постоянно с Ольгой. Девушка гордилась собой и тем, как преобразила Обломова. Вот только их отношения начали тяготить обоих героев. Обломов боится, что его фантазии воплотятся в реальности, боится что девушка станет требовать решительных действий. При этом Илья интересуется, почему Ольга не говорит о своих чувствах. Как оказалось, ее любовь особенная, когда жаль расставаться ненадолго, а надолго больно.
10 глава
Илья ушел в свои чувства и живет встречами с Ольгой. Однако уже на следующий день Илья видит в себе уставшего человека, которого любить невозможно. Он сравнивает их отношения с игрой, экспериментом, на котором Ольга учится любить. Он — ошибка, и стоит ей повстречать другого, как она это поймет. Таких, как он, не любят и Обломов решает расстаться с девушкой. Приказав Захару говорить что он уехал, пишет Ольге письмо о том, что она ошиблась в своих чувствах. Девушка ждет встречи в парке. Заплаканная Ольга обвиняет его в том, что Илья преднамеренно причиняет ей боль. В итоге они объясняются, мирятся и Ольга направляется домой.
11 глава
Приходит письмо от Штольца. Тот обвиняет Обломова в неподвижности, что не движется стройка его дома, что тот не едет за границу, что не решаются дела в деревне. Но Обломов был очень занят и не ответил другу на его письмо. Он тонул в своем чувстве любви. Однако дни шли, а Обломов стоял на месте. Ольга начинает чувствовать какую-то недостачу в их отношениях, но чего ей не хватает, она пока не понимает. Обломов стал замечать взгляды других и тоже не понимает, что своим поведением может испортить репутацию девушки, что нужно что-то менять в их отношениях и его любовь уже подобна преступлению. Обломов понимает что нужно жениться и решает вечером объявить о своем намерении.
12 глава
Обломов ищет девушку и находит ее в роще. Там он пытается объясниться в любви и сделать предложение руки и сердца. Сначала слова, словно застревали в горле, он не мог вымолвить ничего, но потом предложил девушке стать его женой. Ольга долго молчала, потом сообщила, что молчание это знак согласия. Обломов пытается найти в ее глазах слезы радости или какие-то эмоции, но Ольга сказала, что просто свыклась с мыслью, что рано или поздно предложение поступит. И вдруг Илья засомневался, может девушка не любит его, а просто выходит замуж. Но после того, как Ольга призналась ему, что без него не сможет жить, и что страшится расставания, Илья почувствовал себя счастливым.
На этом завершается вторая часть романа Гончарова Обломов в нашем кратком содержании.
Краткий пересказ второй части романа Гончарова «Обломов»
5 (100%) 1 vote Краткий пересказ четвертой части романа Гончарова «Обломов»
Краткий пересказ четвертой части романа Гончарова «Обломов»
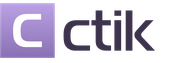










Дыня: к чему снится сон. К чему снится Дыня
Как сделать вкусную начинку и соус для пиццы как в пиццерии?
Программы признания заслуг – лучший способ нематериальной мотивации?
Можно ли отказаться от электронного документооборота
Потому что или потому, что (запятая при сложных подчинительных союзах)