Слово насилие однокоренное со словом сила. Насилие и есть факт наличия и применения или проявления силы. И если на вопрос - как вы относитесь к насилию? - в общем-то, напрашивается отрицательный ответ, то на вопрос - как вы относитесь к силе? - ответ видится не таким уж однозначным. Ибо силе противоположно бессилие, а не мораль или добро. И если сила есть зло, то уж и бессилие не есть ценность положительная.
«Я не люблю насилья и бессилья», - пел когда-то Владимир Высоцкий. И его словами мы можем сформулировать значимую философскую проблему. Этими двумя ситуациями - наличия и применения силы, а также ее отсутствия фактически исчерпываются все возможные жизненные ситуации, особенно складывающиеся в обстоятельствах форсмажорных. Насилие можно анализировать, с одной стороны, в контексте форм и методов образования и воспитания, а с другой - как одну из тем или сюжетов размышления, как важнейший предмет всякого мировоззрения.
Проблема насилия разрешима не с позиции моралистической философии, а с позиции философии жизни. Жизнь и есть некий силовой процесс, постоянное столкновение с чужой силой, а также проявление собственной силы или бессилия сопротивляться злу.
В 1925 году русский философ Иван Ильин опубликовал книгу под названием «О сопротивлении злу силою». В современном мире террористических актов и антитеррористических операций, о которых принято грустно шутить, что они всегда проводятся без наркоза, философия Ильина оказывается предельно актуальной.
Философы часто описывают жизнь как силовой процесс, но делают это по-разному. Европейская философия Ницше - это философия силы, ее синонимичности жизни, ее невинности и моральной неподсудности, приоритетности и элитарного превосходства наступательной агрессивности по сравнению с пассивностью, слабостью, нежизнеспособностью. Русская идея Ивана Ильина не конституируется по ту сторону добра и зла, как ницшеанство. Она представляет собой редкое сочетание философии необходимости применения силы и философии религиозно понятой морали. Каким образом достигается это сочетание?
Виктор Гюго говорил: для меня не важно, на чьей стороне сила, для меня важно, на чьей стороне право. Вне европейского правового менталитета по-русски это формулируется так: не в силе Бог, а в правде Звучит красиво и пафосно. Но все же хочется отстаивать и принципиальную важность вопросов: На чьей стороне сила? Чья возьмет? Кто победит? Право, правда, добро, справедливость или зло, произвол и несправедливость? Какая из этих двух противоборствующих сторон окажется сильнее, а какая слабее? Вопросы это не риторические, а имеющие острый практический характер. Ведь мы не стремимся к бессилию добра, к поражению правого дела.
Быть сильным трудно не только по причинам слабости воли и характера. Быть сильным трудно по соображениям морального плана. Сила морально небезупречна и выбор силы есть всегда выбор вины.
Сложность жизни - это всегда сложность выбора. Во-первых, мы делаем выбор между стратегией силы, а, следовательно, актами ее применения и стратегией ненасилия, возможной слабости. Насильник или вечный лузер? Согласитесь, что выбор не из приятных. Во-вторых, мы выбираем саму позицию, сторону в борьбе, на которой проявим свою силу или ее неприменение.
«Жить - значит становиться под какой-то стяг и занимать боевую позицию», - писал испанец Ортега-и-Гассет. Жизнь требует мужества, вовлеченности, ангажированности. Мы участвуем в жизни в той мере, в какой принимаем ее жесткие дилеммы. Свобода выбора заключается не в многообразии его желанных, безболезненных, идеальных вариантов. Однажды политолог, выступающий на одном из петербургских университетских симпозиумов, выразил весьма расхожее сомнение в возможности свободного политического выбора в современном российском обществе. Логика его сводилась к тому, что среди лидеров, кандидатов, программ реформирования нет безупречных. Он формулировал это так: настоящей свободы нет, так как нам предлагают выбирать между чумой и холерой. Один из участников дискуссии среагировал мгновенно: Мы выбираем холеру! Тут есть предмет выбора! Философская мудрость заключается в том, что жить - значит находиться в постоянной готовности выбирать между чумой и холерой. Это и есть настоящая свобода, настоящая жизнь и настоящий выбор. И выбор этот должен быть не только правильным, но и решительным. Если мы быстро не выберем иметь дело с холерой, то может наступить чума - беда худшая. А мы будем в этом виновны. Этот примечательный эпизод столкновения мнений демонстрирует, что одни и те же обстоятельства можно интерпретировать и как предмет ответственного выбора для одних людей и как предмет безответственного каприза для других.
Если жизнь - борьба, а это наше излюбленное ее определение, то, очевидно, что борьба эта всегда должна быть борьбой за что-нибудь и против чего-то. Иначе невозможна энергетика жизни, ее активизм. Во многих случаях это означает необходимость выбора одной из двух противодействующих сторон, невозможность третьей стороны медали - позиции свободного парения над схваткой и нравственного осуждения противоборствующих действий как небезупречных. Попытка выбрать мнимую невинность есть бегство от неумолимости жизни. Бывает, что позиция силы оказывается гораздо достойнее и мужественнее позиции морального негодования по поводу ее применения. Припоминается десятилетней давности атмосфера октября 1993 года. В августе 1991-го во время первого и более бескровного путча большинство жителей, если не всей России, то столичных мегаполисов, проявляли активную причастность происходящему столкновению политических лагерей. Она выражалась в определении своей позиции и готовности ее защищать с риском для жизни. Октябрьские дни путча 1993 года заполнили эфир наших СМИ бесконечно однообразными интервью с множеством известных людей, общая тональность которых сводилась к осуждению обеих сторон как применяющих силу, к вынесению себя вне социально-исторического конфликта и даже к прямой формулировке шекспировского принципа «чума на оба ваши дома». Этот искус моральной чистоты, невинности и воздержания очень силен именно в интеллигентской среде, то ли настроенной либерально и правозащитно на западный манер, то ли продолжающей российскую традицию толстовства.
В связи с этим следует активизировать полифоническое наследие русской нравственно-политической мысли, всю ее неоднозначность, проявившуюся в полемике Ивана Ильина с Львом Толстым.
Ильин квалифицировал толстовскую идею непротивления злу силой как «утонченный моральный эгоцентризм». Утонченный и моральный, потому что это путь индивидуального нравственного самосовершенствования, даже готовность жертвовать собой ради спасения других людей. Короче, способность совершить любой нравственно достойный поступок. А эгоизм, потому что альтруизм, самопожертвование, самоотречение и самозабвение, составляющие сущность любви, осуществляются в нравственной практике толстовства не безгранично. Подлинный адепт толстовства способен ради любви к другому человеку и его спасения от насилия только на меньшую жертву - своей жизнью, но не на большую - своей праведностью или безгрешностью.
Известный американский роман Вильяма Стайрона «Выбор Софи», экранизированный с Мерил Стрип в главной роли, моделирует ситуацию подобного рода. Во время второй мировой войны немец фашист делает женщине, прибывшей в концентрационный лагерь с двумя детьми, следующее предложение. Либо обоих ее детей, как и всех прочих, отправят на уничтожение, поскольку к работе, в отличие от взрослых, они не пригодны, либо одному из них все же сохранят жизнь. Чудовищное условие возможности спасти жизнь одному ребенку заключалось в том, что мать должна была сама выбрать и указать того из двух, кто должен был теперь уже по ее воле отправиться умирать. Это даже страшнее, чем выбор между чумой и холерой. Предлагается соучастие во зле, в преступлении, в насилии, соучастие в убийстве не врага в порядке самообороны, а собственного ребенка. Отказаться можно - это же свободный выбор - но меньшая цена за спасение хоть одного их любимых существ в этой критической ситуации заплачена быть не может. Да, жестоко, чудовищно, немыслимо, нестерпимо. Но встать вне сложившихся обстоятельств уже невозможно. Остается только делать выбор между детьми или отказаться выбирать, что тоже окажется решением, за которое придется нести ответственность. И героиня романа, имеющая протопит в реальной жизни, выбирает жизнь старшего из двух. А в творчестве Толстого анализа подобных обстоятельств мы не найдем, эта не та перспектива, с которой он рассматривает человеческие отношения.
В чем заключается антиэгоистический характер философии борьбы со злом силою Ивана Ильина? Как философия любви превращается в философию применения силы? Выбор делается не в пользу собственного блага, а в пользу блага другого человека. Торг, как говорится, в таких случаях неуместен. Речь идет не о нравственной калькуляции: из двух зол лучше выбрать меньшее. Речь идет об альтруистическом предпочтении спасения физической жизни другого человека за счет гибели собственной нравственной безупречности.
Беда идеала белых одежд и чистых рук не в недостатке красоты, а в утопичности идеи нравственной стерильности. В реальной жизни постоянный выбор третьей стороны медали лишен смысла. Жизнь сложна тем, что выбирая между возможностями мы чаще выбираем не между добром и злом, грехом и праведностью, а выбираем между одним злом и другим, между виной противления злу силой и виной попустительства, потакания ему непротивлением. Недаром существует и действует юридический принцип преступного бездействия. Возвращаясь к сюжету Стайрона, предположим, что его героиня отказалась бы выбирать между своими детьми, кому из них жить, а кому умереть. Избежала бы она в таком случае соучастия во зле? Нет, она не спасла бы ни одного из детей, ни свою собственную нравственную чистоту. Просто мера и форма ее вины была бы другой. Она заключалась бы в недостаточном нравственном самопожертвовании.
Только сильный человек способен взять на себя зло, применить силу и испытывать при этом чувство вины. Слабый будет искать себе оправдания. Героиня Стайрона, не зная ничего о дальнейшей судьбе спасенного ею сына и не имея, тем самым, никакого подтверждения оправданности своего поступка, покончила жизнь самоубийством через несколько лет после окончания войны. В таком логическом завершении ее жизни не следует видеть признак слабости. Скорее это следует расценить как проявление внутренней силы давать совершенному нравственную оценку, не адаптированную к обстоятельствам. Так философия, доказывающая неизбежность соучастия в насилии, оказывается философией вины, а не невинности борьбы за спасение других людей.
Нет нужды надеяться для того, чтобы действовать, чтобы что-то предпринимать, говорил Жан Поль Сартр. Эту мысль можно перефразировать - нет нужды в моральном оправдании действия для того, чтобы его совершить, предпринять. Это означает не отказа от морали, а напротив, настаивание на строгости ее критериев. Аморально как раз переименование зла в добро, преступления в подвиг, осуществляемое ссылкой на целесообразность, необходимость поступка. Такое переименование широко практикуется апологетической политической идеологией, воспроизводящей старую формулу «цель оправдывает средства». Русский философ Владимир Соловьев сын известного историка говорил, что государство не обещает установления рая на земле, оно лишь стремится воспрепятствовать установлению ада. Государственное легальное насилие, доведенное до применения высшей меры наказания, не есть высшая справедливость и высшее райское добро, а есть лишь вынужденное зло как меньшая мера ада. Пора бы по достоинству оценить слова отечественного мыслителя и научиться относиться к государству без традиционного российского максимализма - то есть не видеть в нем ни высшей святости, ни абсолютного зла.
В любой жизненной ситуации надо сделать правильный выбор и он не будет невинным. О человеке, идущем путем силы в борьбе со злом, Ильин говорит, что он «не праведен, но прав». Из сказанного можно сделать нетривиальный вывод: правота не есть невинность и невинность не есть правота. Религиозно понятое призвание человека в борьбе со злом именуется как «путь православного меча». Все ассоциации с крестовыми походами или православным джихадом будут напрасны. Философия не занимается оправданием зла или сакрализацией насилия. Попытки терминологически разграничить «плохое» и «хорошее» применение силы происходят постоянно. Комментируя на ОРТ события октября 1993 года, Николай Сванидзе сформулировал свою мысль так: злу свойственна агрессия, а добро обладает силой. Публикуя свои размышления о последствиях теракта 11 сентября 2001 года, Владимир Войнович назвал свою статью «Сила против насилия». Да, сложность проблемы заключается в том, что сила может быть применена противоположными борющимися сторонами, она может оказаться и на стороне добра и на стороне зла. Однако всякое применение физической силы - это всегда насилие, пусть даже вынужденное или необходимое.
Чем же тогда одни люди, совершающие акты применения силы, отличаются от других? Террористы, революционеры, многие бандиты с идеологией верят, что они исповедуют священное насилие ради великой цели. Подрывник-смертник, осуществляя теракт, надеется попасть прямо в мусульманский рай. Моральный человек, напротив, никогда не думает, что он делает добро, применяя силу и полагая это правильным. С одной стороны, оттого, что насилие применено на стороне добра, а не зла, добро не перестает быть добром. Но с другой стороны, и насилие не перестает быть насилием оттого, что оно применено на стороне добра. Чем можно оправдать насилие? Ничем. Однако философия учит, что иногда совершение актов применения силы необходимо и достойно, хотя им и нет оправдания.
Первый аргумент в пользу применения силы при сопротивлении злу прост и очевиден. Хотя изложенные в нагорной проповеди Иисуса Христа методы любви, прощения, немстительности и ненасилия совершеннее и предпочтительнее, они не оказываются действенными и эффективными во всех случаях. Всегда лучше решить проблему без насилия, но не всегда это возможно. В конфликтах современного мира хорошо известна ситуация, когда, как говорится, переговорный процесс заходит в тупик.
Другой аргумент в пользу необходимости силового пресечения насилия связан с наличием во всяком зле и преступлении двух граней - опасности индивидуальной и общественной. Христианское прощение нанесенной мне обиды, немстительность по отношению к тому, кто причинил мне зло, возможны, хотя и рискованны рецидивом преступления. Если человек не пожелал сам стать насильником в ответ на насилие, ему, возможно, придется подставлять другую щеку для нового удара. Но даже в Евангелии нигде не говорится, что мы имеем право, а тем более нравственный долг, подставить насильнику чужую щеку. А именно такими вероятнее всего и будут общественные последствия сугубо милосердного отношения к нашему личному врагу, непресечения его деяний силою. Не отвечая насилием на насилие, я берегу свою собственную нравственную чистоту, хотя и рискую стать жертвой повторно. Однако беречь и спасать, кроме самого себя, надо и окружающих. Это тоже наш нравственный долг.
4 апреля 1866 года Дмитрий Каракозов стрелял в Александра II, о чем свидетельствует памятная доска на знаменитой решетке Летнего сада. Покушение было неудачным и арестованный террорист написал прошение о помиловании на имя того верховного лица, которое он намеревался убить. Ответная резолюция царя гласила: как христианин я прощаю, а как государь я простить не могу. Является ли такое решение непоследовательным? Может ли государственная политика руководствоваться только христианским принципом любви к своим врагам? Очевидно, что нравственная ответственность христианина перед своей совестью и Богом и социальная ответственность гражданина или политика перед другими людьми не совпадают. Не совпадают, но и не являются несовместимыми.
Зло двулико еще и в том смысле, что оно распадается на злобные чувства, преступные намерения, агрессивные душевные состояния и на их реализацию в поступках, а также их последствиях для окружающих людей. То есть имеет внутреннюю и внешнюю форму. Слова Раскольникова из романа Достоевского о том, что он не старуху процентщицу убил, а душу свою бессмертную погубил, как раз и демонстрируют дуализм всякого преступления. Эта двуликость зла является третьим аргументом в пользу силовых методов борьбы с насилием. Конечно, против душевной порчи любая физическая сила абсолютно бессмысленна. Нельзя насильно заставить человека не испытывать ненависть и злобу. Однако силой можно помешать преступнику привести в исполнение его человеконенавистнические намерения. Обольщаться не следует, только внешняя форма зла победима силой, но и это уже немало.
Внутренняя и внешняя ипостась зла значимы не только в отношении преступника, но и в отношении мстителя, борца со злом, правозащитника. Применение оружия, «путь меча», конечно же, есть вступление в сферу внешнего зла. Выражение «будут приняты адекватные меры» и означает, что против насилия будут обращены его же собственные методы и средства. Однако внутренняя мотивация именно силовых действий должна быть очищенной от злобы, ненависти, жажды мести и крови. Чтобы можно было сказать, как Александр II, «it’s only business, только дело, ничего личного».
Постоянное участие Владимира Добренькова - декана факультета социологии МГУ, отца жестоко убитой дочери, - в многочисленных публичных дискуссиях и ток-шоу по проблемам отмены или сохранения смертной казни в России вызывает некоторое недоумение. В качестве кого он выступает: беспристрастного эксперта по социальным вопросам или убитого горем отца, имеющего личные счеты к преступному миру? Чужое горе вызывает сочувствие и уважение, но истину от горя отделить очень трудно, а вывести ее из ненависти и просто невозможно. Вот что писал по этому поводу русский философ Семен Франк в книге под названием «Смысл жизни»: «Чем меньше личной вражды в душе сопротивляющегося и чем более он внутренне простил своих личных врагов, тем эта борьба его будет, при всей ее необходимой суровости, духовно вернее, достойнее». В словах Иисуса Христа «не мир принес я вам, но меч» обычно видят какое-то противоречие заповедям любви даже к врагам из его же нагорной проповеди. Однако, заповеди любви можно понимать не как закон, запрещающий или указующий определенные внешние действия, а только как указание на необходимость достижения правильного внутреннего душевного строя. И тогда внутреннее немстительное милосердие и беззлобное человеколюбие оказываются совместимыми с внешним жестким применением силы, препятствующим совершению зла.
Хельсинкский или стокгольмский синдром тоже вещь не слишком разумная. Всегда понятны трагические чувства заложников и их родственников. Но понятно и то, что важные политические решения иногда должны приниматься не на основании этих чувств, а им вопреки. Может быть, это жестоко. Но в разумности и справедливости есть неизбежный элемент жестокости. Трудно преодолеть мстительную ненависть. Еще труднее руководствоваться разумом, а не одной только жалостью и сочувствием. Хотя это может оказаться необходимым для спасения, причем, не только себя, но и других.
Вывод очень серьезен: роль спасителя, быть может, еще более трудная и страшная, чем роль заложника. Поскольку в ходе антитеррористических акций происходит некий перехват инициативы. Если власть пассивно не оказывает силового сопротивления, то возможные жертвы будут вменены в вину террористам, а если предпринимаются силовые меры к спасению заложников, то возможные жертвы будут уже вменены в вину спасателям. Их не поблагодарят за спасенных, а обвинят в смерти погибших. Такова логика ситуации, что мы и наблюдали в оценках штурма захваченного террористами Театрального центра на Дубровке в Москве.
Другим примером трагического характера сопротивления злу силою является принятое американским президентом Джорджем Бушем решение сбить ракетой четвертый из захваченных террористами 11 сентября 2001 года самолетов. Тот, что имел целью врезаться в здание Капитолия в Вашингтоне, в котором размещается конгресс США, и упал, потерпев крушение в штате Пенсильвания, из-за сопротивления террористам, оказанного пассажирами лайнера. В силу обстоятельств приказ сбить самолет так и не был приведен в исполнение. Однако приказ был отдан, решение было принято. Решение жесткое, но спасительное. Неспособность принимать такие решения и нести за них нравственную ответственность губительна.
Сила это не только возможность насилия, но и компонент добра и любви. Любовь это всегда стремление творить добро тому, кто любим. А сильная любовь это не губительная страсть, а способность это добро причинять. «Всякая великая любовь, - писал Ницше в книге «Так говорил Заратустра», - выше всего своего сострадания». Притяжательное местоимение своего указывает на то, что любовь не стоит вообще вне сострадания, а оказывается способной преодолеть заключенную в ней самой жалость. Любовь может потребовать от нас встать выше жалости, что и делает ее страшнее смерти.
Ницшеанская философия говорит о двух видах любви - любви-силе и любви-слабости. Они различаются как женская роль сестры милосердия и мужская функция врача хирурга. В первом случае любовь синоним жалости, которая облегчает боль и страдания, во втором - любовь синоним силы, жестокой способности причинять боль. И то, и другое любовь, а не ненависть, только проявленная в разных ее ипостасях. Женская любовь, замешанная на слабости, оказывается добротой, а мужская хирургическая любовь имеет целью не проявление собственной доброты, а деятельное преследование блага того, кому оказывается помощь. Жалость - это паралич такого действия как ампутация. Проявление жалости может оказаться губительным для здоровья и жизни, а проявление безжалостности может спасти человека. Доброта и добро только грамматически родственны, в жизни они могут оказаться альтернативными формами человеческих отношений.
В известном романе «Невыносимая легкость бытия» Милан Кундера говорит о своем герое: «Слабость Франца называется добротой». Доброта - это единственно возможное проявление любви слабого человека, добро - проявление любви сильного. Разумеется, мы нуждаемся и в том, и в другом. Интересно, что русский религиозный философ Семен Франк признавал ценность антихристианского тезиса Ницше о важности любви, способной преодолеть жалость. Это давало ему возможность подвергнуть сомнению аксиоматичность мысли Достоевского о том, что весь прогресс человечества не стоит одной слезы ребенка. Любая мать знает, что ради физического и душевного блага ребенка она должна быть готова пожертвовать его удовольствием. Ни лечение, ни воспитание, ни спасение не бывают совершенно безболезненными, причиняющими только наслаждение. Неготовность проявить силу и принуждение или причинить боль есть неготовность любить.
Решение нравственных и политических проблем часто связано с ответами на вопросы: Хватит ли у нас силы применить силу? Или хватит ли у нас силы вынести то, что в экстремальной ситуации мы проявили бессилие?
Философия насилия исследует наиболее общие аспекты сущности насилия как такого социального явления, которое всегда сопровождало человеческую историю. Философское исследование насилия предполагает наиболее общее рассмотрение и его антипода – ненасилия. Насилие рассматривается как применение или угроза применения силы (в прямой или косвенной форме) с целью принуждения людей к определенному поведению. Иными словами, насилие – это господство одной воли над другой , чаще всего связанное с угрозой человеческой жизни. Наиболее радикальной формой социального насилия выступает война.
Философский анализ истории человечества показывает, что в любой культуре есть, по крайней мере, две ценностные ориентации:
первая исходит из стремления подавления противоположной стороны, навязывания ей своей воли через систему власти; в конечном итоге эта ориентация и приводит к насилию ;
вторая опирается на принцип равноправия сторон, стратегию диалога, компромисса, баланса сил, отказа от репрессивных форм власти. Реализация этого принципа социальных отношений выступает как ненасилие .
Основная социально-философская проблема заключается в том, какую из названных ориентаций можно считать наиболее важным фактором эволюции и двигателем прогресса. Ответ на этот вопрос связан с пониманием истоков насилия.
Эволюция общества свидетельствует о постоянном росте возможностей насилия в социальных отношениях. Так, в традиционных обществах насилие чаще всего выступало в формах непосредственной реакции на «чужого» вплоть до его уничтожения. В индустриальном обществе на передний план выходят формы косвенного, скрытого насилия. Многие исследователи рассматривают индустриальную цивилизацию как исключительно агрессивное общество, где инструментом агрессии становится интеллект на основе рационалистического подхода к миру.
Европейский менталитет основывается на том принципе, что если разум установил истинность каких-либо идей относительно конкретного объекта, то в качестве основной задачи выдвигается реализация истины посредством силового давления на этот объект. Если сначала такой подход распространяется на природу, то со второй половины XVIII в. он переносится и на общество, принимая форму идеи насильственной революции как способа ускорения социального процесса посредством сознательной организации жизни общества и насильственного облагодетельствования масс со стороны всезнающего и всевластного меньшинства.
Наиболее явно эта логика индустриализма выразилась в марксистской трактовке насилия. К. Маркс , опираясь на реальный исторический материал своего времени, рассматривает насилие как объективный фактор социального прогресса , считая, что насилие имеет только социальные причины и характерно исключительно для эксплуататорских обществ. На этом основании утверждается идея необходимости и благотворности революционного насилия как способа утверждения общества без насилия. Практическая реализация подобных идей радикальными движениями ХХ в. (особенно большевизмом) показала их ограниченность, неприемлемость логики насилия , которое, будучи развязанным и выдвигая даже гуманистические лозунги, в конечном счете, выливается в нигилизм, в мораль смерти и убийства, в террористическую диктатуру.
Издавна многие мыслители (Т.Гоббс, Л.Гумплович, Ф.Ницше, З.Фрейд и др.) утверждали, что тенденция к социальному насилию вытекает из особенностей человека, его психологии. Так, австрийский этолог и философ Лоренц утверждает, что агрессивность имеет инстинктивный характер, будучи защитной реакцией организма на среду.
Эрих Фромм также признает наличие внутренней агрессивности человека, однако утверждает, что нарастание насилия в историческом процессе связано с преобладанием социальных условий, способствующих агрессивности. Для человека, согласно Фромму , характерны две ориентации: биофилия и некрофилия. Биофилия - любовь к жизни, к добру, цельности. Некрофилия - любовь к мертвому, темному, механическому, что особенно ярко проявляется в техницизме современного общества, в стремлении к рационализации, что оборачивается страстью разрушения.
Исторический опыт показывает, что хотя насилие в ряде случаев оправданно (сопротивление агрессору, угнетателю и т. п.), оно, в конечном счете, всегда носит разрушительный характер, отбрасывает общество назад, способствует деморализации и росту проявлений негативных сторон человеческой природы. Особенно опасны широкие насильственные действия в современном обществе с его техническими системами и возможностями. Понимание того, что насилие порождает только насилие, привело к формированию в 20 в. этики и практики ненасильственной борьбы за более справедливое общество.
Всевозрастающее место в системе современной философии занимает философия ненасилия , а само ненасилие трактуется как культурно-мировоззренческая парадигма противостояния насилию в любых формах его проявления. В центре этой философии - особое отношение к человеку как к высшей ценности мира. Позиция ненасилия требует к тому же реализации еще одного нравственного принципа: «Начни с себя». Идеи ненасилия основаны на том, что часть (человек) не меньше целого (общества) и не менее ценна. Основные нравственные принципы, культивируемые философией ненасилия: милосердие, терпимость, взаимопонимание, сочувствие, соучастие, противостоящие насилию, господству, подавлению, подчинению, деспотии.
Как правило, оба противоположных подхода (идея насилия и идея ненасилия) присутствуют как в восточной, так и в западной культурах. В западной философии традиции ненасилия представлена в «диалогической философии» (Бубер, М. Бахтин, Ф. Эбнер, Мейер ), в этике благоговения перед жизнью (А. Швейцер ), в экологической этике (Леопольд , Атфильд , Шепард ), в биоэтике, в религиозных концепциях «интегрального гуманизма» (Маритен ) и др.
В основе формирования ценностного отношения к насилию (ненасилию) лежит определенная технология деятельности и особое понимание места человека в мире, его отношения к природе. Так, в европейской культуре основой такой технологии стало насилие по отношению к природе как к внешнему для человека миру и ненасилие по отношению к человеку, признание ценности человека, индивидуальности, личности (через систему прав человека).
В восточной же культуре (конфуцианство, даосизм, джайнизм, буддизм и др.) наблюдается гармоническое взаимодействие ценностей различных порядков: ценность живого, непричинение зла человеку, невмешательство в протекание природных и социальных процессов, выделение человека как самостоятельной ценности.
Христианство по отношению к насилию оказывается крайне противоречивым: с одной стороны, это заповеди: «Люби ближнего своего, как самого себя», «Любите врагов ваших...», «Не убий» и т. п., с другой стороны, это заветы: «Око за око», «Зуб за зуб», «Рука за руку» и т. п. Наиболее ярко христианские идеи ненасилия проявились в протестантизме в сектах так называемых анабаптистов (перекрещенцев) и квакеров, в учениях которых нашли обоснование идеи непротивления злу насилием . Именно эти идеи составили центральное звено мировоззрения Льва Николаевича Толстого . Этот принцип требует воздерживаться от мнимых обид, от возмездия, считает необходимым прощение, любовь вместо мщения во всех без исключения случаях. В итоговом труде «Путь к жизни» Л.Н.Толстой писал, что «только непротивление злу ненасилием приводит человечество к замене закона насилия законом любви».
Наиболее последовательным оппонентом Л.Н. Толстого выступил замечательный русский философ Иван Александрович Ильин (1883-1953). Полемизируя с Толстым в работе «О сопротивлении злу силою» (1925), он утверждал, что при неимении адекватных средств сопротивления злу человек не только имеет право, но и призван применять силу. Он указывал на неправомерность использования термина «насилия» вместо понятия «сопротивление злу »: «Понуждение , направленное против злодея, и злобное насилие, против кого бы то ни было оно направлено, – не одно и то же: смешение их непредметно, несправедливо, пристрастно и слепо… Противодуховно и противолюбовно не понуждение и не пресечение, а злобное насилие: совершая его, человек всегда неправ».
Одной из наиболее ярких фигур, реализовавших в политической практике идеи ненасилия, является также Мохандас Карамчанд Ганди (1869-1948), который относился к Толстому как «преданный почитатель». Для Ганди идея ненасилия стала практическим ориентиром общественно-политического движения. Центральными понятиями учения Ганди являются так называемые Ахимса и Сатьяграха.
Ахимса (букв. непричинение боли и вреда) - понятие двуединое. Один его полюс составляет абсолютное ненасилие, а другой допускает и убийство в целях защиты. Поэтому у Ганди понимание Ахимса двояко. Негативный аспект предполагает лишение жизни безнадежно и мучительно больных людей и животных, угрожающих людям животных, преступников и т. п., а позитивный – законы любви и сострадания: любовь к человеку и животным, милосердие, самопожертвование.
Сатьяграха – это метод ненасильственной борьбы, оружие верных истине при неукоснительном следовании Ахимсе. Сатьяграха не допускает насилия не только в действиях, но и на словах, в мыслях, в желаниях. Основные методы воздействия с точки зрения этого метода – убеждение, уступки, неповиновение, несотрудничество, честность, доверчивость.
По Ганди , ненасилие должно быть активным. Месть, кару Ганди заменяет прощением и в этом видит проявление величайшей мудрости и силы. Этот путь связан с лишениями, страданиями и даже смертью во имя справедливости. Однако именно этот путь ненасильственного сопротивления английскому владычеству позволил Индии во главе с Ганди добиться независимости. Ганди воспитал Индию такой, что британцы оказались не в силах управлять ею и сочли за лучшее уйти из нее. Благодаря Ганди они ушли без позора, оставив Индии свою культуру, свой язык, которым наряду с родным владеют миллионы индийцев.
Практическая сторона идеологии ненасилия разрабатывалась также борцом за социальное освобождение американских негров Мартином Лютером Кингом (1929-68). Его концепция предполагает 6 принципов ненасилия: ненасилие – это метод борьбы и требует мужества; в борьбе нельзя унижать противника; ненасилие борется со злом, а не с теми, кто стал его жертвой; вставший на путь ненасилия должен быть готовым принять страдание и не должен стремиться ответить ударом на удар; духовное насилие также недопустимо, как и физическое; и, наконец, справедливость - это одно из вселенских начал.
Проблема соотношения насилия и ненасилия в человеческой жизни чрезвычайно сложна, поскольку она затрагивает все аспекты существования индивида и того общества, в котором он живет. Взаимоотношения людей предполагают сотрудничество. Если оно налажено в соответствии с этическими предписаниями, то насилию нет места. Моральные субъекты взаимодействуют между собой не по праву силы, а на основе согласования своих ценностных предпочтений.
Впервые тезис о ненасилии был сформулирован более трех тысяч лет тому назад в древнеиндийских гимнах. Принцип ненасилия занимает важное место в Ветхом и Новом Завете. Древнееврейский пророк Моисей передает одну из десяти заповедей Бога: "Не убий". Иисус Христос отвергает древнее правило "око за око, зуб за зуб" и предлагает подставить ударившему тебя по правой щеке еще и левую. До Христа учили ненавидеть врагов, он же предлагает их возлюбить так же, как и своих ближних. В русской философии идею непротивления злу насилием энергично проповедовал Л. Н. Толстой. Он видел в этой идее конкретизацию постулата любви к Богу.
Интересный анализ соотношения насилия и ненасилия в современном обществе дает А. А. Гусейнов. Понятия насилия и ненасилия, пишет он, надо рассматривать в широком контексте борьбы добра против зла, борьбы за социальную справедливость и человеческую солидарность. Большинство философских и религиозных учений признает насилие злом. Теории, включающие насилие в позитивный контекст человеческой деятельности, как правило, не опускаются до апологии насилия. Марксизм, например, в котором содержится известная романтизация насилия, проводит различие между разными формами насилия (справедливые и несправедливые войны), рассматривает его в затухающей перспективе, постулируя идеальное состояние общества, при котором не будет насилия.
В определении понятия насилия существуют два подхода, один из которых можно назвать абсолютистским, другой – прагматическим. Согласно абсолютистскому понятие насилия имеет резко выраженную негативную окраску. Оно употребляется в очень широком значении, включающем все формы физического, психического, экономического подавления и соответствующих им качеств, таких как ложь, ненависть, лицемерие и т.д. При этом подходе насилие практически прямо отождествляется со злом вообще. Тут возникают, как минимум, две трудности: во-первых, снимается проблема объяснения насилия, возможности его конструктивного использования в случае необходимости; во-вторых, отрицание насилия выглядит как абстрактная моральная программа, плохо согласующаяся с реальной жизнью.
Прагматический подход ориентируется на ценностно нейтральное и практическое определение насилия, отождествляет его с физическим и экономическим ущербом, который люди наносят друг другу. Так, насилием считается убийство, ограбление и пр. Тем не менее прагматический подход позволяет ставить вопрос о возможности использования насилия в определенных ситуациях.
Обычный взгляд на эту проблему состоит в том, что в малых дозах насилие оправдано. Особенно в тех случаях, когда малое насилие предотвращает большее насилие, которое к тому же никаким иным способом предотвратить невозможно. Но не существует никакой единицы измерения насилия. Проблема становится особенно безнадежной, когда речь идет об упреждении насилия. Толстой говорил, что пока насилие не совершено, никогда нельзя с абсолютной достоверностью утверждать, что оно будет совершено, и потому попытки оправдать одно насилие необходимостью предотвращения другого всегда будут логически уязвимыми и нравственно сомнительными. Насилие невозможно сосчитать, измерить, даже если его можно было бы охватить чисто внешним образом.
Трудности, связанные с определением насилия, можно преодолеть, если рассматривать насилие в сопоставлении с таким понятием, как "свободная воля " и как одну из разновидностей властно-волевых отношений между людьми. Власть в человеческих взаимоотношениях можно определить как принятие решения за другого, умножение, усиление одной воли за счет другой. Насилие есть один из способов, обеспечивающих господство, власть человека над человеком. Насилие – это принуждение и такой ущерб, которые осуществляются вопреки воле того или тех, против кого они направлены. Насилие есть посягательство на свободу человеческой воли. Такое понимание насилия не ведет к простому отождествлению его с властью. Насилие как определенную форму общественного принуждения необходимо отличать от инстинктивных природных свойств человека: агрессивности, воинственности, плотоядности, а также от других типов властных отношений, в частности патерналистского и правового.
Проблема оправданности насилия связана не вообще со свободой воли, а с ее нравственной определенностью в качестве доброй или злой воли. Когда говорят об оправданности насилия, то обычно рассматривают только один аспект – против кого оно направлено. Но не менее важна и другая сторона – кто бы мог, имея достаточные основания, осуществить насилие, если бы мы признали, что в каких-то случаях оно вполне оправданно. Ведь недостаточно решить, кто может стать жертвой. Надо еще ответить, кто достоин стать судьей.
Проблема возникает из-за того, что люди не могут прийти к согласию по вопросу о том, что считать злом, а что – добром, не могут выработать безусловные, всеми признаваемые критерии зла. И в этой ситуации лучше всего признать абсолютной ценностью саму жизнь человека и вообще отказаться от насилия.
Право на осуществление насилия могла бы иметь абсолютно добрая воля, а оправданием его применения могло бы стать то, что оно направлено против абсолютно злой воли. Однако человеческая воля не может быть ни абсолютно доброй, ни абсолютно злой. Абсолютно добрая воля невозможна, в силу парадокса нравственного совершенства. Абсолютно злая воля невозможна, потому что такая воля уничтожила бы саму себя.
"Ненасилие – этический принцип, согласно которому границы морали (нравственности) совпадают с отрицанием насилия; постнасильственная стадия борьбы с социальной несправедливостью". Ненасилие исходит из убеждения в самоценности каждого человека как свободного существа.
Одно из часто повторяемых возражений против ненасилия как исторической программы состоит в том, что оно исходит из слишком благостного и потому нереалистического представления о человеке. В действительности это не так. В основе ненасилия лежит концепция, согласно которой человеческая душа является ареной борьбы добра и зла. Как писал Мартин Лютер Кинг, "даже в наихудших из нас есть частица добра, и в лучших из нас есть частица зла". Считать человека радикально злым – значит незаслуженно клеветать на него. Считать человека бесконечно добрым – значит откровенно льстить ему. Должное же ему воздается тогда, когда признается моральная двойственность человека.
Из постулата свободы воли человека вытекают как минимум два важных этических вывода. Первый – человек открыт добру и злу. Второй – нельзя ответить на вопрос, что такое человек, не отвечая одновременно на вопрос о том, что он должен делать.
Ненасилие как философская позиция и нормативная программа делает акцент на доброе начало в человеке, на то, чтобы усиливать его путем культивирования. Этим оно существенно отличается от насилия, как и в целом от властных отношений, которые направлены прежде всего на то, чтобы ограничивать, блокировать разрушительные проявления человеческой свободы. Ориентируясь на добро, сторонники ненасилия тем не менее понимают, что моральная двойственность человека является неустранимой основой бытия человека. Основная установка ненасилия – исправить отношения, превратить врагов в друзей, сделать так, чтобы предшествующее зло не стало абсолютной преградой для последующего сотрудничества.
Вопрос о соотношении насилия и ненасилия в жизни общества связан с проблемой социальной справедливости. Ответное насилие и активное ненасилие, говорит А. А. Гусейнов, – разные ступени, стадии зрелости человеческих усилий, направленных на борьбу за социальную справедливость. Ответное насилие пользуется для этой цели неадекватными средствами и в лучшем случае может рассчитывать на ограниченный и внешний успех, но оно не выводит за пределы насилия. Даже если признать, что насилие может вести к справедливости, то это вовсе не значит, будто оно само является справедливым делом. В то время как ненасилие направлено на устранение не только результатов несправедливости, но и их внутренних оснований, оно разрывает цепь насилия, поднимает человеческие отношения на другой уровень.
В реальном историческом процессе ненасилие, скорее, превалировало над насилием, было преобладающей тенденцией. Если бы это было не так, то человечество наверное уже не существовало бы. Человеческое бытие возможно лишь в той мере, в какой ненасилие превалирует над насилием. Однако такой благоприятный для человечества баланс ненасилия и насилия не является законом, раньше он в значительной мере был гарантирован слабостью разрушительных средств. Сейчас же нависшие над человечеством глобальные опасности – ядерная, экологическая, демографическая, антропологическая и другие – поставили его перед роковым вопросом: или оно откажется от насилия, "этики вражды", или вообще погибнет. Философия и этика ненасилия сегодня уже не являются делом индивидуального выбора, они приобрели в высшей степени актуальный исторический смысл.
Е.К. Краснухина
Слово насилие однокоренное со словом сила. Насилие и есть факт наличия и применения или проявления силы. И если на вопрос - как вы относитесь к насилию? - в общем-то, напрашивается отрицательный ответ, то на вопрос - как вы относитесь к силе? - ответ видится не таким уж однозначным. Ибо силе противоположно бессилие, а не мораль или добро. И если сила есть зло, то уж и бессилие не есть ценность положительная.
«Я не люблю насилья и бессилья», - пел когда-то Владимир Высоцкий. И его словами мы можем сформулировать значимую философскую проблему. Этими двумя ситуациями - наличия и применения силы, а также ее отсутствия фактически исчерпываются все возможные жизненные ситуации, особенно складывающиеся в обстоятельствах форсмажорных. Насилие можно анализировать, с одной стороны, в контексте форм и методов образования и воспитания, а с другой - как одну из тем или сюжетов размышления, как важнейший предмет всякого мировоззрения.
Проблема насилия разрешима не с позиции моралистической философии, а с позиции философии жизни. Жизнь и есть некий силовой процесс, постоянное столкновение с чужой силой, а также проявление собственной силы или бессилия сопротивляться злу.
В 1925 году русский философ Иван Ильин опубликовал книгу под названием «О сопротивлении злу силою». В современном мире террористических актов и антитеррористических операций, о которых принято грустно шутить, что они всегда проводятся без наркоза, философия Ильина оказывается предельно актуальной.
Философы часто описывают жизнь как силовой процесс, но делают это по-разному. Европейская философия Ницше - это философия силы, ее синонимичности жизни, ее невинности и моральной неподсудности, приоритетности и элитарного превосходства наступательной агрессивности по сравнению с пассивностью, слабостью, нежизнеспособностью. Русская идея Ивана Ильина не конституируется по ту сторону добра и зла, как ницшеанство. Она представляет собой редкое сочетание философии необходимости применения силы и философии религиозно понятой морали. Каким образом достигается это сочетание?
Виктор Гюго говорил: для меня не важно, на чьей стороне сила, для меня важно, на чьей стороне право. Вне европейского правового менталитета по-русски это формулируется так: не в силе Бог, а в правде
Звучит красиво и пафосно. Но все же хочется отстаивать и принципиальную важность вопросов: На чьей стороне сила? Чья возьмет? Кто победит? Право, правда, добро, справедливость или зло, произвол и несправедливость? Какая из этих двух противоборствующих сторон окажется сильнее, а какая слабее? Вопросы это не риторические, а имеющие острый практический характер. Ведь мы не стремимся к бессилию добра, к поражению правого дела.
Быть сильным трудно не только по причинам слабости воли и характера. Быть сильным трудно по соображениям морального плана. Сила морально небезупречна и выбор силы есть всегда выбор вины.
Сложность жизни - это всегда сложность выбора. Во-первых, мы делаем выбор между стратегией силы, а, следовательно, актами ее применения и стратегией ненасилия, возможной слабости. Насильник или вечный лузер? Согласитесь, что выбор не из приятных. Во-вторых, мы выбираем саму позицию, сторону в борьбе, на которой проявим свою силу или ее неприменение.
«Жить - значит становиться под какой-то стяг и занимать боевую позицию», - писал испанец Ортега-и-Гассет. Жизнь требует мужества, вовлеченности, ангажированности. Мы участвуем в жизни в той мере, в какой принимаем ее жесткие дилеммы. Свобода выбора заключается не в многообразии его желанных, безболезненных, идеальных вариантов. Однажды политолог, выступающий на одном из петербургских университетских симпозиумов, выразил весьма расхожее сомнение в возможности свободного политического выбора в современном российском обществе. Логика его сводилась к тому, что среди лидеров, кандидатов, программ реформирования нет безупречных. Он формулировал это так: настоящей свободы нет, так как нам предлагают выбирать между чумой и холерой. Один из участников дискуссии среагировал мгновенно: Мы выбираем холеру! Тут есть предмет выбора! Философская мудрость заключается в том, что жить - значит находиться в постоянной готовности выбирать между чумой и холерой. Это и есть настоящая свобода, настоящая жизнь и настоящий выбор. И выбор этот должен быть не только правильным, но и решительным. Если мы быстро не выберем иметь дело с холерой, то может наступить чума - беда худшая. А мы будем в этом виновны. Этот примечательный эпизод столкновения мнений демонстрирует, что одни и те же обстоятельства можно интерпретировать и как предмет ответственного выбора для одних людей и как предмет безответственного каприза для других.
Если жизнь - борьба, а это наше излюбленное ее определение, то, очевидно, что борьба эта всегда должна быть борьбой за что-нибудь и против чего-то. Иначе невозможна энергетика жизни, ее активизм. Во многих случаях это означает необходимость выбора одной из двух
Противодействующих сторон, невозможность третьей стороны медали - позиции свободного парения над схваткой и нравственного осуждения противоборствующих действий как небезупречных. Попытка выбрать мнимую невинность есть бегство от неумолимости жизни. Бывает, что позиция силы оказывается гораздо достойнее и мужественнее позиции морального негодования по поводу ее применения. Припоминается десятилетней давности атмосфера октября 1993 года. В августе 1991-го во время первого и более бескровного путча большинство жителей, если не всей России, то столичных мегаполисов, проявляли активную причастность происходящему столкновению политических лагерей. Она выражалась в определении своей позиции и готовности ее защищать с риском для жизни. Октябрьские дни путча 1993 года заполнили эфир наших СМИ бесконечно однообразными интервью с множеством известных людей, общая тональность которых сводилась к осуждению обеих сторон как применяющих силу, к вынесению себя вне социально-исторического конфликта и даже к прямой формулировке шекспировского принципа «чума на оба ваши дома». Этот искус моральной чистоты, невинности и воздержания очень силен именно в интеллигентской среде, то ли настроенной либерально и правозащитно на западный манер, то ли продолжающей российскую традицию толстовства.
В связи с этим следует активизировать полифоническое наследие русской нравственно-политической мысли, всю ее неоднозначность, проявившуюся в полемике Ивана Ильина с Львом Толстым.
Ильин квалифицировал толстовскую идею непротивления злу силой как «утонченный моральный эгоцентризм». Утонченный и моральный, потому что это путь индивидуального нравственного самосовершенствования, даже готовность жертвовать собой ради спасения других людей. Короче, способность совершить любой нравственно достойный поступок. А эгоизм, потому что альтруизм, самопожертвование, самоотречение и самозабвение, составляющие сущность любви, осуществляются в нравственной практике толстовства не безгранично. Подлинный адепт толстовства способен ради любви к другому человеку и его спасения от насилия только на меньшую жертву - своей жизнью, но не на большую - своей праведностью или безгрешностью.
Известный американский роман Вильяма Стайрона «Выбор Софи», экранизированный с Мерил Стрип в главной роли, моделирует ситуацию подобного рода. Во время второй мировой войны немец фашист делает женщине, прибывшей в концентрационный лагерь с двумя детьми, следующее предложение. Либо обоих ее детей, как и всех прочих, отправят на уничтожение, поскольку к работе, в отличие от взрослых, они не пригодны, либо одному из них все же сохранят жизнь. Чудовищное условие возможности спасти жизнь одному ребенку
Заключалось в том, что мать должна была сама выбрать и указать того из двух, кто должен был теперь уже по ее воле отправиться умирать. Это даже страшнее, чем выбор между чумой и холерой. Предлагается соучастие во зле, в преступлении, в насилии, соучастие в убийстве не врага в порядке самообороны, а собственного ребенка. Отказаться можно - это же свободный выбор - но меньшая цена за спасение хоть одного их любимых существ в этой критической ситуации заплачена быть не может. Да, жестоко, чудовищно, немыслимо, нестерпимо. Но встать вне сложившихся обстоятельств уже невозможно. Остается только делать выбор между детьми или отказаться выбирать, что тоже окажется решением, за которое придется нести ответственность. И героиня романа, имеющая протопит в реальной жизни, выбирает жизнь старшего из двух. А в творчестве Толстого анализа подобных обстоятельств мы не найдем, эта не та перспектива, с которой он рассматривает человеческие отношения.
В чем заключается антиэгоистический характер философии борьбы со злом силою Ивана Ильина? Как философия любви превращается в философию применения силы? Выбор делается не в пользу собственного блага, а в пользу блага другого человека. Торг, как говорится, в таких случаях неуместен. Речь идет не о нравственной калькуляции: из двух зол лучше выбрать меньшее. Речь идет об альтруистическом предпочтении спасения физической жизни другого человека за счет гибели собственной нравственной безупречности.
Беда идеала белых одежд и чистых рук не в недостатке красоты, а в утопичности идеи нравственной стерильности. В реальной жизни постоянный выбор третьей стороны медали лишен смысла. Жизнь сложна тем, что выбирая между возможностями мы чаще выбираем не между добром и злом, грехом и праведностью, а выбираем между одним злом и другим, между виной противления злу силой и виной попустительства, потакания ему непротивлением. Недаром существует и действует юридический принцип преступного бездействия. Возвращаясь к сюжету Стайрона, предположим, что его героиня отказалась бы выбирать между своими детьми, кому из них жить, а кому умереть. Избежала бы она в таком случае соучастия во зле? Нет, она не спасла бы ни одного из детей, ни свою собственную нравственную чистоту. Просто мера и форма ее вины была бы другой. Она заключалась бы в недостаточном нравственном самопожертвовании.
Только сильный человек способен взять на себя зло, применить силу и испытывать при этом чувство вины. Слабый будет искать себе оправдания. Героиня Стайрона, не зная ничего о дальнейшей судьбе спасенного ею сына и не имея, тем самым, никакого подтверждения оправданности своего поступка, покончила жизнь самоубийством через
Несколько лет после окончания войны. В таком логическом завершении ее жизни не следует видеть признак слабости. Скорее это следует расценить как проявление внутренней силы давать совершенному нравственную оценку, не адаптированную к обстоятельствам. Так философия, доказывающая неизбежность соучастия в насилии, оказывается философией вины, а не невинности борьбы за спасение других людей.
Нет нужды надеяться для того, чтобы действовать, чтобы что-то предпринимать, говорил Жан Поль Сартр. Эту мысль можно перефразировать - нет нужды в моральном оправдании действия для того, чтобы его совершить, предпринять. Это означает не отказа от морали, а напротив, настаивание на строгости ее критериев. Аморально как раз переименование зла в добро, преступления в подвиг, осуществляемое ссылкой на целесообразность, необходимость поступка. Такое переименование широко практикуется апологетической политической идеологией, воспроизводящей старую формулу «цель оправдывает средства». Русский философ Владимир Соловьев сын известного историка говорил, что государство не обещает установления рая на земле, оно лишь стремится воспрепятствовать установлению ада. Государственное легальное насилие, доведенное до применения высшей меры наказания, не есть высшая справедливость и высшее райское добро, а есть лишь вынужденное зло как меньшая мера ада. Пора бы по достоинству оценить слова отечественного мыслителя и научиться относиться к государству без традиционного российского максимализма - то есть не видеть в нем ни высшей святости, ни абсолютного зла.
В любой жизненной ситуации надо сделать правильный выбор и он не будет невинным. О человеке, идущем путем силы в борьбе со злом, Ильин говорит, что он «не праведен, но прав». Из сказанного можно сделать нетривиальный вывод: правота не есть невинность и невинность не есть правота. Религиозно понятое призвание человека в борьбе со злом именуется как «путь православного меча». Все ассоциации с крестовыми походами или православным джихадом будут напрасны. Философия не занимается оправданием зла или сакрализацией насилия. Попытки терминологически разграничить «плохое» и «хорошее» применение силы происходят постоянно. Комментируя на ОРТ события октября 1993 года, Николай Сванидзе сформулировал свою мысль так: злу свойственна агрессия, а добро обладает силой. Публикуя свои размышления о последствиях теракта 11 сентября 2001 года, Владимир Войнович назвал свою статью «Сила против насилия». Да, сложность проблемы заключается в том, что сила может быть применена противоположными борющимися сторонами, она может оказаться и на стороне добра и на стороне зла. Однако всякое применение физической силы - это всегда насилие, пусть даже вынужденное или необходимое.
Чем же тогда одни люди, совершающие акты применения силы, отличаются от других? Террористы, революционеры, многие бандиты с идеологией верят, что они исповедуют священное насилие ради великой цели. Подрывник-смертник, осуществляя теракт, надеется попасть прямо в мусульманский рай. Моральный человек, напротив, никогда не думает, что он делает добро, применяя силу и полагая это правильным. С одной стороны, оттого, что насилие применено на стороне добра, а не зла, добро не перестает быть добром. Но с другой стороны, и насилие не перестает быть насилием оттого, что оно применено на стороне добра. Чем можно оправдать насилие? Ничем. Однако философия учит, что иногда совершение актов применения силы необходимо и достойно, хотя им и нет оправдания.
Первый аргумент в пользу применения силы при сопротивлении злу прост и очевиден. Хотя изложенные в нагорной проповеди Иисуса Христа методы любви, прощения, немстительности и ненасилия совершеннее и предпочтительнее, они не оказываются действенными и эффективными во всех случаях. Всегда лучше решить проблему без насилия, но не всегда это возможно. В конфликтах современного мира хорошо известна ситуация, когда, как говорится, переговорный процесс заходит в тупик.
Другой аргумент в пользу необходимости силового пресечения насилия связан с наличием во всяком зле и преступлении двух граней - опасности индивидуальной и общественной. Христианское прощение нанесенной мне обиды, немстительность по отношению к тому, кто причинил мне зло, возможны, хотя и рискованны рецидивом преступления. Если человек не пожелал сам стать насильником в ответ на насилие, ему, возможно, придется подставлять другую щеку для нового удара. Но даже в Евангелии нигде не говорится, что мы имеем право, а тем более нравственный долг, подставить насильнику чужую щеку. А именно такими вероятнее всего и будут общественные последствия сугубо милосердного отношения к нашему личному врагу, непресечения его деяний силою. Не отвечая насилием на насилие, я берегу свою собственную нравственную чистоту, хотя и рискую стать жертвой повторно. Однако беречь и спасать, кроме самого себя, надо и окружающих. Это тоже наш нравственный долг.
4 апреля 1866 года Дмитрий Каракозов стрелял в Александра II, о чем свидетельствует памятная доска на знаменитой решетке Летнего сада. Покушение было неудачным и арестованный террорист написал прошение о помиловании на имя того верховного лица, которое он намеревался убить. Ответная резолюция царя гласила: как христианин я прощаю, а как государь я простить не могу. Является ли такое решение непоследовательным? Может ли государственная политика руководствоваться
Только христианским принципом любви к своим врагам? Очевидно, что нравственная ответственность христианина перед своей совестью и Богом и социальная ответственность гражданина или политика перед другими людьми не совпадают. Не совпадают, но и не являются несовместимыми.
Зло двулико еще и в том смысле, что оно распадается на злобные чувства, преступные намерения, агрессивные душевные состояния и на их реализацию в поступках, а также их последствиях для окружающих людей. То есть имеет внутреннюю и внешнюю форму. Слова Раскольникова из романа Достоевского о том, что он не старуху процентщицу убил, а душу свою бессмертную погубил, как раз и демонстрируют дуализм всякого преступления. Эта двуликость зла является третьим аргументом в пользу силовых методов борьбы с насилием. Конечно, против душевной порчи любая физическая сила абсолютно бессмысленна. Нельзя насильно заставить человека не испытывать ненависть и злобу. Однако силой можно помешать преступнику привести в исполнение его человеконенавистнические намерения. Обольщаться не следует, только внешняя форма зла победима силой, но и это уже немало.
Внутренняя и внешняя ипостась зла значимы не только в отношении преступника, но и в отношении мстителя, борца со злом, правозащитника. Применение оружия, «путь меча», конечно же, есть вступление в сферу внешнего зла. Выражение «будут приняты адекватные меры» и означает, что против насилия будут обращены его же собственные методы и средства. Однако внутренняя мотивация именно силовых действий должна быть очищенной от злобы, ненависти, жажды мести и крови. Чтобы можно было сказать, как Александр II, «it’s only business, только дело, ничего личного».
Постоянное участие Владимира Добренькова - декана факультета социологии МГУ, отца жестоко убитой дочери, - в многочисленных публичных дискуссиях и ток-шоу по проблемам отмены или сохранения смертной казни в России вызывает некоторое недоумение. В качестве кого он выступает: беспристрастного эксперта по социальным вопросам или убитого горем отца, имеющего личные счеты к преступному миру? Чужое горе вызывает сочувствие и уважение, но истину от горя отделить очень трудно, а вывести ее из ненависти и просто невозможно. Вот что писал по этому поводу русский философ Семен Франк в книге под названием «Смысл жизни»: «Чем меньше личной вражды в душе сопротивляющегося и чем более он внутренне простил своих личных врагов, тем эта борьба его будет, при всей ее необходимой суровости, духовно вернее, достойнее». В словах Иисуса Христа «не мир принес я вам, но меч» обычно видят какое-то противоречие заповедям любви даже к врагам из его же нагорной проповеди. Однако, заповеди любви
Можно понимать не как закон, запрещающий или указующий определенные внешние действия, а только как указание на необходимость достижения правильного внутреннего душевного строя. И тогда внутреннее немстительное милосердие и беззлобное человеколюбие оказываются совместимыми с внешним жестким применением силы, препятствующим совершению зла.
Хельсинкский или стокгольмский синдром тоже вещь не слишком разумная. Всегда понятны трагические чувства заложников и их родственников. Но понятно и то, что важные политические решения иногда должны приниматься не на основании этих чувств, а им вопреки. Может быть, это жестоко. Но в разумности и справедливости есть неизбежный элемент жестокости. Трудно преодолеть мстительную ненависть. Еще труднее руководствоваться разумом, а не одной только жалостью и сочувствием. Хотя это может оказаться необходимым для спасения, причем, не только себя, но и других.
Вывод очень серьезен: роль спасителя, быть может, еще более трудная и страшная, чем роль заложника. Поскольку в ходе антитеррористических акций происходит некий перехват инициативы. Если власть пассивно не оказывает силового сопротивления, то возможные жертвы будут вменены в вину террористам, а если предпринимаются силовые меры к спасению заложников, то возможные жертвы будут уже вменены в вину спасателям. Их не поблагодарят за спасенных, а обвинят в смерти погибших. Такова логика ситуации, что мы и наблюдали в оценках штурма захваченного террористами Театрального центра на Дубровке в Москве.
Другим примером трагического характера сопротивления злу силою является принятое американским президентом Джорджем Бушем решение сбить ракетой четвертый из захваченных террористами 11 сентября 2001 года самолетов. Тот, что имел целью врезаться в здание Капитолия в Вашингтоне, в котором размещается конгресс США, и упал, потерпев крушение в штате Пенсильвания, из-за сопротивления террористам, оказанного пассажирами лайнера. В силу обстоятельств приказ сбить самолет так и не был приведен в исполнение. Однако приказ был отдан, решение было принято. Решение жесткое, но спасительное. Неспособность принимать такие решения и нести за них нравственную ответственность губительна.
Сила это не только возможность насилия, но и компонент добра и любви. Любовь это всегда стремление творить добро тому, кто любим. А сильная любовь это не губительная страсть, а способность это добро причинять. «Всякая великая любовь, - писал Ницше в книге «Так говорил Заратустра», - выше всего своего сострадания». Притяжательное местоимение своего указывает на то, что любовь не стоит вообще
Вне сострадания, а оказывается способной преодолеть заключенную в ней самой жалость. Любовь может потребовать от нас встать выше жалости, что и делает ее страшнее смерти.
Ницшеанская философия говорит о двух видах любви - любви-силе и любви-слабости. Они различаются как женская роль сестры милосердия и мужская функция врача хирурга. В первом случае любовь синоним жалости, которая облегчает боль и страдания, во втором - любовь синоним силы, жестокой способности причинять боль. И то, и другое любовь, а не ненависть, только проявленная в разных ее ипостасях. Женская любовь, замешанная на слабости, оказывается добротой, а мужская хирургическая любовь имеет целью не проявление собственной доброты, а деятельное преследование блага того, кому оказывается помощь. Жалость - это паралич такого действия как ампутация. Проявление жалости может оказаться губительным для здоровья и жизни, а проявление безжалостности может спасти человека. Доброта и добро только грамматически родственны, в жизни они могут оказаться альтернативными формами человеческих отношений.
В известном романе «Невыносимая легкость бытия» Милан Кундера говорит о своем герое: «Слабость Франца называется добротой». Доброта - это единственно возможное проявление любви слабого человека, добро - проявление любви сильного. Разумеется, мы нуждаемся и в том, и в другом. Интересно, что русский религиозный философ Семен Франк признавал ценность антихристианского тезиса Ницше о важности любви, способной преодолеть жалость. Это давало ему возможность подвергнуть сомнению аксиоматичность мысли Достоевского о том, что весь прогресс человечества не стоит одной слезы ребенка. Любая мать знает, что ради физического и душевного блага ребенка она должна быть готова пожертвовать его удовольствием. Ни лечение, ни воспитание, ни спасение не бывают совершенно безболезненными, причиняющими только наслаждение. Неготовность проявить силу и принуждение или причинить боль есть неготовность любить.
Решение нравственных и политических проблем часто связано с ответами на вопросы: Хватит ли у нас силы применить силу? Или хватит ли у нас силы вынести то, что в экстремальной ситуации мы проявили бессилие?
«На вопрос, в какое время мы живем, можно дать однозначный ответ - в эпоху сверхнасилия. Оно витает повсюду в современном мире, проникает во все поры общества: в политику, экономику, науку, культуру» .В этом апокалипсически звучащем высказывании американского философа Л. Тайгера нашла отражение сложившаяся в настоящее время обстановка всеобщей конфликтности и беспрецедентного скачка всех видов насилия, проявлений агрессивности и терроризма.
История, конечно, всегда влачила свою «триумфальную колесницу» через горы трупов и моря крови. Но драматизм нынешнего периода заключается в том, что теперь человечество живет в условиях ядерного противостояния, когда увеличивается число государств, обладающих оружием небывалой разрушительной силы. Впервые поставлена под вопрос бессмертность человеческого рода. Гамлетовский вопрос – быть или не быть? – встает теперь уже не в философском, а в жизненном, практическом смысле.
Наличие очень разных в содержательном аспекте типов насилия, его функций и целей делает сложным нахождение его обобщенной характеристики, выработку единого общепризнанного понятия. Но можно согласиться с тем, что «насилие является проявлением самой структуры Бытия» . Оно представляет специфическую форму отношений, осуществление которых связано с «при-менением силы», «нанесением физического, духовного и имущественного вреда», «нарушением чьих-либо интересов и прав», «подавлением свободы воли». Насилие или угроза его применения принуждает людей к поведению, не соответствующему их желанию, препятствует «соматической и духовной реализации человеческих потенций». Такие определения даются многими исследователями этого феномена.
В социальном насилии как одном из видов межчеловеческих коммуникаций находит экстремальное выражение столкновение и противоборство интересов и целей субъектов общественных отношений – государств, классов, этносов. К наиболее распространенным проявлениям насилия относятся войны, вооруженные революции, политические репрессии, терроризм, геноцид.
Насилие выступает в роли «повивальной бабки», к услугам которой прибегают для разрешения классовых и этнических антагонизмов, революционной смены отживших и установления новых политических режимов и экономических укладов. Становление новых способов производства происходило под воздействием не только объективных экономических законов, но также требовалось задействование принудительных мер. К. Маркс отмечал, что процесс капиталистического накопления не мог обойтись без насильственной экспроприации, «превращение земледельческих феодальных обществ в промышленные... достигается не только так называемым естественным путем, а при помощи принудительных средств» .
В силу своей роли и значимости насилие всегда находилось в центре общественной мысли и практики человечества. Оно осуждалось и проклиналось, им пугали и угрожали, его объявляли абсолютным злом и «происком Сатаны», провозглашали движущим фактором общественного прогресса, прославляли и возводили в культ. Трудно, наверное, найти другую специальную категорию, вокруг которой наслоилось бы столько противоречивых суждений, в оценке которой наблюдалось бы столь непримиримое различие мнений.
О непреходящей значимости проблемы социального насилия свидетельствует тот факт, что ни один крупный мыслитель прош-лых веков и современности не обошел ее своим вниманием. Начиная с античной философии и до наших дней представители разных идеологических направлений и философских традиций занимаются исследованием природы и корней насилия, его роли в истории. Неослабевающий интерес к этой проблеме объясняется тем, что она имеет не только академический, но и политический характер, актуальную практическую значимость. Проявления насилия тесно связаны с классовыми и национальными отношениями, международной политикой, непосредственным образом затрагивают интересы всех социумов, влияют на судьбы всего человечества. Отсюда проистекает и резкое размежевание, и бескомпромиссность позиций в этом вопросе разных общественных групп и политических сил, отражающих их интересы и цели.
На каждом этапе цивилизационного развития проблема насилия обладает своими характерными особенностями и отличительными чертами. Изменение исторических условий влечет и изменение форм и методов насильственных действий, их соотношения, масштабности и последствий. Требуется и корректировка концептуальной трактовки этого явления, его оценки и восприятия в соответствии с трансформирующейся жизненной реальностью и наличным бытием.
К основным факторам, определяющим сейчас новые явления и тенденции в этом вопросе, можно отнести глобальные изменения, связанные с научно-технической революцией и геополитическими сдвигами; усиливающееся неравенство и противостояние между богатыми, динамично развивающимися государствами и отсталыми, все более нищающими странами, представляющими, к тому же, разные социокультурные сообщества; рост в связи с этим проявлений экстремизма и фундаментализма. Международная напряженность и конфликтность увеличились вследствие происшедшего превращения мира из двухполярного в многополярный, что привело к нарушению существовавшего равновесия сил, усилению имперских амбиций США и их стремлению к монопольному господству. Человечество от «холодной войны» перешло к не менее «холодному» миру.
Умножается число вооруженных конфликтов. По данным ООН, за последнее десятилетие было отмечено свыше 100 локальных войн в различных частях мира, в них было вовлечено 57 государств. Произошел новый виток гонки вооружений, их качественная модернизация с целью усиления разрушающей силы. Ядерным оружием обзавелись Индия и Пакистан, но оно, видимо, имеется и у ряда других государств, хотя и не принадлежащих официально к «ядерному клубу». Двух мировых войн в XX в., писал Эрих Ремарк, возможно, окажется недостаточно в качестве урока для человечества. «Мир снова погружен в пепельно-серый свет апокалипсиса. Еще не улетучился запах крови и не осела пыль от разрушений последней войны, а в лабораториях и заводах уже опять работают на полных оборотах, дабы сохранить мир с помощью оружия, которым можно взорвать весь земной шар» .
Поскольку насилие представляет экстремальную форму деятельности, оно чаще всего воспринимается не только на уровне обыденного сознания, но и в ряде научных концепций как априори негативное явление, абсолютно несовместимое с общепринятыми нормами морали. Такой подход, оперирующий некими неизменными ценностями и отличающийся догматичной прямолинейностью, не позволяет рассматривать это явление в контексте исторической эволюции цивилизации, проводить дифференциацию качественно различных по содержательной сущности и целенаправленности насильственных действий. Высказывая критическое отношение к такого рода одномерному подходу, американский политолог Ч. Найбург пишет: «Общество состоит из конкурирующих социумов и групп людей, борющихся за получение или сохранение различных благ при помощи широкого арсенала средств. В этой борьбе применяются либо мирные, либо насильственные методы, и, соответственно, жизнь общества определяется двумя понятиями – миром или войной, насилием или ненасилием. Мирное состояние означает, что конкурентная борьба происходит в рамках легальности и закона. Наоборот, когда происходит нарушение существующего порядка и столкновение противоборствующих сил достигает крайней остроты, эта борьба выливается в насильственные акции» .
Сложившаяся аксиоматика взгляда на насилие как исключительно антисоциальное и внекультурное явление обусловлена смешением двух различных подходов – историко-теоретического и нравственного, оперирующего преимущественно моральными категориями. В последнем случае оказывается невозможным выявление каузально-детерминированной связи между насилием и другими проявлениями человеческой деятельности, определенными типами общественной организации, установление корреляции их эволюционной динамики. Игнорирование принципа историзма и классовости объективных законов общественного развития приводит к тому, что все насильственные проявления воспринимаются как однородные. Только при анализе насилия в социокультурном аспекте появляется возможность рассматривать его в качестве трансисторической формы социальной жизни, всеобщего модуса существования человечества.
История представляет арену противостояния диалектически взаимосвязанных созидательных и разрушительных сил, на исторический процесс одновременно оказывают влияние конструктивные и деструктивные факторы. Вполне объяснимо различное отношение к актам насилия субъектов межчеловеческих отношений в зависимости от того, по какую сторону «социальной баррикады» они находятся. Но при этом нельзя не согласиться с высказанной Р. Ароном мыслью, что «история остается по меньшей мере историей людей по мере того, как она развертывается до настоящего времени, когда она определяется по существу борьбой и насилием. И она будет определяться насилием до конца предыстории» , то есть до тех пор, пока не исчезнут антагонизмы между человеком и человеком, человеком и природой.
Научно установлено, что за 3400 лет записанной истории было всего 234 года, когда люди не вели войн. Это может свидетельствовать о том, что войны есть не случайное явление. Они возникают отнюдь не по прихоти отдельных правителей или из-за честолюбивых амбиций генералов. Хотя, конечно, нельзя сбрасывать со счета случаи, когда человеческие страсти брали верх над разумом. Иначе история имела бы слишком фаталистический вид. К. Клаузевиц считал неразумным из-за отвращения к «суровости стихии войны» упускать из вида ее природные свойства и объективные корни. «Война относится к области общественной жизни, – писал он. – Война есть столкновение значительных интересов, которые разрешаются кровопролитием, и только этим она отличается от других конфликтов» .
Определяющим критерием для установления истинной значимости и роли конкретного насильственного действия выступает не моральный, а сущностный фактор, его целевое назначение. Все зависит здесь от того, является ли применяемое насилие орудием тирании или демократии, инструментом исполнения закона и его защиты или же его нарушения. Насилие может играть позитивную роль и быть объективной необходимостью, когда его применение способствует поступательному движению общества, направлено против иноземных захватчиков, на свержение антинародных режимов. Т. Джефферсон считал, что бунт народа против неугодных правителей есть «хорошее дело и так же необходим в политическом мире, как бури в мире природном. Восстания действительно выявляют нарушения прав человека, которые их породили» .
Все великие революции в истории, сыгравшие роль «локомотивов» социального прогресса и положившие начало новому этапу цивилизации, вынуждены были применять насилие против сопротивляющихся консервативных сил. Парижская Коммуна в XIX в. и социалистическая революция в России в XX в. – эти два знаменательных события, повлиявших на умы многих поколений, явились не только разрушительными, но и созидательными факторами.
Насилие как способ самозащиты и спасения от агрессивных насильственных действий, как способ их предупреждения признается законным и оправданным. Национально-освободительные войны служили интересам не только отдельных наций, но и внесли вклад в дело защиты и распространения всечеловеческих прав и свобод, под их натиском рухнула колониальная система. Благодаря разгрому нацистской Германии во Второй мировой войне человечество было спасено от фашистского рабства.
Наиболее концентрированным и масштабным проявлением социального насилия являются войны. То, что создается многими годами человеческого труда и творческого разума, во время войн уничтожается вместе с творцами материальных и духовных богатств, превращается в руины. Плата за развязанные войны возрастала прямо пропорционально уровню развития научно-техни-ческого прогресса, внедрения его открытий в военную область. Войны становятся все более кровопролитными и разрушительными. Жертвами Первой мировой войны стали почти 10 млн человек, стоимость материальных потерь исчислялась в 338 млрд долларов. Во Второй мировой войне погибли свыше 54 млн человек, материальные потери достигли 4 трлн долларов .
Развивалась не только «индустрия смерти», но и военная теория, стратегия и тактика вооруженной борьбы трансформировались адекватно появлявшимся новым боевым средствам. Последним «достижением» военной мысли является разработанная и уже применяющаяся на практике «безрисковая война». Доктрина «безрисковой войны», на которую делает ставку американский генералитет, есть продукт технологических инноваций, поскольку основывается на возможности избежать риска значительных потерь для имеющей абсолютное военно-техническое превосходство страны в развязанном ею вооруженном конфликте. Именно руководствуясь такой предпосылкой, администрация США принимала решение о вторжении в Ирак, убеждая общественность в практической безнаказанности этой агрессивной акции для самих США и их союзников по НАТО. Аналогичные суждения распространялись и при совершении военной агрессии в Югославии. Заявлялось что новейшие средства вооружения позволяют наносить «точечные удары» исключительно по военным объектам, и их применение якобы не угрожает гражданскому населению.
Однако все подобного рода заявления оказались мифом, были опровергнуты реалиями военной действительности. «Чистых» войн не бывает, они всегда несут смерть и страдания всем участникам, ведут к материальному разрушению и нравственному разложению. Саму концепцию войн «малой кровью» следует признать столь же антигуманной, как и любую другую форму апологетики милитаризма. Но она еще отличается и циничным эгоизмом в трактовке проблемы безопасности, поскольку ее пропагандисты представляют интересы той воюющей стороны, которая лучше оснащена новейшими видами вооружения и для которой риск массовой гибели военнослужащих в силу этого значительно меньше. Что же касается гибели людей с другой стороны, в том числе и мирного населения, то их судьба, видимо, в расчет вообще не принимается.
В настоящее время в мире существует только одна сверхдержава – США, конкурировать с которой по военной мощи не способно ни одно государство. Но в условиях ядерного противостояния, когда Россия и некоторые другие государства обладают оружием массового поражения, американское превосходство в силе превращается в иллюзию. В случае возникновения военного конфликта с применением ракетно-ядерного оружия США подвергаются опасности уничтожения в такой же степени, как и их противники. Цена риска становится равнозначной для всех, и поэтому политика «имперской самонадеянности» ничем не оправдана.
Бичом современного человечества стал переживающий свой ренессанс политический терроризм. Возродившийся в невиданных ранее масштабах и формах, он превратился во всепланетное явление, наполнился новым социальным и национальным смыслом. Его отличие от терроризма столетней давности, использованного в основном российскими революционерами, заключается прежде всего в его международном характере, в глобальном охвате всех без исключения регионов планеты. Его объектами становятся уже не только и не столько отдельные индивиды, но значительные массы людей, общественные и правительственные учреждения, транспортные и энергетические системы. «Новым для сегодняшнего терроризма, – пишет американский философ О. Демарис, – является то, что террористы отбросили понятие невинных людей, они провозгласили право убивать всех, стремятся терроризировать целые народы» . Получил распространение и такой неизвестный для «классического» терроризма метод, как захват заложников с политическими целями.
Терроризм, как и любое общественное явление, имеет свои истоки, мотивируется политическими, идеологическими, экономическими, этническими и религиозными факторами. Он представляет искаженную по сущности и направленности рефлексию на состояние угнетенности и бедности, в котором находится значительная часть населения некоторых регионов планеты, определенные слои общества. Это их мстительный ответ на допущение неравенства и несправедливости в распределении материальных благ между классами и нациями, на нежелание богатых делиться с бедными. «Терроризм не рождается из небытия. Он имеет причины, которые редко его оправдывают, но всегда объясняют» , – считает французский политолог К. Жюльен, указывая на то, что террористическое насилие как вспышка массового недовольства освещает дефекты общества. Тем самым одно зло пытаются исправить другим злом. Признавая, что терроризм отражает яростное сопротивление восточной цивилизации натиску вооруженной разрушительными научно-техническими достижениями западной цивилизации, что он направлен против порочной политики глобализации, проводимой в узкоэгоистических национальных и корпоративных интересах, английский философ Ч. Фримен подчеркивает, что «праведные цели тотального террора» приводят к лишению жизни граждан, не имеющих отношения к принятию государственных решений и не несущих за них ответственности .
Конкретные цели, преследуемые при совершении террористических актов, могут существенно различаться. Поводом для них могут стать самые неожиданные и труднопредсказуемые события. По всему миру прокатилась волна протестных выступлений, сопровождавшихся насильственными действиями, в связи с публикацией в западной печати карикатуры на пророка Мухаммеда. Этот факт свидетельствует о том, что даже такое, казалось бы, малозначительное с точки зрения европейского менталитета явление способно вызвать столь массовую и острую реакцию мусульман, стать детонатором не только «холодной», но и «горячей» войны цивилизаций.
Терроризм носит исторический и транснациональный характер, отличается специфическими проявлениями в разные эпохи и в разных регионах. Отсюда вытекает сложность научного познания и определения террористической деятельности, подчас не укладывающейся в общепринятую шкалу ценностей и норм, имеющей неоднозначный характер, нередко оценивающейся по двойным стандартам. Поэтому, очевидно, до сих пор наблюдается и весьма расширительная и терминологически нечеткая трактовка самого понятия «терроризм», смешение разных форм его проявления.
Особо следует отметить опасность приобретшей в настоящее время значительное распространение такой формы терроризма, как государственный терроризм. Он находит свое выражение в действиях, направленных на нанесение материального и морального ущерба государствам, неправомерном вмешательстве в их внутренние дела посредством использования для этого оппозиционных элементов, выступающих против законной власти, достижении иными нелегальными способами превосходства над другими субъектами международных отношений. Государственный терроризм, зачастую прикрывающийся лозунгами борьбы за демократию и соблюдение гражданских прав, стал основным методом агрессивных внешнеполитических акций США. К ним можно отнести и прямые военные действия США в Югославии и Ираке, и попытки оказания в разной форме давления на Россию и другие государства СНГ.
Нельзя признать состоятельным существующее объяснение терроризма исключительно патологическими изъянами психики отдельных индивидов, наличием агрессивных по своей природе людей, в биологическом коде которых заложен «ген агрессии», которыми овладевает «рефлекс неповиновения». Террористами не рождаются, ими становятся в конкретных социальных условиях, влияющих на сознание и поведение индивидов, вставших на путь незаконных и аморальных действий, подкрепляемых ложными теоретическими аргументами и политическими лозунгами. Среди террористов, конечно, немало психически неуравновешенных и душевнобольных людей, количество которых сегодня возрастает, что обусловлено ростом стрессовых ситуаций и экстремальных явлений, приводящих к повышенной психологической нагрузке на человека. Можно согласиться с мнением, что политический терроризм есть побочный продукт индустриальной революции, беспорядка, порожденного разрушением старых моделей жизни. Происшедшая в переходный период ломка социальных структур и переоценка ценностей выбили из привычной жизни и привели к деклассированию значительные общественные слои, породили чувство униженности и безысходности, чрезвычайные проявления экстремизма. Но делать на этом основании какие-либо обобщающие выводы в отношении психического состояния всех террористов представляется неоправданным.
Социологические исследования показывают, что социальный состав террористических организаций крайне разнороден. «Деклассированность и рождающееся на ее основе чувство обездоленности, болезненная реакция на несправедливость, ненависть к окружающей действительности, жажда мщения и самоутверждения, примитивность представлений о свободе и равенстве легко приводят к идее тотального отрицания, стимулируют стремления к разрушительным действиям. Эти стремления могут реализоваться и в массовых бесчинствах, и в действиях уголовного характера. Но они способны и декорироваться пафосом антикапиталистической борьбы и даже борьбы за социалистические идеалы» .
Таким образом, уникальность феномена терроризма заключается именно в том, что в нем тесно переплетаются романтический индивидуализм и политической авантюризм, устремленность к высшим идеалам и аморальная фанатическая жестокость, вера в собственную избранность и беспринципность, извращенная жертвенность и патологическая ущербность, смешение реального и желаемого.
Историческая практика достаточно убедительно выявила неэффективность и пагубность террористических действий как средства революционной и национально-освободительной борьбы. К. Маркс, относя терроризм к проявлениям политического волюнтаризма и авантюризма, характеризовал его как «всемирно-историческое заблуждение», которому подвержены некоторые борцы за «благо человечества». Никакие ссылки на некие благие цели, ради которых совершаются террористические акты, не могут служить их оправданием. Они неизбежно связаны с нарушением норм законности и морали, создают угрозу свободе и безопасности людей, их основному праву – праву на жизнь, несовместимы с принципами гуманизма. «Цель, для которой требуются неправые средства, не есть правая цель...» . Нельзя забывать и то, что насилие порождает насилие, оно всегда вызывает цепную реакцию, неизбежно ведет к ответному насилию.
Терроризм есть, безусловно, социальное явление, обусловленное объективными условиями общественного бытия. Отказ признавать эту истину и игнорировать существование реальных факторов, питающих терроризм, мешает последовательной борьбе с ним. Но, с другой стороны, не следует разделять вульгарно-репродукционисти-ческие представления о принципиальной неустранимости этого зла, его абсолютной неизбежности. Нельзя не согласиться с мнением ряда ученых о возможности преодоления этого нежелательного явления, но лишь если не поддерживать убеждение в том, что агрессивность является неустранимым биологическим инстинктом.
Россия переживает сейчас очередную смену исторических вех. Процесс реформации происходит в сложных условиях постсоветской действительности, сопровождается столкновением рождающегося нового и не спешащего уходить старого образов жизни, противоборством различных общественных сил. На Россию обрушился «тайфун» всевозможных кризисов, преступности, межэтнических конфликтов. Не случайно Россия рассматривается международными экспертами как «зона повышенного риска». В атмосфере повышенной нестабильности и конфликтности появляется склонность к проведению силовой политики, стремление прибегнуть к диктаторским методам для наведения порядка и быстрейшего выхода из кризисного состояния, возникает ностальгия по «сильной руке», поднимают голову «политические ястребы».
Для России проблема насилия являлась одной из наиболее первостепенных и жизненно важных во все исторические эпохи. О «русском насилии» в мировом общественном сознании сложилось много искусственно создаваемых стереотипов негативного свойства. Россию принято изображать в качестве основной агрессивной силы на международной арене, приписывать ей традицию экспансионистского развития с целью завоевать весь мир. И в настоящее время утверждается, что независимо от каких-либо демократических преобразований российский социум продолжает представлять «тотальное насилие» над личностью, угрозу всеобщей свободе и демократии. За всеми этими инсинуациями скрываются далеко-идущие цели врагов России. Русский историк К. С. Аксаков еще в XIX в. писал, что если где-то развязывается кампания по обвинению России в захватнической политике, то это наверняка означает, что одно из западных государств готовится совершить где-то очередную агрессию . Правильность этого суждения подтверждается сегодняшней действительностью. Перед вторжением США в Югославию и Ирак, как по команде, на Западе развернулась антирусская пропагандистская кампания.
Феномен «русского насилия», обладая универсальными чертами и общими свойствами содержательной сущности, присущими насилию как общественно-политической категории, имеет вместе с тем свои характерные особенности и отличия. Они обусловлены конкретными историческими и геополитическими реалиями, господствующими общественно-экономическими отношениями, спецификой российской ментальности. Некоторые ученые пытаются объяснить традиционную силовую политику и деспотический характер власти в России разного рода патологическими отклонениями в психике отдельных российских политиков, субъективными свойствами ее правителей. Возможно, в отдельных случаях это действительно имело место, но определяющую роль здесь все же играли объективные факторы. Прежде всего такие, как потребность «собирания земли русской», ликвидация ее раздробленности, объ-единение многочисленных княжеств в единое целое. Жестокость обстоятельств диктовала потребность в авторитарной и максимально централизованной государственной системе властвования, необходимость приоритета общественных интересов над частными, региональными и индивидуальными.
Расположенной между Востоком и Западом в географическом и цивилизованном аспектах, России пришлось пережить больше военных катаклизмов, нежели другим странам, постоянно защищать свою территорию от иноземных агрессоров. За 538 лет, прошедших со времени Куликовской битвы до выхода России из Первой мировой войны, она находилась в состоянии войны 334 года, то есть две трети своей исторической жизни. Все крупномасштабные социальные модернизации осуществлялись в России «сверху», и, как правило, сопровождались применением массового насилия. Метод «реформаторского насилия» использовался для ускорения экономического и культурного развития при каждой попытке «прорубить окно» в западную цивилизацию.
Масштабность российской территории и многоликость населяющих ее народов, непокорность региональных вождей и их сепаратистская политика также во многом определяли авторитарные формы и методы управления. Принцип единства и неделимости России неукоснительно отстаивался и проводился в жизнь всеми возможными средствами, был всегда основополагающей доминантой всех российских правителей. И этому есть объяснение. Выражая негативное отношение к проявлениям сепаратизма уже в условиях революционной России и указывая на причастность к этому явлению враждебных внешних сил, Александр Блок писал, что «если распылится Россия», то придет конец великой державы, она станет служанкой сильных государственных образований . Поистине провидческое суждение.
Конец XX в. ознаменовался приходом к власти в России новых политических сил, сделавших ставку на осуществление демократических реформ и ликвидацию тоталитарного прошлого. Стратегической целью начавшегося всеобъемлющего процесса модернизации было провозглашено построение гражданского общества и правового государства, рыночной экономики, обеспечение приоритетности прав и свобод человека. Однако «победоносного шествия» демократии пока не состоялось. Его и не следовало бы ожидать, исходя из общеисторических закономерностей реформационных процессов, а также некоторых «индивидуальных» особенностей российской действительности. Мировая практика становления и развития демократии свидетельствует, что этот процесс никогда и нигде не был скоротечным, прямолинейным и бесконфликтным. Внедрение демократических ценностей в общественное сознание и политическую практику невозможно осуществить «кавалерийским наскоком».
Демократия не стала нормой и образом жизни общества и граждан, демократические ценности остаются нереализованными. На смену тоталитарному антигуманизму пришел рыночный антигуманизм, вместо диктатуры партийных вождей наступило засилие криминального бизнеса и коррумпированной бюрократии, разгул беззакония и состояние безвластия. А ведь еще Т. Гоббс высказывал мнение, что «лучше жить в стране, где ничто не дозволено законом, чем в такой, где все дозволено им» .
Несмотря на хаотичность и нестабильность социально-политической обстановки, раскол общества и всеобщее недовольство, Россия не сорвалась в омут гражданской войны, мирное эволюционное развитие не обернулось немирным революционным катаклизмом. В целом модернизационный процесс, несмотря на все его противоречия и издержки, носит ненасильственный характер. Трудно сказать, чья в этом заслуга больше – власти или народа. Во всяком случае, на «шоковую терапию» народ не ответил «шоковой хирургией», благодаря чему удалось избежать «большой крови».
Однако перевести стрелку российской истории на новый путь цивилизационного развития исключительно мирными средствами, избежав всякого насилия вообще, оказалось все же невозможным. На российском примере еще раз подтвердилась истинность мысли П. Сартра о том, что насилие в любом случае необходимо, чтобы перейти от одного общества к другому. Уже начало перестроечного процесса ознаменовалось рядом конфликтов, сопровождавшихся насильственными действиями и вооруженными столкновениями в Прибалтике, Грузии, Армении, Азербайджане, Молдавии. Некоторые из них получили продолжение в последующие годы, после развала СССР, с участием уже России, вынужденной по тем или иным причинам направлять в эти «горячие точки» СНГ свои военные контингенты.
Но и в самой России за прошедшие с начала реформ годы насчитывается достаточно большое количество проявлений насилия в разной форме и по разным поводам. Военную силу пришлось применить в 1991 г. для подавления пресловутого заговора организаторов ГКЧП, имевшего целью смену руководства страны и коррекцию перестроечной политики М. С. Горбачева. И хотя здесь обошлось «малой кровью», столица России в эти дни напоминала военный город. Вооруженная борьба между исполнительной и законодательной властью, когда на стороне первой действовала регулярная армия, а вторых поддерживали добровольцы, представлявшие оппозиционные силы, развернулась в 1993 г. Эти трагические события, окончившиеся расстрелом российского парламента и повлекшие многочисленные жертвы, не получили еще однозначной оценки, не прекращаются дискуссии по поводу их истинных виновников и правомерности действий властей, имевшейся возможности избежать кровопролития.
Не обошлось и без российской локальной войны, начавшейся в Чечне в 1996 г. и продолжающейся до настоящего времени. Под прикрытием ваххабитского лозунга борьбы за «чистоту ислама» чеченские боевики при активной поддержке из-за рубежа преследуют далеко идущие цели отрыва от России обширных южных территорий и создания на них исламского государства фундамента-листского типа. После уничтожения основных сил незаконных во-оруженных формирований война перешла в стадию партизанской борьбы с их стороны, влечет большие потери, в том числе и среди мирного населения.
Немало проявлений насильственных действий в различной форме имело место в последние годы «снизу», со стороны гражданского населения, что служит выражением недовольства политикой центральной или местной власти. В разных регионах России периодически вспыхивали бунты и забастовки из-за несвоевременной выплаты зарплат, массовой безработицы, отключения электроэнергии, произвола администрации предприятий и государственных чиновников. Толпами протестующих людей перекрывались автомобильные и железнодорожные магистрали, пикетировались учреждения органов власти, задерживались в качестве заложников их сотрудники. Нередко эти протестные движения масс сопровождались применением физической силы с обеих сторон.
Но если проявления открытого насилия в этот переходный период носили сравнительно ограниченный характер, то этого нельзя, наверное, сказать о проявлениях скрытого насилия, которое менее бросается в глаза и носит более завуалированный характер. Такое латентное насилие, включающее действия, причиняющие вред и ущерб не только физическим, но и косвенным экономическим, идеологическим и психологическим принуждением, манипулированием сознанием и поведением людей, представляет такую же опасность, как и прямое физическое. К проявлению косвенного насилия можно, очевидно, по праву отнести проведенную в России в 90-е гг. масштабную приватизацию, нанесшую огромный материальный и моральный ущерб обществу в целом и отдельным гражданам в частности. Совершенное перераспределение собственности, вылившееся, по сути, в незаконное присвоение кучкой нечестных дельцов и коррумпированных чиновников общенародного достояния, введение неконтролируемых свободных цен, крах денежных сбережений населения, последующая гигантская инфляция обрекли массу людей на нищенское существование. По данным даже официальной статистики, четверть населения страны живет на доход ниже прожиточного минимума. В этих условиях встала проблема расхождения между «равенством возможностей» и «равенством результатов», то есть различие между формальными конституционными правами и свободами граждан и их практической реализацией, которая поставлена в зависимость от социально-экономического положения индивидов. В обществе, осущест-вляющем демократические реформы, человек оказался на практике не в меньшей степени отчужденным, чем он был в коммунистическом тоталитарном.
Наблюдавшийся в последние годы в России резкий скачок смертности, достигающий ежегодно одного миллиона человек, несомненно, является во многом результатом неполноценного питания и медицинского обслуживания основной массы населения. Усилились психические стрессы на почве охвативших общество чувств унижения, безысходности, пессимизма. Показателен и факт небывалого увеличения самоубийств, по числу которых Россия вышла на одно из первых мест в мировой статистике. Беспрецедентный рост всех видов преступности, в первую очередь организованной, жертвами которой каждый год становятся десятки тысяч людей, также можно отнести к проявлению фактически социальной войны в обществе.
Образ мышления и поведение современного человека во многом зависят от оказываемого на него влияния средств массовой информации. Используя новейшие коммуникативные технологии, они способны осуществлять моральное насилие путем манипулирования общественным сознанием в заданном направлении, служить целям дезинформации и духовного разложения масс, превращать людей в бездумную и послушную массу. Такое информа-ционно-психологическое насилие над российскими гражданами совершается под видом свободы слова средствами массовой информации, насаждающими культ силы и вседозволенности, аморальности. Пособником им в этом служит и низкопробная масс-культура, разжигающая низменные чувства и пропагандирующая порочные наклонности, растлевающая молодое поколение россиян. Ищущие нездоровых сенсаций, средства массовой информации ориентируют сознание людей на потребительские образы, насаждают гедонистические установки и принципы эгоистического индивидуализма, осуществляют тотальную манипуляцию аудиторией, подменяя реальное символически виртуальным.
Возможен ли всеобщий отказ от ведения войн и использования силы, может ли быть достигнут «вечный мир»? Это зависит от комплекса социокультурных факторов, от того, станут ли нормы миролюбия высшими законами отношений не только между людьми, но и между государствами. Культура мира должна превратиться в историческую потребность и стать главенствующей доминантой человечества XXI в.
Если не будет преодолена враждебная разобщенность человечества, несовместимость противостоящих цивилизаций, не будет положен конец стремлению силовым путем добиваться чьего-либо превосходства, над человечеством будет постоянно висеть дамоклов меч глобальной военной катастрофы. Социальной войне должен быть противопоставлен социальный мир. Следует полагать, что идея «вечного мира» – это утопия не абсолютная, а относительная. Хотя она не может быть реализована в настоящих условиях, это не означает, что она не осуществима вообще никогда. Ведь история есть процесс беспрерывного изменения условий бытия и человеческой природы, превращения утопий в практическую реальность. И поскольку, как считал Тейяр де Шарден, «история жизни есть по существу развитие сознания» , то не исключено, что в какой-то точке этого эволюционного процесса произойдет под воздействием определенных обстоятельств качественный скачок в человеческом мышлении, знаменующий смену культуры насилия на культуру ненасилия.
В. И. Вернадский, учитывая нарастающую тенденцию глобализации с ее противоречивыми проявлениями, высказывал убеждение, что человечество способно выжить, только научившись мыслить космическими категориями. Для этого каждый житель планеты должен «мыслить и действовать в новом аспекте, не только в аспекте отдельной личности, семьи или рода, государства или их союзов, но в планетарном аспекте» . Философия мира должна стать формой обыденного миропонимания, превратиться в способ внутрикультурной ориентации человека, стать общепризнанной интеллектуальной матрицей новой исторической эпохи. Поскольку человек есть продукт конкретных общественных обстоятельств, для изменения его сознания и поведения следует изменить эти обстоятельства, сделать их человечными.
Взаимопонимание и доверие – главные факторы глобализации мирового сообщества, построения ненасильственного мира, основанного на человеческой солидарности. Важное значение приобретает свободный диалог по ключевым проблемам современности. Посредством него выявляются и решаются не только текущие вопросы международных отношений, но и перспективы мирового развития, изыскиваются возможности избежать крайних форм конфронтации.
Поступательный процесс цивилизационного развития, его в целом прогрессивная направленность дают основания для оптимизма, и никакие истребительные войны и разрушительные катаклизмы, никакие революционные потрясения и геополитические зигзаги не в состоянии поколебать превосходства гуманистических идеалов, жизни над смертью, остановить неодолимое стремление людей обрести мирную и счастливую земную судьбу. И, может быть, в XXI в. осуществится мечта русского поэта Сергея Есенина о времени, «когда во всей планете пройдет вражда племен».



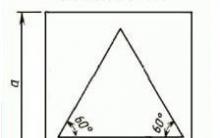







Где жил державин. Державин Г.Р. Достижения Гавриила Державина
Электронное письмо на английском языке примеры
Капельница с глюкозой побочные действия Сколько нужно капать глюкозу чтобы стало легче
Эссе на тему: Особенный ребенок в семье
Люди, победившие рак? Как победить рак? Почему человечество никогда не сможет победить рак И тем самым рак побеждают