Вчера я приехал в Пятигорск, нанял квартиру на краю города, на самом высоком месте, у подошвы Машука: во время грозы облака будут спускаться до моей кровли. Нынче в пять часов утра, когда я открыл окно, моя комната наполнилась запахом цветов, растуших в скромном палисаднике. Ветки цветущих черешен смотрят мне в окна, и ветер иногда усыпает мой письменный стол их белыми лепестками. Вид с трех сторон у меня чудесный. На запад пятиглавый Бешту синеет, как «последняя туча рассеянной бури» «Последняя туча рассеянной бури» – первая строка стихотворения Пушкина «Туча». ; на север поднимается Машук, как мохнатая персидская шапка, и закрывает всю эту часть небосклона; на восток смотреть веселее: внизу передо мною пестреет чистенький, новенький городок, шумят целебные ключи, шумит разноязычная толпа, – а там, дальше, амфитеатром громоздятся горы все синее и туманнее, а на краю горизонта тянется серебряная цепь снеговых вершин, начинаясь Казбеком и оканчиваясь двуглавым Эльборусом… Весело жить в такой земле! Какое-то отрадное чувство разлито во всех моих жилах. Воздух чист и свеж, как поцелуй ребенка; солнце ярко, небо сине – чего бы, кажется, больше? – зачем тут страсти, желания, сожаления?.. Однако пора. Пойду к Елизаветинскому источнику: там, говорят, утром собирается все водяное обшество.
* * *
Спустясь в середину города, я пошел бульваром, где встретил несколько печальных групп, медленно подымающихся в гору; то были большею частию семейства степных помещиков; об этом можно было тотчас догадаться по истертым, старомодным сюртукам мужей и по изысканным нарядам жен и дочерей; видно, у них вся водяная молодежь была уже на перечете, потому что они на меня посмотрели с нежным любопытством: петербургский покрой сюртука ввел их в заблуждение, но, скоро узнав армейские эполеты, они с негодованием отвернулись.
Жены местных властей, так сказать хозяйки вод, были благосклоннее; у них есть лорнеты, они менее обращают внимания на мундир, они привыкли на Кавказе встречать под нумерованной пуговицей пылкое сердце и под белой фуражкой образованный ум. Эти дамы очень милы; и долго милы! Всякий год их обожатели сменяются новыми, и в этом-то, может быть, секрет их неутомимой любезности. Подымаясь по узкой тропинке к Елизаветинскому источнику, я обогнал толпу мужчин, штатских и военных, которые, как я узнал после, составляют особенный класс людей между чающими движения воды. Они пьют – однако не воду, гуляют мало, волочатся только мимоходом; они играют и жалуются на скуку. Они франты: опуская свой оплетенный стакан в колодец кислосерной воды, они принимают академические позы: штатские носят светло-голубые галстуки, военные выпускают из-за воротника брыжи. Они исповедывают глубокое презрение к провинциальным домам и вздыхают о столичных аристократических гостиных, куда их не пускают.
Наконец вот и колодец… На площадке близ него построен домик с красной кровлею над ванной, а подальше галерея, где гуляют во время дождя. Несколько раненых офицеров сидели на лавке, подобрав костыли, – бледные, грустные. Несколько дам скорыми шагами ходили взад и вперед по площадке, ожидая действия вод. Между ними были два-три хорошеньких личика. Под виноградными аллеями, покрывающими скат Машука, мелькали порою пестрые шляпки любительниц уединения вдвоем, потому что всегда возле такой шляпки я замечал или военную фуражку или безобразную круглую шляпу. На крутой скале, где построен павильон, называемый Эоловой Арфой, торчали любители видов и наводили телескоп на Эльборус; между ними было два гувернера с своими воспитанниками, приехавшими лечиться от золотухи.
Я остановился, запыхавшись, на краю горы и, прислонясь к углу домика, стал рассматривать окрестность, как вдруг слышу за собой знакомый голос:
– Печорин! давно ли здесь?
Оборачиваюсь: Грушницкий! Мы обнялись. Я познакомился с ним в действующем отряде. Он был ранен пулей в ногу и поехал на воды с неделю прежде меня. Грушницкий – юнкер. Он только год в службе, носит, по особенному роду франтовства, толстую солдатскую шинель. У него георгиевский солдатский крестик. Он хорошо сложен, смугл и черноволос; ему на вид можно дать двадцать пять лет, хотя ему едва ли двадцать один год. Он закидывает голову назад, когда говорит, и поминутно крутит усы левой рукой, ибо правою опирается на костыль. Говорит он скоро и вычурно: он из тех людей, которые на все случаи жизни имеют готовые пышные фразы, которых просто прекрасное не трогает и которые важно драпируются в необыкновенные чувства, возвышенные страсти и исключительные страдания. Производить эффект – их наслаждение; они нравятся романтическим провинциалкам до безумия. Под старость они делаются либо мирными помещиками, либо пьяницами – иногда тем и другим. В их душе часто много добрых свойств, но ни на грош поэзии. Грушницкого страсть была декламировать: он закидывал вас словами, как скоро разговор выходил из круга обыкновенных понятий; спорить с ним я никогда не мог. Он не отвечает на ваши возражения, он вас не слушает. Только что вы остановитесь, он начинает длинную тираду, по-видимому имеющую какую-то связь с тем, что вы сказали, но которая в самом деле есть только продолжение его собственной речи.
Он довольно остер: эпиграммы его часто забавны, но никогда не бывают метки и злы: он никого не убьет одним словом; он не знает людей и их слабых струн, потому что занимался целую жизнь одним собою. Его цель – сделаться героем романа. Он так часто старался уверить других в том, что он существо, не созданное для мира, обреченное каким-то тайным страданиям, что он сам почти в этом уверился. Оттого-то он так гордо носит свою толстую солдатскую шинель. Я его понял, и он за это меня не любит, хотя мы наружно в самых дружеских отношениях. Грушницкий слывет отличным храбрецом; я его видел в деле; он махает шашкой, кричит и бросается вперед, зажмуря глаза. Это что-то не русская храбрость!..
Я его также не люблю: я чувствую, что мы когда-нибудь с ним столкнемся на узкой дороге, и одному из нас несдобровать.
Приезд его на Кавказ – также следствие его романтического фанатизма: я уверен, что накануне отъезда из отцовской деревни он говорил с мрачным видом какой-нибудь хорошенькой соседке, что он едет не так, просто, служить, но что ищет смерти, потому что… тут, он, верно, закрыл глаза рукою и продолжал так: «Нет, вы (или ты) этого не должны знать! Ваша чистая душа содрогнется! Да и к чему? Что я для вас! Поймете ли вы меня?» – и так далее.
Он мне сам говорил, что причина, побудившая его вступить в К. полк, останется вечною тайной между им и небесами.
Впрочем, в те минуты, когда сбрасывает трагическую мантию, Грушницкий довольно мил и забавен. Мне любопытно видеть его с женщинами: тут-то он, я думаю, старается!
Мы встретились старыми приятелями. Я начал его расспрашивать об образе жизни на водах и о примечательных лицах.
– Мы ведем жизнь довольно прозаическую, – сказал он, вздохнув, – пьющие утром воду – вялы, как все больные, а пьющие вино повечеру – несносны, как все здоровые. Женские общества есть; только от них небольшое утешение: они играют в вист, одеваются дурно и ужасно говорят по-французски. Нынешний год из Москвы одна только княгиня Лиговская с дочерью; но я с ними незнаком. Моя солдатская шинель – как печать отвержения. Участие, которое она возбуждает, тяжело, как милостыня.
В эту минуту прошли к колодцу мимо нас две дамы: одна пожилая, другая молоденькая, стройная. Их лиц за шляпками я не разглядел, но они одеты были по строгим правилам лучшего вкуса: ничего лишнего! На второй было закрытое платье gris de perlesсеро-жемчужного цвета (франц.). , легкая шелковая косынка вилась вокруг ее гибкой шеи. Ботинки couleur puceкрасновато-бурого цвета (франц.). стягивали у щиколотки ее сухощавую ножку так мило, что даже не посвященный в таинства красоты непременно бы ахнул, хотя от удивления. Ее легкая, но благородная походка имела в себе что-то девственное, ускользающее от определения, но понятное взору. Когда она прошла мимо нас, от нее повеяло тем неизъяснимым ароматом, которым дышит иногда записка милой женщины.
– Вот княгиня Лиговская, – сказал Грушницкий, – и с нею дочь ее Мери, как она ее называет на английский манер. Они здесь только три дня.
– Однако ты уж знаешь ее имя?
– Да, я случайно слышал, – отвечал он, покраснев, – признаюсь, я не желаю с ними познакомиться. Эта гордая знать смотрит на нас, армейцев, как на диких. И какое им дело, есть ли ум под нумерованной фуражкой и сердце под толстой шинелью?
– Бедная шинель! – сказал я, усмехаясь, – а кто этот господин, который к ним подходит и так услужливо подает им стакан?
– О! – это московский франт Раевич! Он игрок: это видно тотчас по золотой огромной цепи, которая извивается по его голубому жилету. А что за толстая трость – точно у Робинзона Крузоэ! Да и борода кстати, и прическа a la moujikпо-мужицки (франц.). .
– Ты озлоблен против всего рода человеческого.
– И есть за что…
– О! право?
В это время дамы отошли от колодца и поравнялись с нами. Грушницкий успел принять драматическую позу с помощью костыля и громко отвечал мне по-французски:
– Mon cher, je hais les hommes pour ne pas les mepriser car autrement la vie serait une farce trop degoutanteМилый мой, я ненавижу людей, чтобы их не презирать, потому что иначе жизнь была бы слишком отвратительным фарсом (франц.). .
Хорошенькая княжна обернулась и подарила оратора долгим любопытным взором. Выражение этого взора было очень неопределенно, но не насмешливо, с чем я внутренно от души его поздравил.
– Эта княжна Мери прехорошенькая, – сказал я ему. – У нее такие бархатные глаза – именно бархатные: я тебе советую присвоить это выражение, говоря об ее глазах; нижние и верхние ресницы так длинны, что лучи солнца не отражаются в ее зрачках. Я люблю эти глаза без блеска: они так мягки, они будто бы тебя гладят… Впрочем, кажется, в ее лице только и есть хорошего… А что, у нее зубы белы? Это очень важно! жаль, что она не улыбнулась на твою пышную фразу.
– Ты говоришь о хорошенькой женщине, как об английской лошади, – сказал Грушницкий с негодованием.
– Mon cher, – отвечал я ему, стараясь подделаться под его тон, – je meprise les femmes pour ne pas les aimer car autrement la vie serait un melodrame trop ridiculeМилый мой, я презираю женщин, чтобы не любить их, потому что иначе жизнь была бы слишком нелепой мелодрамой (франц.). .
Я повернулся и пошел от него прочь. С полчаса гулял я по виноградным аллеям, по известчатым скалам и висящим между них кустарникам. Становилось жарко, и я поспешил домой. Проходя мимо кислосерного источника, я остановился у крытой галереи, чтоб вздохнуть под ее тенью, это доставило мне случай быть свидетелем довольно любопытной сцены. Действующие лица находились вот в каком положении. Княгиня с московским франтом сидела на лавке в крытой галерее, и оба были заняты, кажется, серьезным разговором. Княжна, вероятно допив уж последний стакан, прохаживалась задумчиво у колодца. Грушницкий стоял у самого колодца; больше на площадке никого не было.
Я подошел ближе и спрятался за угол галереи. В эту минуту Грушницкий уронил свой стакан на песок и усиливался нагнуться, чтоб его поднять: больная нога ему мешала. Бежняжка! как он ухитрялся, опираясь на костыль, и все напрасно. Выразительное лицо его в самом деле изображало страдание.
Княжна Мери видела все это лучше меня.
Легче птички она к нему подскочила, нагнулась, подняла стакан и подала ему с телодвижением, исполненным невыразимой прелести; потом ужасно покраснела, оглянулась на галерею и, убедившись, что ее маменька ничего не видала, кажется, тотчас же успокоилась. Когда Грушницкий открыл рот, чтоб поблагодарить ее, она была уже далеко. Через минуту она вышла из галереи с матерью и франтом, но, проходя мимо Грушницкого, приняла вид такой чинный и важный – даже не обернулась, даже не заметила его страстного взгляда, которым он долго ее провожал, пока, спустившись с горы, она не скрылась за липками бульвара… Но вот ее шляпка мелькнула через улицу; она вбежала в ворота одного из лучших домов Пятигорска, за нею прошла княгиня и у ворот раскланялась с Раевичем.
Только тогда бедный юнкер заметил мое присутствие.
– Ты видел? – сказал он, крепко пожимая мне руку, – это просто ангел!
– Отчего? – спросил я с видом чистейшего простодушия.
– Разве ты не видал?
– Нет, видел: она подняла твой стакан. Если бы был тут сторож, то он сделал бы то же самое, и еще поспешнее, надеясь получить на водку. Впрочем, очень понятно, что ей стало тебя жалко: ты сделал такую ужасную гримасу, когда ступил на простреленную ногу…
– И ты не был нисколько тронут, глядя на нее в эту минуту, когда душа сияла на лице ее?..
Я лгал; но мне хотелось его побесить. У меня врожденная страсть противоречить; целая моя жизнь была только цепь грустных и неудачных противоречий сердцу или рассудку. Присутствие энтузиаста обдает меня крещенским холодом, и, я думаю, частые сношения с вялым флегматиком сделали бы из меня страстного мечтателя. Признаюсь еще, чувство неприятное, но знакомое пробежало слегка в это мгновение по моему сердцу; это чувство – было зависть; я говорю смело «зависть», потому что привык себе во всем признаваться; и вряд ли найдется молодой человек, который, встретив хорошенькую женщину, приковавшую его праздное внимание и вдруг явно при нем отличившую другого, ей равно ненакомого, вряд ли, говорю, найдется такой молодой человек (разумеется, живший в большом свете и привыкший баловать свое самлюбие), который бы не был этим поражен неприятно.
Молча с Грушницким спустились мы с горы и прошли по бульвару, мимо окон дома, где скрылась наша красавица. Она сидела у окна. Грушницкий, дернув меня за руку, бросил на нее один из тех мутно-нежных взглядов, которые так мало действуют на женщин. Я навел на нее лорнет и заметил, что она от его взгляда улыбнулась, а что мой дерзкий лорнет рассердил ее не на шутку. И как, в самом деле, смеет кавказский армеец наводить стеклышко на московскую княжну?..
Нынче поутру зашел ко мне доктор; его имя Вернер, но он русский. Что тут удивительного? Я знал одного Иванова, который был немец.
Вернер человек замечательный по многим причинам. Он скептик и материалист, как все почти медики, а вместе с этим поэт, и не на шутку, – поэт на деле всегда и часто на словах, хотя в жизнь свою не написал двух стихов. Он изучал все живые струны сердца человеческого, как изучают жилы трупа, но никогда не умел он воспользоваться своим знанием; так иногда отличный анатомик не умеет вылечить от лихорадки! Обыкновенно Вернер исподтишка насмехался над своими больными; но я раз видел, как он плакал над умирающим солдатом… Он был беден, мечтал о миллионах, а для денег не сделал бы лишнего шагу: он мне раз говорил, что скорее сделает одолжение врагу, чем другу, потому что это значило бы продавать свою благотворительность, тогда как ненависть только усилится соразмерно великодушию противника. У него был злой язык: под вывескою его эпиграммы не один добряк прослыл пошлым дураком; его соперники, завистливые водяные медики, распустили слух, будто он рисует карикатуры на своих больных, – больные взбеленились, почти все ему отказали. Его приятели, то есть все истинно порядочные люди, служившие на Кавказе, напрасно старались восстановить его упадший кредит.
Его наружность была из тех, которые с первого взгляда поражают неприятно, но которые нравятся впоследствии, когда глаз выучится читать в неправильных чертах отпечаток души испытанной и высокой. Бывали примеры, что женщины влюблялись в таких людей до безумия и не променяли бы их безобразия на красоту самых свежих и розовых эндимионов; надобно отдать справедливость женщинам: они имеют инстинкт красоты душевной: оттого-то, может быть, люди, подобные Вернеру, так страстно любят женщин.
Вернер был мал ростом, и худ, и слаб, как ребенок; одна нога была у него короче другой, как у Байрона; в сравнении с туловищем голова его казалась огромна: он стриг волосы под гребенку, и неровности его черепа, обнаруженные таким образом, поразили бы френолога странным сплетением противоположных наклонностей. Его маленькие черные глаза, всегда беспокойные, старались проникнуть в ваши мысли. В его одежде заметны были вкус и опрятность; его худощавые, жилистые и маленькие руки красовались в светло-желтых перчатках. Его сюртук, галстук и жилет были постоянно черного цвета. Молодежь прозвала его Мефистофелем; он показывал, будто сердился за это прозвание, но в самом деле оно льстило его самолюбию. Мы друг друга скоро поняли и сделались приятелями, потому что я к дружбе неспособен: из двух друзей всегда один раб другого, хотя часто ни один из них в этом себе не признается; рабом я быть не могу, а повелевать в этом случае – труд утомительный, потому что надо вместе с этим и обманывать; да притом у меня есть лакеи и деньги! Вот как мы сделались приятелями: я встретил Вернера в С… среди многочисленного и шумного круга молодежи; разговор принял под конец вечера философско-метафизическое направление; толковали об убеждениях: каждый был убежден в разных разностях.
– Что до меня касается, то я убежден только в одном… – сказал доктор.
– В чем это? – спросил я, желая узнать мнение человека, который до сих пор молчал.
– В том, – отвечал он, – что рано или поздно в одно прекрасное утро я умру.
– Я богаче вас, – сказал я, – у меня, кроме этого, есть еще убеждение – именно то, что я в один прегадкий вечер имел несчастие родиться.
Все нашли, что мы говорим вздор, а, право, из них никто ничего умнее этого не сказал. С этой минуты мы отличили в толпе друг друга. Мы часто сходились вместе и толковали вдвоем об отвлеченных предметах очень серьезно, пока не замечали оба, что мы взаимно друг друга морочим. Тогда, посмотрев значительно друг другу в глаза, как делали римские авгуры Римские авгуры – жрецы-гадатели. Марк Туллий Цицерон, писатель, оратор и политический деятель Древнего Рима, в книге «О гадании» рассказывает, что при встрече друг с другом авгуры едва удерживались от смеха. , по словам Цицерона, мы начинали хохотать и, нахохотавшись, расходились довольные своим вечером.
Я лежал на диване, устремив глаза в потолок и заложив руки под затылок, когда Вернер взошел в мою комнату. Он сел в кресла, поставил трость в угол, зевнул и объявил, что на дворе становится жарко. Я отвечал, что меня беспокоят мухи, – и мы оба замолчали.
– Заметьте, любезный доктор, – сказал я, – что без дураков было бы на свете очень скучно!.. Посмотрите, вот нас двое умных людей; мы знаем заране, что обо всем можно спорить до бесконечности, и потому не спорим; мы знаем почти все сокровенные мысли друг друга; одно слово – для нас целая история; видим зерно каждого нашего чувства сквозь тройную оболочку. Печальное нам смешно, смешное грустно, а вообще, по правде, мы ко всему довольно равнодушны, кроме самих себя. Итак, размена чувств и мыслей между нами не может быть: мы знаем один о другом все, что хотим знать, и знать больше не хотим. Остается одно средство: рассказывать новости. Скажите же мне какую-нибудь новость.
Утомленный долгой речью, я закрыл глаза и зевнул…
Он отвечал подумавши:
– В вашей галиматье, однако ж, есть идея.
– Две! – отвечал я.
– Скажите мне одну, я вам скажу другую.
– Хорошо, начинайте! – сказал я, продолжая рассматривать потолок и внутренно улыбаясь.
– Вам хочется знать какие-нибудь подробности насчет кого-нибудь из приехавших на воды, и я уж догадываюсь, о ком вы это заботитесь, потому что об вас там уже спрашивали.
– Доктор! решительно нам нельзя разговаривать: мы читаем в душе друг друга.
– Теперь другая…
– Другая идея вот: мне хотелось вас заставить рассказать что-нибудь; во-первых, потому, что такие умные люди, как вы, лучше любят слушателей, чем рассказчиков. Теперь к делу: что вам сказала княгиня Лиговская обо мне?
– Вы очень уверены, что это княгиня… а не княжна?..
– Совершенно убежден.
– Почему?
– Потому что княжна спрашивала об Грушницком.
– У вас большой дар соображения. Княжна сказала, что она уверена, что этот молодой человек в солдатской шинели разжалован в солдаты за дуэль..
– Надеюсь, вы ее оставили в этом приятном заблуждении…
– Разумеется.
– Завязка есть! – закричал я в восхищении, – об развязке этой комедии мы похлопочем. Явно судьба заботится о том, чтоб мне не было скучно.
– Я предчувствую, – сказал доктор, – что бедный Грушницкий будет вашей жертвой…
– Княгиня сказала, что ваше лицо ей знакомо. Я ей заметил, что, верно, она вас встречала в Петербурге, где-нибудь в свете… я сказал ваше имя… Оно было ей известно. Кажется, ваша история там наделала много шума… Княгиня стала рассказывать о ваших похождениях, прибавляя, вероятно, к светским сплетням свои замечания… Дочка слушала с любопытством. В ее воображении вы сделались героем романа в новом вкусе… Я не противоречил княгине, хотя знал, что она говорит вздор.
– Достойный друг! – сказал я, протянув ему руку. Доктор пожал ее с чувством и продолжал:
– Если хотите, я вас представлю…
– Помилуйте! – сказал я, всплеснув руками, – разве героев представляют? Они не иначе знакомятся, как спасая от верной смерти свою любезную…
– И вы в самом деле хотите волочиться за княжной?..
– Напротив, совсем напротив!.. Доктор, наконец я торжествую: вы меня не понимаете!.. Это меня, впрочем, огорчает, доктор, – продолжал я после минуты молчания, – я никогда сам не открываю моих тайн, а ужасно люблю, чтоб их отгадывали, потому что таким образом я всегда могу при случае от них отпереться. Однако ж вы мне должны описать маменьку с дочкой. Что они за люди?
– Во-первых, княгиня – женщина сорока пяти лет, – отвечал Вернер, – у нее прекрасный желудок, но кровь испорчена; на щеках красные пятна. Последнюю половину своей жизни она провела в Москве и тут на покое растолстела. Она любит соблазнительные анекдоты и сама говорит иногда неприличные вещи, когда дочери нет в комнате. Она мне объявила, что дочь ее невинна как голубь. Какое мне дело?.. Я хотел ей отвечать, чтоб она была спокойна, что я никому этого не скажу! Княгиня лечится от ревматизма, а дочь бог знает от чего; я велел обеим пить по два стакана в день кислосерной воды и купаться два раза в неделю в разводной ванне. Княгиня, кажется, не привыкла повелевать; она питает уважение к уму и знаниям дочки, которая читала Байрона по-английски и знает алгебру: в Москве, видно, барышни пустились в ученость, и хорошо делают, право! Наши мужчины так не любезны вообще, что с ними кокетничать, должно быть, для умной женщины несносно. Княгиня очень любит молодых людей: княжна смотрит на них с некоторым презрением: московская привычка! Они в Москве только и питаются, что сорокалетними остряками.
– А вы были в Москве, доктор?
– Да, я имел там некоторую практику.
– Продолжайте.
– Да я, кажется, все сказал… Да! вот еще: княжна, кажется, любит рассуждать о чувствах, страстях и прочее… она была одну зиму в Петербурге, и он ей не понравился, особенно общество: ее, верно, холодно приняли.
– Вы никого у них не видали сегодня?
– Напротив: был один адъютант, один натянутый гвардеец и какая-то дама из новоприезжих, родственница княгини по мужу, очень хорошенькая, но очень, кажется, больная… Не встретили ль вы ее у колодца? – она среднего роста, блондинка, с правильными чертами, цвет лица чахоточный, а на правой щеке черная родинка; ее лицо меня поразило своей выразительностью.
– Родинка! – пробормотал я сквозь зубы. – Неужели?
Доктор посмотрел на меня и сказал торжественно, положив мне руку на сердце:
– Она вам знакома!.. – Мое сердце точно билось сильнее обыкновенного.
– Теперь ваша очередь торжествовать! – сказал я, – только я на вас надеюсь: вы мне не измените. Я ее не видал еще, но уверен, узнаю в вашем портрете одну женщину, которую любил в старину… Не говорите ей обо мне ни слова; если она спросит, отнеситесь обо мне дурно.
– Пожалуй! – сказал Вернер, пожав плечами.
Когда он ушел, то ужасная грусть стеснила мое сердце. Судьба ли нас свела опять на Кавказе, или она нарочно сюда приехала, зная, что меня встретит?.. и как мы встретимся?.. и потом, она ли это?.. Мои предчувствия меня никогда не обманывали. Нет в мире человека, над которым прошедшее приобретало бы такую власть, как надо мною: всякое напоминание о минувшей печали или радости болезненно ударяет в мою душу и извлекает из нее все те же звуки… Я глупо создан: ничего не забываю, – ничего!
После обеда часов в шесть я пошел на бульвар: там была толпа; княгиня с княжной сидели на скамье, окруженные молодежью, которая любезничала наперерыв. Я поместился в некотором расстоянии на другой лавке, остановил двух знакомых Д… офицеров и начал им что-то рассказывать; видно, было смешно, потому что они начали хохотать как сумасшедшие. Любопытство привлекло ко мне некоторых из окружавших княжну; мало-помалу и все ее покинули и присоединились к моему кружку. Я не умолкал: мои анекдоты были умны до глупости, мои насмешки над проходящими мимо оригиналами были злы до неистовства… Я продолжал увеселять публику до захождения солнца. Несколько раз княжна под ручку с матерью проходила мимо меня, сопровождаемая каким-то хромым старичком; несколько раз ее взгляд, упадая на меня, выражал досаду, стараясь выразить равнодушие…
– Что он вам рассказывал? – спросила она у одного из молодых людей, возвратившихся к ней из вежливости, – верно, очень занимательную историю – свои подвиги в сражениях?.. – Она сказала это довольно громко и, вероятно, с намерением кольнуть меня. «А-га! – подумал я, – вы не на шутку сердитесь, милая княжна; погодите, то ли еще будет!»
Грушницкий следил за нею, как хищный зверь, и не спускал ее с глаз: бьюсь об заклад, что завтра он будет просить, чтоб его кто-нибудь представил княгине. Она будет очень рада, потому что ей скучно.
В продолжение двух дней мои дела ужасно подвинулись. Княжна меня решительно ненавидит; мне уже пересказали две-три эпиграммы на мой счет, довольно колкие, но вместе очень лестные. Ей ужасно странно, что я, который привык к хорошему обществу, который так короток с ее петербургскими кузинами и тетушками, не стараюсь познакомиться с нею. Мы встречаемся каждый день у колодца, на бульваре; я употребляю все свои силы на то, чтоб отвлекать ее обожателей, блестящих адъютантов, бледных москвичей и других, – и мне почти всегда удается. Я всегда ненавидел гостей у себя: теперь у меня каждый день полон дом, обедают, ужинают, играют, – и, увы, мое шампанское торжествует над силою магнетических ее глазок!
Вчера я ее встретил в магазине Челахова; она торговала чудесный персидский ковер. Княжна упрашивала свою маменьку не скупиться: этот ковер так украсил бы ее кабинет!.. Я дал сорок рублей лишних и перекупил его; за это я был вознагражден взглядом, где блистало самое восхитительное бешенство. Около обеда я велел нарочно провести мимо ее окон мою черкескую лошадь, покрытую этим ковром. Вернер был у них в это время и говорил мне, что эффект этой сцены был самый драматический. Княжна хочет проповедовать против меня ополчение; я даже заметил, что уж два адъютанта при ней со мною очень сухо кланяются, однако всякий день у меня обедают.
Грушницкий принял таинственный вид: ходит, закинув руки за спину, и никого не узнает; нога его вдруг выздоровела: он едва хромает. Он нашел случай вступить в разговор с княгиней и сказал какой-то комплимент княжне: она, видно, не очень разборчива, ибо с тех пор отвечает на его поклон самой милой улыбкою.
– Ты решительно не хочешь познакомиться с Лиговскими? – сказал он мне вчера.
– Решительно.
– Помилуй! самый приятный дом на водах! Все здешнее лучшее общество…
– Мой друг, мне и нездешнее ужасно надоело. А ты у них бываешь?
– Нет еще; я говорил раза два с княжной, и более, но знаешь, как-то напрашиваться в дом неловко, хотя здесь это и водится… Другое дело, если б я носил эполеты…
– Помилуй! да эдак ты гораздо интереснее! Ты просто не умеешь пользоваться своим выгодным положением… да солдатская шинель в глазах чувствительной барышни тебя делает героем и страдальцем.
Грушницкий самодовольно улыбнулся.
– Какой вздор! – сказал он.
– Я уверен, – продолжал я, – что княжна в тебя уж влюблена!
Он покраснел до ушей и надулся.
О самолюбие! ты рычаг, которым Архимед хотел приподнять земной шар!..
– У тебя все шутки! – сказал он, показывая, будто сердится, – во-первых, она меня еще так мало знает…
– Женщины любят только тех, которых не знают.
– Да я вовсе не имею претензии ей нравиться: я просто хочу познакомиться с приятным домом, и было бы очень смешно, если б я имел какие-нибудь надежды… Вот вы, например, другое дело! – вы победители петербургские: только посмотрите, так женщины тают… А знаешь ли, Печорин, что княжна о тебе говорила?
– Как? она тебе уж говорила обо мне?..
– Не радуйся, однако. Я как-то вступил с нею в разговор у колодца, случайно; третье слово ее было: «Кто этот господин, у которого такой неприятный тяжелый взгляд? он был с вами, тогда…» Она покраснела и не хотела назвать дня, вспомнив свою милую выходку. «Вам не нужно сказывать дня, – отвечал я ей, – он вечно будет мне памятен…» Мой друг, Печорин! я тебе не поздравляю; ты у нее на дурном замечании… А, право, жаль! потому что Мери очень мила!..
Надобно заметить, что Грушницкий из тех людей, которые, говоря о женщине, с которой они едва знакомы, называют ее моя Мери, моя Sophie, если она имела счастие им понравиться.
Я принял серьезный вид и отвечал ему:
– Да, она недурна… только берегись, Грушницкий! Русские барышни большею частью питаются только платонической любовью, не примешивая к ней мысли о замужестве; а платоническая любовь самая беспокойная. Княжна, кажется, из тех женщин, которые хотят, чтоб их забавляли; если две минуты сряду ей будет возле тебя скучно, ты погиб невозвратно: твое молчание должно возбуждать ее любопытство, твой разговор – никогда не удовлетворять его вполне; ты должен ее тревожить ежеминутно; она десять раз публично для тебя пренебрежет мнением и назовет это жертвой и, чтоб вознаградить себя за это, станет тебя мучить – а потом просто скажет, что она тебя терпеть не может. Если ты над нею не приобретешь власти, то даже ее первый поцелуй не даст тебе права на второй; она с тобою накокетничается вдоволь, а года через два выйдет замуж за урода, из покорности к маменьке, и станет себя уверять, что она несчастна, что она одного только человека и любила, то есть тебя, но что небо не хотело соединить ее с ним, потому что на нем была солдатская шинель, хотя под этой толстой серой шинелью билось сердце страстное и благородное…
Грушницкий ударил по столу кулаком и стал ходить взад и вперед по комнате.
Я внутренно хохотал и даже раза два улыбнулся, но он, к счастью, этого не заметил. Явно, что он влюблен, потому что стал еще доверчивее прежнего; у него даже появилось серебряное кольцо с чернью, здешней работы: оно мне показалось подозрительным… Я стал его рассматривать, и что же?.. мелкими буквами имя Мери было вырезано на внутренней стороне, и рядом – число того дня, когда она подняла знаменитый стакан. Я утаил свое открытие; я не хочу вынуждать у него признаний, я хочу, чтобы он сам выбрал меня в свои поверенные, и тут-то я буду наслаждаться…
* * *
Сегодня я встал поздно; прихожу к колодцу – никого уже нет. Становилось жарко; белые мохнатые тучки быстро бежали от снеговых гор, обещая грозу; голова Машука дымилась, как загашенный факел; кругом него вились и ползали, как змеи, серые клочки облаков, задержанные в своем стремлении и будто зацепившиеся за колючий его кустарник. Воздух был напоен электричеством. Я углубился в виноградную аллею, ведущую в грот; мне было грустно. Я думал о той молодой женщине с родинкой на щеке, про которую говорил мне доктор… Зачем она здесь? И она ли? И почему я думаю, что это она? и почему я даже так в этом уверен? Мало ли женщин с родинками на щеках? Размышляя таким образом, я подошел к самому гроту. Смотрю: в прохладной тени его свода, на каменной скамье сидит женщина, в соломенной шляпке, окутанная черной шалью, опустив голову на грудь; шляпка закрывала ее лицо. Я хотел уже вернуться, чтоб не нарушить ее мечтаний, когда она на меня взглянула.
– Вера! – вскрикнул я невольно.
Она вздрогнула и побледнела.
– Я знала, что вы здесь, – сказала она. Я сел возле нее и взял ее за руку. Давно забытый трепет пробежал по моим жилам при звуке этого милого голоса; она посмотрела мне в глаза своими глубокими и спокойными глазами; в них выражалась недоверчивость и что-то похожее на упрек.
– Мы давно не видались, – сказал я.
– Давно, и переменились оба во многом!
– Стало быть, уж ты меня не любишь?..
– Я замужем! – сказала она.
– Опять? Однако несколько лет тому назад эта причина также существовала, но между тем… – Она выдернула свою руку из моей, и щеки ее запылали.
– Может быть, ты любишь своего второго мужа?.. – Она не отвечала и отвернулась.
– Или он очень ревнив?
Молчание.
– Что ж? Он молод, хорош, особенно, верно, богат, и ты боишься… – я взглянул на нее и испугался; ее лицо выражало глубокое отчаянье, на глазах сверкали слезы.
– Скажи мне, – наконец прошептала она, – тебе очень весело меня мучить? Я бы тебя должна ненавидеть. С тех пор как мы знаем друг друга, ты ничего мне не дал, кроме страданий… – Ее голос задрожал, она склонилась ко мне и опустила голову на грудь мою.
«Может быть, – подумал я, – ты оттого-то именно меня и любила: радости забываются, а печали никогда…»
Я ее крепко обнял, и так мы оставались долго. Наконец губы наши сблизились и слились в жаркий, упоительный поцелуй; ее руки были холодны как лед, голова горела. Тут между нами начался один из тех разговоров, которые на бумаге не имеют смысла, которых повторить нельзя и нельзя даже запомнить: значение звуков заменяет и дополняет значение слов, как в итальянской опере.
Она решительно не хочет, чтоб я познакомился с ее мужем – тем хромым старичком, которого я видел мельком на бульваре: она вышла за него для сына. Он богат и страдает ревматизмами. Я не позволил себе над ним ни одной насмешки: она его уважает, как отца, – и будет обманывать, как мужа… Странная вещь сердце человеческое вообще, и женское в особенности!
Муж Веры, Семен Васильевич Г…в, дальний родственник княгини Лиговской. Он живет с нею рядом; Вера часто бывает у княгини; я ей дал слово познакомиться с Лиговскими и волочиться за княжной, чтоб отвлечь от нее внимание. Таким образом, мои планы нимало не расстроились, и мне будет весело…
Весело!.. Да, я уже прошел тот период жизни душевной, когда ищут только счастия, когда сердце чувствует необходимость любить сильно и страстно кого-нибудь, – теперь я только хочу быть любимым, и то очень немногими; даже мне кажется, одной постоянной привязанности мне было бы довольно: жалкая привычка сердца!..
Однако мне всегда было странно: я никогда не делался рабом любимой женщины; напротив, я всегда приобретал над их волей и сердцем непобедимую власть, вовсе об этом не стараясь. Отчего это? – оттого ли что я никогда ничем очень не дорожу и что они ежеминутно боялись выпустить меня из рук? или это – магнетическое влияния сильного организма? или мне просто не удавалось встретить женщину с упорным характером?
Надо признаться, что я точно не люблю женщин с характером: их ли это дело!..
Правда, теперь вспомнил: один раз, один только раз я любил женщину с твердой волей, которую никогда не мог победить… Мы расстались врагами, – и то, может быть, если б я ее встретил пятью годами позже, мы расстались бы иначе…
Вера больна, очень больна, хотя в этом и не признается, я боюсь, чтобы не было у нее чахотки или той болезни, которую называют fievre lente Fievre lente – медленная горячка (франц.). – болезнь не русская вовсе, и ей на нашем языке нет названия.
Гроза застала нас в гроте и удержала лишних полчаса. Она не заставляла меня клясться в верности, не спрашивала, любил ли я других с тех пор, как мы расстались… Она вверилась мне снова с прежней беспечностью, – я ее не обману: она единственная женщина в мире, которую я не в силах был бы обмануть. Я знаю, мы скоро разлучимся опять и, может быть, на веки: оба пойдем разными путями до гроба; но воспоминание о ней останется неприкосновенным в душе моей; я ей это повторял всегда и она мне верит, хотя говорит противное.
Наконец мы расстались; я долго следил за нею взором, пока ее шляпка не скрылась за кустарниками и скалами. Сердце мое болезненно сжалось, как после первого расставания. О, как я обарадовался этому чувству! Уж не молодость ли с своими благотворными бурями хочет вернуться ко мне опять, или это только ее прощальный взгляд, последний подарок – на память?.. А смешно подумать, что на вид я еще мальчик: лицо хотя бледно, но еще свежо; члены гибки и стройны; густые кудри вьются, глаза горят, кровь кипит…
Возвратясь домой, я сел верхом и поскакал в степь; я люблю скакать на горячей лошади по высокой траве, против пустынного ветра; с жадностью глотаю я благовонный воздух и устремляю взоры в синюю даль, стараясь уловить туманные очерки предметов, которые ежеминутно становятся все яснее и яснее. Какая бы горесть ни лежала на сердце, какое бы беспокойство ни томило мысль, все в минуту рассеется; на душе станет легко, усталость тела победит тревогу ума. Нет женского взора, которого бы я не забыл при виде кудрявых гор, озаренных южным солнцем, при виде голубого неба или внимая шуму потока, падающего с утеса на утес.
Я думаю, казаки, зевающие на своих вышках, видя меня скачущего без нужды и цели, долго мучились этой загадкой, ибо, верно, по одежде приняли меня за черкеса. Мне в самом деле говорили, что в черкесском костюме верхом я больше похож на кабардинца, чем многие кабардинцы. И точно, что касается до этой благородной боевой одежды, я совершенный денди: ни одного галуна лишнего; оружие ценное в простой отделке, мех на шапке не слишком длинный, не слишком короткий; ноговицы и черевики пригнаны со всевозможной точностью; бешмет белый, черкеска темно-бурая. Я долго изучал горскую посадку: ничем нельзя так польстить моему самолюбию, как признавая мое искусство в верховой езде на кавказский лад. Я держу четырех лошадей: одну для себя, трех для приятелей, чтоб не скучно было одному таскаться по полям; они берут моих лошадей с удовольствием и никогда со мной не ездят вместе. Было уже шесть часов пополудни, когда вспомнил я, что пора обедать; лошадь моя была измучена; я выехал на дорогу, ведущую из Пятигорска в немецкую колонию, куда часто водяное общество ездит en piqueniqueна пикник (франц.). . Дорога идет, извиваясь между кустарниками, опускаясь в небольшие овраги, где протекают шумные ручьи под сенью высоких трав; кругом амфитеатром возвышаются синие громады Бешту, Змеиной, Железной и Лысой горы. Спустясь в один из таких оврагов, называемых на здешнем наречии балками, я остановился, чтоб напоить лошадь; в это время показалась на дороге шумная и блестящая кавалькада: дамы в черных и голубых амазонках, кавалеры в костюмах, составляющих смесь черкесского с нижегородским« Смесь черкесского с нижегородским » – перефразировка слов Чацкого из I действия комедии Грибоедова «Горе от ума»: «Господствует еще смешенье языков: французского с нижегородским?» ; впереди ехал Грушницкий с княжною Мери.
Дамы на водах еще верят нападениям черкесов среди белого дня; вероятно, поэтому Грушницкий сверх солдатской шинели повесил шашку и пару пистолетов: он был довольно смешон в этом геройском облечении. Высокий куст закрывал меня от них, но сквозь листья его я мог видеть все и отгадать по выражениям их лиц, что разговор был сентиментальный. Наконец они приблизились к спуску; Грушницкий взял за повод лошадь княжны, и тогда я услышал конец их разговора:
– И вы целую жизнь хотите остаться на Кавказе? – говорила княжна.
– Что для меня Россия! – отвечал ее кавалер, – страна, где тысячи людей, потому что они богаче меня, будут смотреть на меня с презрением, тогда как здесь – здесь эта толстая шинель не помешала моему знакомству с вами…
– Напротив… – сказала княжна, покраснев.
Лицо Грушницкого изобразило удовольствие. Он продолжал:
– Здесь моя жизнь протечет шумно, незаметно и быстро, под пулями дикарей, и если бы бог мне каждый год посылал один светлый женский взгляд, один, подобный тому…
В это время они поравнялись со мной; я ударил плетью по лошади и выехал из-за куста…
– Mon Dieu, un Circassien!..Боже мой, черкес!.. (франц.) – вскрикнула княжна в ужасе. Чтоб ее совершенно разуверить, я отвечал по-французски, слегка наклонясь:
– Ne craignez rien, madame, – je ne suis pas plus dangereux que votre cavalierНе бойтесь, сударыня, – я не более опасен, чем ваш кавалер (франц.). .
Она смутилась, – но отчего? от своей ошибки или оттого, что мой ответ ей показался дерзким? Я желал бы, чтоб последнее мое предположение было справедливо. Грушницкий бросил на меня недовольный взгляд.
Поздно вечером, то есть часов в одиннадцать, я пошел гулять по липовой аллее бульвара. Город спал, только в некоторых окнах мелькали огни. С трех сторон чернели гребни утесов, отрасли Машука, на вершине которого лежало зловещее облачко; месяц подымался на востоке; вдали серебряной бахромой сверкали снеговые горы. Оклики часовых перемежались с шумом горячих ключей, спущенных на ночь. Порою звучный топот коня раздавался по улице, сопровождаемый скрыпом нагайской арбы и заунывным татарским припевом. Я сел на скамью и задумался… Я чувствовал необходимость излить свои мысли в дружеском разговоре… но с кем? «Что делает теперь Вера?» – думал я… Я бы дорого дал, чтоб в эту минуту пожать ее руку.
Вдруг слышу быстрые и неровные шаги… Верно, Грушницкий… Так и есть!
– Откуда?
– От княгини Лиговской, – сказал он очень важно. – Как Мери поет!..
– Знаешь ли что? – сказал я ему, – я пари держу, что она не знает, что ты юнкер; она думает, что ты разжалованный…
– Может быть! Какое мне дело!.. – сказал он рассеянно.
– Нет, я только так это говорю…
– А знаешь ли, что ты нынче ее ужасно рассердил? Она нашла, что это неслыханная дерзость; я насилу мог ее уверить, что ты так хорошо воспитан и так хорошо знаешь свет, что не мог иметь намерение ее оскорбить; она говорит, что у тебя наглый взгляд, что ты, верно, о себе самого высокого мнения.
– Она не ошибается… А ты не хочешь ли за нее вступиться?
– Мне жаль, что не имею еще этого права…
– О-го! – подумал я, – у него, видно, есть уже надежды…
– Впрочем, для тебя же хуже, – продолжал Грушницкий, – теперь тебе трудно познакомиться с ними, – а жаль! это один из самых приятных домов, какие я только знаю...
Я внутренно улыбнулся.
– Самый приятный дом для меня теперь мой, – сказал я, зевая, и встал, чтоб идти.
– Однако признайся, ты раскаиваешься?..
– Какой вздор! если я захочу, то завтра же буду вечером у княгини…
– Посмотрим...
– Даже, чтоб тебе сделать удовольствие, стану волочиться за княжной…
– Да, если она захочет говорить с тобой…
– Я подожду только той минуты, когда твой разговор ей наскучит… Прощай!..
– А я пойду шататься, – я ни за что теперь не засну… Послушай, пойдем лучше в ресторацию, там игра… мне нужны нынче сильные ощущения…
– Желаю тебе проиграться…
Я пошел домой.
Прошла почти неделя, а я еще не познакомился с Лиговскими. Жду удобного случая. Грушницкий, как тень, следует за княжной везде; их разговоры бесконечны: когда же он ей наскучит?.. Мать не обращает на это внимания, потому что он не жених. Вот логика матерей! Я подметил два, три нежных взгляда, – надо этому положить конец.
Вчера у колодца в первый раз явилась Вера… Она, с тех пор как мы встретились в гроте, не выходила из дома. Мы в одно время опустили стаканы, и, наклонясь, она мне сказала шепотом:
– Ты не хочешь познакомиться с Лиговскими?.. Мы только там можем видеться…
Упрек! скучно! Но я его заслужил…
Кстати: завтра бал по подписке в зале ресторации, и я буду танцевать с княжной мазурку.
Зала ресторации превратилась в залу Благородного собрания. В девять часов все съехались. Княгиня с дочерью явилась из последних; многие дамы посмотрели на нее с завистью и недоброжелательством, потому что княжна Мери одевается со вкусом. Те, которые почитают себя здешними аристократками, утаив зависть, примкнулись к ней. Как быть? Где есть общество женщин – там сейчас явится высший и низший круг. Под окном, в толпе народа, стоял Грушницкий, прижав лицо к стеклу и не спуская глаз с своей богини; она, проходя мимо, едва приметно кивнула ему головой. Он просиял, как солнце… Танцы начались польским; потом заиграли вальс. Шпоры зазвенели, фалды поднялись и закружились.
Я стоял сзади одной толстой дамы, осененной розовыми перьями; пышность ее платья напоминала времена фижм, а пестрота ее негладкой кожи – счастливую эпоху мушек из черной тафты. Самая большая бородавка на ее шее прикрыта была фермуаром. Она говорила своему кавалеру, драгунскому капитану:
– Эта княжна Лиговская пренесносная девчонка! Вообразите, толкнула меня и не извинилась, да еще обернулась и посмотрела на меня в лорнет… C’est impayable!..Это презабавно!.. (франц.) И чем она гордится? Уж ее надо бы проучить…
– За этим дело не станет! – отвечал услужливый капитан и отправился в другую комнату.
Я тотчас подошел к княжне, приглашая ее вальсировать, пользуясь свободой здешних обычаев, позволяющих танцевать с незнакомыми дамами.
Она едва могла принудить себя не улыбнуться и скрыть свое торжество; ей удалось, однако, довольно скоро принять совершенно равнодушный и даже строгий вид: она небрежно опустила руку на мое плечо, наклонила слегка головку набок, и мы пустились. Я не знаю талии более сладострастной и гибкой! Ее свежее дыхание касалось моего лица; иногда локон, отделившийся в вихре вальса от своих товарищей, скользил по горящей щеке моей… Я сделал три тура. (Она вальсирует удивительно хорошо). Она запыхалась, глаза ее помутились, полураскрытые губки едва могли прошептать необходимое: «Merci, monsieur»Благодарю вас, сударь (франц.). .
После нескольких минут молчания я сказал ей, приняв самый покорный вид:
– Я слышал, княжна, что, будучи вам вовсе незнаком, я имел уже несчастье заслужить вашу немилость… что вы меня нашли дерзким… неужели это правда?
– И вам бы хотелось теперь меня утвердить в этом мнении? – отвечала она с иронической гримаской, которая, впрочем, очень идет к ее подвижной физиономии.
– Если я имел дерзость вас чем-нибудь оскорбить, то позвольте мне иметь еще большую дерзость просить у вас прощения… И, право, я бы очень желал доказать вам, что вы насчет меня ошибались…
– Вам это будет довольно трудно…
– Отчего же?
– Оттого, что вы у нас не бываете, а эти балы, вероятно, не часто будут повторяться.
«Это значит, – подумал я, – что их двери для меня навеки закрыты».
– Знаете, княжна, – сказал я с некоторой досадой, – никогда не должно отвергать кающегося преступника: с отчаяния он может сделаться еще вдвое преступнее… и тогда…
Хохот и шушуканье нас окружающих заставили меня обернуться и прервать мою фразу. В нескольких шагах от меня стояла группа мужчин, и в их числе драгунский капитан, изъявивший враждебные намерения против милой княжны; он особенно был чем-то очень доволен, потирал руки, хохотал и перемигивался с товарищами. Вдруг из среды их отделился господин во фраке с длинными усами и красной рожей и направил неверные шаги свои прямо к княжне: он был пьян. Остановясь против смутившейся княжны и заложив руки за спину, он уставил на нее мутно-серые глаза и произнес хриплым дишкантом:
– Пермете…Позвольте… (от франц. pemetter.) ну, да что тут!.. просто ангажирую вас на мазурку…
– Что вам угодно? – произнесла она дрожащим голосом, бросая кругом умоляющий взгляд. Увы! ее мать была далеко, и возле никого из знакомых ей кавалеров не было; один адьютант, кажется, все это видел, да спрятался за толпой, чтоб не быть замешану в историю.
– Что же? – сказал пьяный господин, мигнув драгунскому капитану, который ободрял его знаками, – разве вам не угодно?.. Я таки опять имею честь вас ангажировать pour mazure…на мазурку… (франц.). Вы, может, думаете, что я пьян? Это ничего!.. Гораздо свободнее, могу вас уверить…
Я видел, что она готова упасть в обморок от страху и негодования.
Я подошел к пьяному господину, взял его довольно крепко за руку и, посмотрев ему пристально в глаза, попросил удалиться, – потому, прибавил я, что княжна давно уж обещалась танцевать мазурку со мною.
– Ну, нечего делать!.. в другой раз! – сказал он, засмеявшись, и удалился к своим пристыженным товарищам, которые тотчас увели его в другую комнату.
Я был вознагражден глубоким, чудесным взглядом.
Княжна подошла к своей матери и рассказала ей все, та отыскала меня в толпе и благодарила. Она объявила мне, что знала мою мать и была дружна с полдюжиной моих тетушек.
– Я не знаю, как случилось, что мы до сих пор с вами незнакомы, – прибавила она, – но признайтесь, вы этому одни виною: вы дичитесь всех так, что ни на что не похоже. Я надеюсь, что воздух моей гостиной разгонит ваш сплин… не правда ли?
Я сказал ей одну из тех фраз, которые у всякого должны быть заготовлены на подобный случай.
Кадрили тянулись ужасно долго.
Наконец с хор загремела мазурка; мы с княжной уселись.
Я не намекал ни разу ни о пьяном господине, ни о прежнем моем поведении, ни о Грушницком. Впечатление, произведенное на нее неприятною сценою, мало-помалу рассеялось; личико ее расцвело; она шутила очень мило; ее разговор был остер, без притязания на остроту, жив и свободен; ее замечания иногда глубоки… Я дал ей почувствовать очень запутанной фразой, что она мне давно нравится. Она наклонила головку и слегка покраснела.
– Вы странный человек! – сказала она потом, подняв на меня свои бархатные глаза и принужденно засмеявшись.
– Я не хотел с вами знакомиться, – продолжал я, – потому что вас окружает слишком густая толпа поклонников, и я боялся в ней исчезнуть совершенно.
– Вы напрасно боялись! Они все прескучные…
– Все! Неужели все?
Она посмотрела на меня пристально, стараясь будто припомнить что-то, потом опять слегка покраснела и, наконец, произнесла решительно: все!
– Даже мой друг Грушницкий?
– А он ваш друг? – сказала она, показывая некоторое сомнение.
– Он, конечно, не входит в разряд скучных…
– Но в разряд несчастных, – сказал я смеясь.
– Конечно! А вам смешно? Я б желала, чтоб вы были на его месте…
– Что ж? я был сам некогда юнкером, и, право, это самое лучшее время моей жизни!
– А разве он юнкер?.. – сказала она быстро и потом прибавила: – А я думала…
– Что вы думали?..
– Ничего!.. Кто эта дама?
Тут разговор переменил направление и к этому уж более не возвращался.
Вот мазурка кончилась, и мы распростились – до свидания. Дамы разъехались… Я пошел ужинать и встретил Вернера.
– А-га! – сказал он, – так-то вы! А еще хотели не иначе знакомиться с княжной, как спасши ее от верной смерти.
– Я сделал лучше, – отвечал я ему, – спас ее от обморока на бале!..
– Как это? Расскажите!..
– Нет, отгадайте, – о вы, отгадывающий все на свете!
Около семи часов вечера я гулял на бульваре. Грушницкий, увидав меня издали, подошел ко мне: какой-то смешной восторг блистал в его глазах. Он крепко пожал мне руку и сказал трагическим голосом:
– Благодарю тебя, Печорин… Ты понимаешь меня?..
– Нет; но, во всяком случае, не стоит благодарности, – отвечал я, не имея точно на совести никакого благодеяния.
– Как? а вчера? ты разве забыл?.. Мери мне все рассказала…
– А что? разве у вас уж нынче все общее? и благодарность?..
– Послушай, – сказал Грушницкий очень важно, – пожалуйста, не подшучивай над моей любовью, если хочешь остаться моим приятелем… Видишь: я ее люблю до безумия… и я думаю, я надеюсь, она также меня любит… У меня есть до тебя просьба: ты будешь нынче у них вечером… обещай мне замечать все; я знаю, ты опытен в этих вещах, ты лучше меня знаешь женщин… Женщины! женщины! кто их поймет? Их улыбки противоречат их взорам, их слова обещают и манят, а звук их голоса отталкивает… То они в минуту постигают и угадывают самую потаенную нашу мысль, то не понимают самых ясных намеков… Вот хоть княжна: вчера ее глаза пылали страстью, останавливаясь на мне, нынче они тусклы и холодны…
– Это, может быть, следствие действия вод, – отвечал я.
– Ты во всем видишь худую сторону… матерьялист! – прибавил он презрительно. – Впрочем, переменим материю, – и, довольный плохим каламбуром, он развеселился.
В девятом часу мы вместе пошли к княгине.
Проходя мимо окон Веры, я видел ее у окна. Мы кинули друг другу беглый взгляд. Она вскоре после нас вошла в гостиную Лиговских. Княгиня меня ей представила как своей родственнице. Пили чай; гостей было много; разговор был общий. Я старался понравиться княгине, шутил, заставлял ее несколько раз смеяться от души; княжне также не раз хотелось похохотать, но она удерживалась, чтоб не выйти из принятой роли; она находит, что томность к ней идет, – и, может быть, не ошибается. Грушницкий, кажется, очень рад, что моя веселость ее не заражает.
После чая все пошли в залу.
– Довольна ль ты моим послушанием, Вера? – сказал я, проходя мимо ее.
Она мне кинула взгляд, исполненный любви и благодарности. Я привык к этим взглядам; но некогда они составляли мое блаженство. Княгиня усадила дочь за фортепьяно; все просили ее спеть что-нибудь, – я молчал и, пользуясь суматохой, отошел к окну с Верой, которая мне хотела сказать что-то очень важное для нас обоих… Вышло – вздор…
Между тем княжне мое равнодушие было досадно, как я мог догадаться по одному сердитому, блестящему взгляду… О, я удивительно понимаю этот разговор немой, но выразительный, краткий, но сильный!..
Она запела: ее голос недурен, но поет она плохо… впрочем, я не слушал. Зато Грушницкий, облокотясь на рояль против нее, пожирал ее глазами и поминутно говорил вполголоса: «Charmant! delicieux!»Очаровательно! прелестно! (франц.)
– Послушай, – говорила мне Вера, – я не хочу, чтоб ты знакомился с моим мужем, но ты должен непременно понравиться княгине; тебе это легко: ты можешь все, что захочешь. Мы здесь только будем видеться… – Только?.. – Она покраснела и продолжала:
– Ты знаешь, что я твоя раба; я никогда не умела тебе противиться… и я буду за это наказана: ты меня разлюбишь! По крайней мере я хочу сберечь свою репутацию… не для себя: ты это знаешь очень хорошо!.. О, я прошу тебя: не мучь меня по-прежнему пустыми сомнениями и притворной холодностью: я, может быть, скоро умру, я чувствую, что слабею со дня на день… и, несмотря на это, я не могу думать о будущей жизни, я думаю только о тебе. Вы, мужчины, не понимаете наслаждений взора, пожатия руки, а я, клянусь тебе, я, прислушиваясь к твоему голосу, чувствую такое глубокое, странное блаженство, что самые жаркие поцелуи не могут заменить его.
Между тем княжна Мери перестала петь. Ропот похвал раздался вокруг нее; я подошел к ней после всех и сказал ей что-то насчет ее голоса довольно небрежно.
– Мне это тем более лестно, – сказала она, – что вы меня вовсе не слушали; но вы, может быть, не любите музыки?..
– Напротив… после обеда особенно.
– Грушницкий прав, говоря, что у вас самые прозаические вкусы… и я вижу, что вы любите музыку в гастрономическом отношении…
– Вы ошибаетесь опять: я вовсе не гастроном: у меня прескверный желудок. Но музыка после обеда усыпляет, а спать после обеда здорово: следовательно, я люблю музыку в медицинском отношении. Вечером же она, напротив, слишком раздражает мои нервы: мне делается или слишком грустно, или слишком весело. То и другое утомительно, когда нет положительной причины грустить или радоваться, и притом грусть в обществе смешна, а слишком большая веселость неприлична…
Она не дослушала, отошла прочь, села возле Грушницкого, и между ними начался какой-то сентиментальный разговор: кажется, княжна отвечала на его мудрые фразы довольно рассеянно и неудачно, хотя старалась показать, что слушает его со вниманием, потому что он иногда смотрел на нее с удивлением, стараясь угадать причину внутреннего волнения, изображавшегося иногда в ее беспокойном взгляде…
Но я вас отгадал, милая княжна, берегитесь! Вы хотите мне отплатить тою же монетою, кольнуть мое самолюбие, – вам не удастся! и если вы мне объявите войну, то я буду беспощаден.
В продолжение вечера я несколько раз нарочно старался вмешаться в их разговор, но она довольно сухо встречала мои замечания, и я с притворной досадою наконец удалился. Княжна торжествовала, Грушницкий тоже. Торжествуйте, друзья мои, торопитесь… вам недолго торжествовать!.. Как быть? у меня есть предчувствие… Знакомясь с женщиной, я всегда безошибочно отгадывал, будет ли она меня любить или нет…
Остальную часть вечера я провел возле Веры и досыта наговорился о старине… За что она меня так любит, право, не знаю! Тем более, что это одна женщина, которая меня поняла совершенно, со всеми моими мелкими слабостями, дурными страстями… Неужели зло так привлекательно?..
Мы вышли вместе с Грушницким; на улице он взял меня под руку и после долгого молчания сказал:
– Ну, что?
«Ты глуп», – хотел я ему ответить, но удержался и только пожал плечами.
Все эти дни я ни разу не отступил от своей системы. Княжне начинает нравиться мой разговор; я рассказал ей некоторые из странных случаев моей жизни, и она начинает видеть во мне человека необыкновенного. Я смеюсь над всем на свете, особенно над чувствами: это начинает ее пугать. Она при мне не смеет пускаться с Грушницким в сентиментальные прения и уже несколько раз отвечала на его выходки насмешливой улыбкой; но я всякий раз, как Грушницкий подходит к ней, принимаю смиренный вид и оставляю их вдвоем; в первый раз была она этому рада или старалась показать; во второй – рассердилась на меня, в третий – на Грушницкого.
– У вас очень мало самолюбия! – сказала она мне вчера. – Отчего вы думаете, что мне веселее с Грушницким?
Я отвечал, что жертвую счастию приятеля своим удовольствием…
– И моим, – прибавила она.
Я пристально посмотрел на нее и принял серьезный вид. Потом целый день не говорил с ней ни слова… Вечером она была задумчива, нынче поутру у колодца еще задумчивей; когда я подошел к ней, она рассеянно слушала Грушницкого, который, кажется, восхищался природой, но только что завидела меня, она стала хохотать (очень некстати), показывая, будто меня не примечает. Я отошел подальше и украдкой стал наблюдать за ней: она отвернулась от своего собеседника и зевнула два раза.
Решительно, Грушницкий ей надоел.
Еще два дня не буду с ней говорить.
Я часто себя спрашиваю, зачем я так упорно добиваюсь любви молоденькой девочки, которую обольстить я не хочу и на которой никогда не женюсь? К чему это женское кокетство? Вера меня любит больше, чем княжна Мери будет любить когда-нибудь; если б она мне казалась непобедимой красавицей, то, может быть, я бы завлекся трудностью предприятия… Но ничуть не бывало! Следовательно, это не та беспокойная потребность любви, которая нас мучит в первые годы молодости, бросает нас от одной женщины к другой, пока мы найдем такую, которая нас терпеть не может: тут начинается наше постоянство – истинная бесконечная страсть, которую математически можно выразить линией, падающей из точки в пространство; секрет этой бесконечности – только в невозможности достигнуть цели, то есть конца.
Из чего же я хлопочу? Из зависти к Грушницкому? Бедняжка, он вовсе ее не заслуживает. Или это следствие того скверного, но непобедимого чувства, которое заставляет нас уничтожать сладкие заблуждения ближнего, чтоб иметь мелкое удовольствие сказать ему, когда он в отчаянии будет спрашивать, чему он должен верить: «Мой друг, со мною было то же самое, и ты видишь, однако, я обедаю, ужинаю и сплю преспокойно и, надеюсь, сумею умереть без крика и слез!»
А ведь есть необъятное наслаждение в обладании молодой, едва распустившейся души! Она как цветок, которого лучший аромат испаряется навстречу первому лучу солнца; его надо сорвать в эту минуту и, подышав им досыта, бросить на дороге: авось кто-нибудь поднимет! Я чувствую в себе эту ненасытную жадность, поглощающую все, что встречается на пути; я смотрю на страдания и радости других только в отношении к себе, как на пищу, поддерживающую мои душевные силы. Сам я больше неспособен безумствовать под влиянием страсти; честолюбие у меня подавлено обстоятельствами, но оно проявилось в другом виде, ибо честолюбие есть не что иное как жажда власти, а первое мое удовольствие – подчинять моей воле все, что меня окружает; возбуждать к себе чувство любви, преданности и страха – не есть ли первый признак и величайшее торжество власти? Быть для кого-нибудь причиною страданий и радостей, не имея на то никакого положительного права, – не самая ли это сладкая пища нашей гордости? А что такое счастие? Насыщенная гордость. Если б я почитал себя лучше, могущественнее всех на свете, я был бы счастлив; если б все меня любили, я в себе нашел бы бесконечные источники любви. Зло порождает зло; первое страдание дает понятие о удовольствии мучить другого; идея зла не может войти в голову человека без того, чтоб он не захотел приложить ее к действительности: идеи – создания органические, сказал кто-то: их рождение дает уже им форму, и эта форма есть действие; тот, в чьей голове родилось больше идей, тот больше других действует; от этого гений, прикованный к чиновническому столу, должен умереть или сойти с ума, точно так же, как человек с могучим телосложением, при сидячей жизни и скромном поведении, умирает от апоплексического удара. Страсти не что иное, как идеи при первом своем развитии: они принадлежность юности сердца, и глупец тот, кто думает целую жизнь ими волноваться: многие спокойные реки начинаются шумными водопадами, а ни одна не скачет и не пенится до самого моря. Но это спокойствие часто признак великой, хотя скрытой силы; полнота и глубина чувств и мыслей не допускает бешеных порывов; душа, страдая и наслаждаясь, дает во всем себе строгий отчет и убеждается в том, что так должно; она знает, что без гроз постоянный зной солнца ее иссушит; она проникается своей собственной жизнью, – лелеет и наказывает себя, как любимого ребенка. Только в этом высшем состоянии самопознания человек может оценить правосудие божие.
Перечитывая эту страницу, я замечаю, что далеко отвлекся от своего предмета… Но что за нужда?.. Ведь этот журнал пишу я для себя, и, следовательно, все, что я в него ни брошу, будет со временем для меня драгоценным воспоминанием.
* * *
Пришел Грушницкий и бросился мне на шею: он произведен в офицеры. Мы выпили шампанского. Доктор Вернер вошел вслед за ним.
– Я вас не поздравляю, – сказал он Грушницкому.
– Отчего?
– Оттого, что солдатская шинель к вам очень идет, и признайтесь, что армейский пехотный мундир, сшитый здесь, на водах, не придаст вам ничего интересного… Видите ли, вы до сих пор были исключением, а теперь подойдете под общее правило.
– Толкуйте, толкуйте, доктор! вы мне не помешаете радоваться. Он не знает, – прибавил Грушницкий мне на ухо, – сколько надежд придали мне эти эполеты… О, эполеты, эполеты! ваши звездочки, путеводительные звездочки… Нет! я теперь совершенно счастлив.
– Ты идешь с нами гулять к провалу? – спросил я его.
– Я? ни за что не покажусь княжне, пока не готов будет мундир.
– Прикажешь ей объявить о твоей радости?..
– Нет, пожалуйста, не говори… Я хочу ее удивить…
– Скажи мне, однако, как твои дела с нею?
Он смутился и задумался: ему хотелось похвастаться, солгать – и было совестно, а вместе с этим было стыдно признаться в истине.
– Как ты думаешь, любит ли она тебя?
– Любит ли? Помилуй, Печорин, какие у тебя понятия!.. как можно так скоро?.. Да если даже она и любит, то порядочная женщина этого не скажет…
– Хорошо! И, вероятно, по-твоему, порядочный человек должен тоже молчать о своей страсти?..
– Эх, братец! на все есть манера; многое не говорится, а отгадывается…
– Это правда… Только любовь, которую мы читаем в глазах, ни к чему женщину не обязывает, тогда как слова… Берегись, Грушницкий, она тебя надувает…
– Она?.. – отвечал он, подняв глаза к небу и самодовольно улыбнувшись, – мне жаль тебя, Печорин!..
Вечером многочисленное общество отправилось пешком к провалу.
По мнению здешних ученых, этот провал не что иное, как угасший кратер; он находится на отлогости Машука, в версте от города. К нему ведет узкая тропинка между кустарников и скал; взбираясь на гору, я подал руку княжне, и она ее не покидала в продолжение целой прогулки.
Разговор наш начался злословием: я стал перебирать присутствующих и отсутствующих наших знакомых, сначала выказывал смешные, а после дурные их стороны. Желчь моя взволновалась. Я начал шутя – и кончил искренней злостью. Сперва это ее забавляло, а потом испугало.
– Вы опасный человек! – сказала она мне, – я бы лучше желала попасться в лесу под нож убийцы, чем вам на язычок… Я вас прошу не шутя: когда вам вздумается обо мне говорить дурно, возьмите лучше нож и зарежьте меня, – я думаю, это вам не будет очень трудно.
– Разве я похож на убийцу?..
– Вы хуже…
Я задумался на минуту и потом сказал, приняв глубоко тронутый вид:
– Да, такова была моя участь с самого детства. Все читали на моем лице признаки дурных чувств, которых не было; но их предполагали – и они родились. Я был скромен – меня обвиняли в лукавстве: я стал скрытен. Я глубоко чувствовал добро и зло; никто меня не ласкал, все оскорбляли: я стал злопамятен; я был угрюм, – другие дети веселы и болтливы; я чувствовал себя выше их, – меня ставили ниже. Я сделался завистлив. Я был готов любить весь мир, – меня никто не понял: и я выучился ненавидеть. Моя бесцветная молодость протекала в борьбе с собой и светом; лучшие мои чувства, боясь насмешки, я хоронил в глубине сердца: они там и умерли. Я говорил правду – мне не верили: я начал обманывать; узнав хорошо свет и пружины общества, я стал искусен в науке жизни и видел, как другие без искусства счастливы, пользуясь даром теми выгодами, которых я так неутомимо добивался. И тогда в груди моей родилось отчаяние – не то отчаяние, которое лечат дулом пистолета, но холодное, бессильное отчаяние, прикрытое любезностью и добродушной улыбкой. Я сделался нравственным калекой: одна половина души моей не существовала, она высохла, испарилась, умерла, я ее отрезал и бросил, – тогда как другая шевелилась и жила к услугам каждого, и этого никто не заметил, потому что никто не знал о существовании погибшей ее половины; но вы теперь во мне разбудили воспоминание о ней, и я вам прочел ее эпитафию. Многим все вообще эпитафии кажутся смешными, но мне нет, особенно когда вспомню о том, что под ними покоится. Впрочем, я не прошу вас разделять мое мнение: если моя выходка вам кажется смешна – пожалуйста, смейтесь: предупреждаю вас, что это меня не огорчит нимало.
В эту минуту я встретил ее глаза: в них бегали слезы; рука ее, опираясь на мою, дрожала; щеки пылали; ей было жаль меня! Сострадание – чувство, которому покоряются так легко все женщины, впустило свои когти в ее неопытное сердце. Во все время прогулки она была рассеянна, ни с кем не кокетничала, – а это великий признак!
Мы пришли к привалу; дамы оставили своих кавалеров, но она не покидала руки моей. Остроты здешних денди ее не смешили; крутизна обрыва, у которого она стояла, ее не пугала, тогда как другие барышни пищали и закрывали глаза.
На возвратном пути я не возобновлял нашего печального разговора; но на пустые мои вопросы и шутки она отвечала коротко и рассеянно.
– Любили ли вы? – спросил я ее наконец.
Она посмотрела на меня пристально, покачала головой – и опять впала в задумчивость: явно было, что ей хотелось что-то сказать, но она не знала, с чего начать; ее грудь волновалась… Как быть! кисейный рукав слабая защита, и электрическая искра пробежала из моей руки в ее руку; все почти страсти начинаются так, и мы часто себя очень обманываем, думая, что нас женщина любит за наши физические или нравственные достоинства; конечно, они приготовляют ее сердце к принятию священного огня, а все-таки первое прикосновение решает дело.
– Не правда ли, я была очень любезна сегодня? – сказала мне княжна с принужденной улыбкой, когда мы возвратились с гулянья.
Мы расстались.
Она недовольна собой: она себя обвиняет в холодности… о, это первое, главное торжество! Завтра она захочет вознаградить меня. Я все это уж знаю наизусть – вот что скучно!
Нынче я видел Веру. Она замучила меня своею ревностью. Княжна вздумала, кажется, ей поверять свои сердечные тайны: надо признаться, удачный выбор!
– Я отгадываю, к чему все это клонится, – говорила мне Вера, – лучше скажи мне просто теперь, что ты ее любишь.
– Но если я ее не люблю?
– То зачем же ее преследовать, тревожить, волновать ее воображение?.. О, я тебя хорошо знаю! Послушай, если ты хочешь, чтоб я тебе верила, то приезжай через неделю в Кисловодск; послезавтра мы переезжаем туда. Княгиня остается здесь дольше. Найми квартиру рядом; мы будем жить в большом доме близ источника, в мезонине; внизу княгиня Лиговская, а рядом есть дом того же хозяина, который еще не занят… Приедешь?..
Я обещал – и тот же день послал занять эту квартиру.
Грушницкий пришел ко мне в шесть часов вечера и объявил, что завтра будет готов его мундир, как раз к балу.
– Наконец я буду с нею танцевать целый вечер… Вот наговорюсь! – прибавил он.
– Когда же бал?
– Да завтра! Разве не знаешь? Большой праздник, и здешнее начальство взялось его устроить…
– Пойдем на бульвар…
– Ни за что, в этой гадкой шинели…
– Как, ты ее разлюбил?..
Я ушел один и, встретив княжну Мери, позвал ее на мазурку. Она казалась удивлена и обрадована.
– Я думала, что вы танцуете только по необходимости, как прошлый раз, – сказала она, очень мило улыбаясь…
Она, кажется, вовсе не замечает отсутствия Грушницкого.
– Вы будете завтра приятно удивлены, – сказал я ей.
– Это секрет… на бале вы сами догадаетесь.
Я окончил вечер у княгини; гостей не было, кроме Веры и одного презабавного старичка. Я был в духе, импровизировал разные необыкновенные истории; княжна сидела против меня и слушала мой вздор с таким глубоким, напряженным, даже нежным вниманием, что мне стало совестно. Куда девалась ее живость, ее кокетство, ее капризы, ее дерзкая мина, презрительная улыбка, рассеянный взгляд?..
Вера все это заметила: на ее болезненном лице изображалась глубокая грусть; она сидела в тени у окна, погружаясь в широкие кресла… Мне стало жаль ее…
Тогда я рассказал всю драматическую историю нашего знакомства с нею, нашей любви, – разумеется, прикрыв все это вымышленными именами.
Я так живо изобразил мою нежность, мои беспокойства, восторги; я в таком выгодном свете выставил ее поступки, характер, что она поневоле должна была простить мне мое кокетство с княжной.
Она встала, подсела к нам, оживилась… и мы только в два часа ночи вспомнили, что доктора велят ложиться спать в одиннадцать.
За полчаса до бала явился ко мне Грушницкий полном сиянии армейского пехотного мундира. К третьей пуговице пристегнута была бронзовая цепочка, на которой висел двойной лорнет; эполеты неимоверной величины были загнуты кверху в виде крылышек амура; сапоги его скрипели; в левой руке держал он коричневые лайковые перчатки и фуражку, а правою взбивал ежеминутно в мелкие кудри завитой хохол. Самодовольствие и вместе некоторая неуверенность изображались на его лице; его праздничная наружность, его гордая походка заставили бы меня расхохотаться, если б это было согласно с моими намерениями.
Он бросил фуражку с перчатками на стол и начал обтягивать фалды и поправляться перед зеркалом; черный огромный платок, навернутый на высочайший подгалстушник, которого щетина поддерживала его подбородок, высовывался на полвершка из-за воротника; ему показалось мало: он вытащил его кверху до ушей; от этой трудной работы, ибо воротник мундира был очень узок и беспокоен, лицо его налилось кровью.
– Ты, говорят, эти дни ужасно волочился за моей княжной? – сказал он довольно небрежно и не глядя на меня.
– Где нам, дуракам, чай пить! – отвечал я ему, повторяя любимую поговорку одного из самых ловких повес прошлого времени, воспетого некогда Пушкиным.
– Скажи-ка, хорошо на мне сидит мундир?.. Ох, проклятый жид!.. как под мышками? режет!.. Нет ли у тебя духов?
– Помилуй, чего тебе еще? от тебя и так уж несет розовой помадой…
– Ничего. Дай-ка сюда…
Он налил себе полсклянки за галстук, в носовой платок, на рукава.
– Ты будешь танцевать? – спросил он.
– Не думаю.
– Я боюсь, что мне с княжной придется начинать мазурку, – я не знаю почти ни одной фигуры…
– А ты звал ее на мазурку?
– Нет еще…
– Смотри, чтоб тебя не предупредили…
– В самом деле? – сказал он, ударив себя по лбу. – Прощай… пойду дожидаться ее у подъезда. – Он схватил фуражку и побежал.
Через полчаса и я отправился. На улице было темно и пусто; вокруг собрания или трактира, как угодно, теснился народ; окна его светились; звуки полковой музыки доносил ко мне вечерний ветер. Я шел медленно; мне было грустно… Неужели, думал я, мое единственное назначение на земле – разрушать чужие надежды? С тех пор как я живу и действую, судьба как-то всегда приводила меня к развязке чужих драм, как будто без меня никто не мог бы ни умереть, ни прийти в отчаяние! Я был необходимое лицо пятого акта; невольно я разыгрывал жалкую роль палача или предателя. Какую цель имела на это судьба?.. Уж не назначен ли я ею в сочинители мещанских трагедий и семейных романов – или в сотрудники поставщику повестей, например, для «Библиотеки для чтения»?.. Почему знать?.. Мало ли людей, начиная жизнь, думают кончить ее, как Александр Великий или лорд Байрон, а между тем целый век остаются титулярными советниками?..
Войдя в залу, я спрятался в толпе мужчин и начал делать свои наблюдения. Грушницкий стоял возле княжны и что-то говорил с большим жаром; она его рассеянно слушала, смотрела по сторонам, приложив веер к губкам; на лице ее изображалось нетерпение, глаза ее искали кругом кого-то; я тихонько подошел сзади, чтоб подслушать их разговор.
– Вы меня мучите, княжна! – говорил Грушницкий, – вы ужасно переменились с тех пор, как я вас не видал…
– Вы также переменились, – отвечала она, бросив на него быстрый взгляд, в котором он не умел разобрать тайной насмешки.
– Я? я переменился?.. О, никогда! Вы знаете, что это невозможно! Кто видел вас однажды, тот навеки унесет с собою ваш божественный образ.
– Перестаньте…
– Отчего же вы теперь не хотите слушать того, чему еще недавно, и так часто, внимали благосклонно?..
– Потому что я не люблю повторений, – отвечала она, смеясь…
– О, я горько ошибся!.. Я думал, безумный, что по крайней мере эти эполеты дадут мне право надеяться… Нет, лучше бы мне век остаться в этой презренной солдатской шинели, которой, может быть, я обязан вашим вниманием…
– В самом деле, вам шинель гораздо более к лицу…
В это время я подошел и поклонился княжне; она немножко покраснела и быстро проговорила:
– Не правда ли, мсье Печорин, что серая шинель гораздо больше идет к мсье Грушницкому?..
– Я с вами не согласен, – отвечал я, – в мундире он еще моложавее.
Грушницкий не вынес этого удара; как все мальчики, он имеет претензию быть стариком; он думает, что на его лице глубокие следы страстей заменяют отпечаток лет. Он на меня бросил бешеный взгляд, топнул ногою и отошел прочь.
– А признайтесь, – сказал я княжне, – что хотя он всегда был очень смешон, но еще недавно он вам казался интересен… в серой шинели?..
Она потупила глаза и не отвечала.
Грушницкий целый вечер преследовал княжну, танцевал или с нею, или вис-e-вис; он пожирал ее глазами, вздыхал и надоедал ей мольбами и упреками. После третьей кадрили она его уж ненавидела.
– Я этого не ожидал от тебя, – сказал он, подойдя ко мне и взяв меня за руку.
– Ты с нею танцуешь мазурку? – спросил он торжественным голосом. – Она мне призналась…
– Ну, так что ж? А разве это секрет?
– Разумеется… Я должен был этого ожидать от девчонки… от кокетки… Уж я отомщу!
– Пеняй на свою шинель или на свои эполеты, а зачем же обвинять ее? Чем она виновата, что ты ей больше не нравишься?..
– Зачем же подавать надежды?
– Зачем же ты надеялся? Желать и добиваться чего-нибудь – понимаю, а кто ж надеется?
– Ты выиграл пари – только не совсем, – сказал он, злобно улыбаясь.
Мазурка началась. Грушницкий выбирал одну только княжну, другие кавалеры поминутно ее выбирали; это явно был заговор против меня; тем лучше: ей хочется говорить со мной, ей мешают, – ей захочется вдвое более.
Я раза два пожал ее руку; во второй раз она ее выдернула, не говоря ни слова.
– Я дурно буду спать эту ночь, – сказала она мне, когда мазурка кончилась.
– Этому виноват Грушницкий.
– О нет! – И лицо ее стало так задумчиво, так грустно, что я дал себе слово в этот вечер непременно поцеловать ее руку.
Стали разъезжаться. Сажая княжну в карету, я быстро прижал ее маленькую ручку к губам своим. Было темно, и никто не мог этого видеть.
Я возвратился в залу очень доволен собой.
За большим столом ужинала молодежь, и между ними Грушницкий. Когда я вошел, все замолчали: видно, говорили обо мне. Многие с прошедшего бала на меня дуются, особенно драгунский капитан, а теперь, кажется, решительно составляется против меня враждебная шайка под командой Грушницкого. У него такой гордый и храбрый вид… Очень рад; я люблю врагов, хотя не по-христиански. Они меня забавляют, волнуют мне кровь. Быть всегда настороже, ловить каждый взгляд, значение каждого слова, угадывать намерения, разрушать заговоры, притворяться обманутым, и вдруг одним толчком опрокинуть все огромное и многотрудное здание их хитростей и замыслов, – вот что я называю жизнью.
В продолжение ужина Грушницкий шептался и перемигивался с драгунским капитаном.
Нынче поутру Вера уехала с мужем в Кисловодск. Я встретил их карету, когда шел к княгине Лиговской. Она мне кивнула головой: во взгляде ее был упрек.
Кто ж виноват? зачем она не хочет дать мне случай видеться с нею наедине? Любовь, как огонь, – без пищи гаснет. Авось ревность сделает то, чего не могли мои просьбы.
Я сидел у княгини битый час. Мери не вышла, – больна. Вечером на бульваре ее не было. Вновь составившаяся шайка, вооруженная лорнетами, приняла в самом деле грозный вид. Я рад, что княжна больна: они сделали бы ей какую-нибудь дерзость. У Грушницкого растрепанная прическа и отчаянный вид; он, кажется, в самом деле огорчен, особенно самолюбие его оскорблено; но ведь есть же люди, в которых даже отчаяние забавно!..
Возвратясь домой, я заметил, что мне чего-то недостает. Я не видал ее! Она больна! Уж не влюбился ли я в самом деле?.. Какой вздор!
В одиннадцать часов утра – час, в который княгиня Лиговская обыкновенно потеет в Ермоловской ванне, – я шел мимо ее дома. Княжна сидела задумчиво у окна; увидев меня, вскочила.
Я вошел в переднюю; людей никого не было, и я без доклада, пользуясь свободой здешних нравов, пробрался в гостиную.
Тусклая бледность покрывала милое лицо княжны. Она стояла у фортепьяно, опершись одной рукой на спинку кресел: эта рука чуть-чуть дрожала; я тихо подошел к ней и сказал:
– Вы на меня сердитесь?..
Она подняла на меня томный, глубокий взор и покачала головой; ее губы хотели проговорить что-то – и не могли; глаза наполнились слезами; она опустилась в кресла и закрыла лицо руками.
– Что с вами? – сказал я, взяв ее руку.
– Вы меня не уважаете!.. О! Оставьте меня!..
Я сделал несколько шагов… Она выпрямилась в креслах, глаза ее засверкали…
Я остановился, взявшись за ручку двери и сказал:
– Простите меня, княжна! Я поступил как безумец… этого в другой раз не случится: я приму свои меры… Зачем вам знать то, что происходило до сих пор в душе моей! Вы этого никогда не узнаете, и тем лучше для вас. Прощайте.
Уходя, мне кажется, я слышал, что она плакала.
Я до вечера бродил пешком по окрестностям Машука, утомился ужасно и, пришедши домой, бросился на постель в совершенном изнеможении.
Ко мне зашел Вернер.
– Правда ли, – спросил он, – что вы женитесь на княжне Лиговской?
– Весь город говорит; все мои больные заняты этой важной новостью, а уж эти больные такой народ: все знают!
«Это шутки Грушницкого!» – подумал я.
– Чтоб вам доказать, доктор, ложность этих слухов, объявляю вам по секрету, что завтра я переезжаю в Кисловодск…
– И княгиня также?..
– Нет, она остается еще на неделю здесь…
– Так вы не женитесь?..
– Доктор, доктор! посмотрите на меня: неужели я похож на жениха или на что-нибудь подобное?
– Я этого не говорю… но вы знаете, есть случаи… – прибавил он, хитро улыбаясь, – в которых благородный человек обязан жениться, и есть маменьки, которые по крайней мере не предупреждают этих случаев… Итак, я вам советую, как приятель, быть осторожнее! Здесь, на водах, преопасный воздух: сколько я видел прекрасных молодых людей, достойных лучшей участи и уезжавших отсюда прямо под венец… Даже, поверите ли, меня хотели женить! Именно, одна уездная маменька, у которой дочь была очень бледна. Я имел несчастие сказать ей, что цвет лица возвратится после свадьбы; тогда она со слезами благодарности предложила мне руку своей дочери и все свое состояние – пятьдесят душ, кажется. Но я отвечал, что я к этому не способен…
Вернер ушел в полной уверенности, что он меня предостерег.
Из слов его я заметил, что про меня и княжну уж распущены в городе разные дурные слухи: это Грушницкому даром не пройдет!
Вот уж три дня, как я в Кисловодске. Каждый день вижу Веру у колодца и на гулянье. Утром, просыпаясь, сажусь у окна и навожу лорнет на ее балкон; она давно уж одета и ждет условного знака; мы встречаемся, будто нечаянно, в саду, который от наших домов спускается к колодцу. Живительный горный воздух возвратил ей цвет лица и силы. Недаром Нарзан называется богатырским ключом. Здешние жители утверждают, что воздух Кисловодска располагает к любви, что здесь бывают развязки всех романов, которые когда-либо начинались у подошвы Машука. И в самом деле, здесь все дышит уединением; здесь все таинственно – и густые сени липовых аллей, склоняющихся над потоком, который с шумом и пеною, падая с плиты на плиту, прорезывает себе путь между зеленеющими горами, и ущелья, полные мглою и молчанием, которых ветви разбегаются отсюда во все стороны, и свежесть ароматического воздуха, отягощенного испарениями высоких южных трав и белой акации, и постоянный, сладостно-усыпительный шум студеных ручьев, которые, встретясь в конце долины, бегут дружно взапуски и наконец кидаются в Подкумок. С этой стороны ущелье шире и превращается в зеленую лощину; по ней вьется пыльная дорога. Всякий раз, как я на нее взгляну, мне все кажется, что едет карета, а из окна кареты выглядывает розовое личико. Уж много карет проехало по этой дороге, – а той все нет. Слободка, которая за крепостью, населилась; в ресторации, построенной на холме, в нескольких шагах от моей квартиры, начинают мелькать вечером огни сквозь двойной ряд тополей; шум и звон стаканов раздается до поздней ночи.
Нигде так много не пьют кахетинского вина и минеральной воды, как здесь.
Но смешивать два эти ремесла
Есть тьма охотников – я не из их числа.
«Но смешивать два эти ремесла Есть тьма охотников – я не из их числа»
– не совсем точная цитата из III действия комедии «Горе от ума».
Грушницкий с своей шайкой бушует каждый день в трактире и со мной почти не кланяется.
Он только вчера приехал, а успел уже поссориться с тремя стариками, которые хотели прежде его сесть в ванну: решительно – несчастия развивают в нем воинственный дух.
Наконец они приехали. Я сидел у окна, когда услышал стук их кареты: у меня сердце вздрогнуло… Что же это такое? Неужто я влюблен? Я так глупо создан, что этого можно от меня ожидать.
Я у них обедал. Княгиня на меня смотрит очень нежно и не отходит от дочери… плохо! Зато Вера ревнует меня к княжне: добился же я этого благополучия! Чего женщина не сделает, чтоб огорчить соперницу! Я помню, одна меня полюбила за то, что я любил другую. Нет ничего парадоксальнее женского ума; женщин трудно убедить в чем-нибудь, надо их довести до того, чтоб они убедили себя сами; порядок доказательств, которыми они уничтожают свои предупреждения, очень оригинален; чтоб выучиться их диалектике, надо опрокинуть в уме своем все школьные правила логики.
Например, способ обыкновенный:
Этот человек любит меня, но я замужем: следовательно, не должна его любить.
Способ женский:
Я не должна его любить, ибо я замужем; но он меня любит, – следовательно…
Тут несколько точек, ибо рассудок уже ничего не говорит, а говорят большею частью: язык, глаза и вслед за ними сердце, если оно имеется.
Что, если когда-нибудь эти записки попадут на глаза женщине? «Клевета!» – закричит она с негодованием.
С тех пор, как поэты пишут и женщины их читают (за что им глубочайшая благодарность), их столько раз называли ангелами, что они в самом деле, в простоте душевной, поверили этому комплименту, забывая, что те же поэты за деньги величали Нерона полубогом…
Не кстати было бы мне говорить о них с такою злостью, – мне, который, кроме их, на свете ничего не любил, – мне, который всегда готов был им жертвовать спокойствием, честолюбием, жизнию… Но ведь я не в припадке досады и оскорбленного самолюбия стараюсь сдернуть с них то волшебное покрывало, сквозь которое лишь привычный взор проникает. Нет, все, что я говорю о них, есть только следствие
Ума холодных наблюдений
И сердца горестных замет.
Ума холодных наблюдений И сердца горестных замет
– строки из посвящения к «Евгению Онегину».
Женщины должны бы желать, чтоб все мужчины их так же хорошо знали, как я, потому что я люблю их во сто раз больше с тех пор, как их не боюсь и постиг их мелкие слабости.
Кстати: Вернер намедни сравнил женщин с заколдованным лесом, о котором рассказывает Тасс в своем «Освобожденном Ерусалиме». «Только приступи, – говорил он, – на тебя полетят со всех сторон такие страхи, что боже упаси: долг, гордость, приличие… Надо только не смотреть, а идти прямо, – мало-помалу чудовища исчезают, и открывается пред тобой тихая и светлая поляна, среди которой цветет зеленый мирт. Зато беда, если на первых шагах сердце дрогнет и обернешься назад!»
Сегодняшний вечер был обилен происшествиями. Верстах в трех от Кисловодска, в ущелье, где протекает Подкумок, есть скала, называемая Кольцом; это – ворота, образованные природой; они подымаются на высоком холме, и заходящее солнце сквозь них бросает на мир свой последний пламенный взгляд. Многочисленная кавалькада отправилась туда посмотреть на закат солнца сквозь каменное окошко. Никто из нас, по правде сказать, не думал о солнце. Я ехал возле княжны; возвращаясь домой, надо было переезжать Подкумок вброд. Горные речки, самые мелкие, опасны, особенно тем, что дно их – совершенный калейдоскоп: каждый день от напора волн оно изменяется; где был вчера камень, там нынче яма. Я взял под уздцы лошадь княжны и свел ее в воду, которая не была выше колен; мы тихонько стали подвигаться наискось против течения. Известно, что, переезжая быстрые речки, не должно смотреть на воду, ибо тотчас голова закружится. Я забыл об этом предварить княжну Мери.
Мы были уж на середине, в самой быстрине, когда она вдруг на седле покачнулась. «Мне дурно!» – проговорила она слабым голосом… Я быстро наклонился к ней, обвил рукою ее гибкую талию. «Смотрите наверх! – шепнул я ей, – это ничего, только не бойтесь; я с вами».
Ей стало лучше; она хотела освободиться от моей руки, но я еще крепче обвил ее нежный мягкий стан; моя щека почти касалась ее щеки; от нее веяло пламенем.
– Что вы со мною делаете? Боже мой!..
Я не обращал внимания на ее трепет и смущение, и губы мои коснулись ее нежной щечки; она вздрогнула, но ничего не сказала; мы ехали сзади; никто не видал. Когда мы выбрались на берег, то все пустились рысью. Княжна удержала свою лошадь; я остался возле нее; видно было, что ее беспокоило мое молчание, но я поклялся не говорить ни слова – из любопытства. Мне хотелось видеть, как она выпутается из этого затруднительного положения.
– Или вы меня презираете, или очень любите! – сказала она наконец голосом, в котором были слезы. – Может быть, вы хотите посмеяться надо мной, возмутить мою душу и потом оставить? Это было бы так подло, так низко, что одно предположение… о нет! не правда ли, – прибавила она голосом нежной доверенности, – не правда ли, во мне нет ничего такого, что бы исключало уважение? Ваш дерзкий поступок… я должна, я должна вам его простить, потому что позволила… Отвечайте, говорите же, я хочу слышать ваш голос!.. – В последних словах было такое женское нетерпение, что я невольно улыбнулся; к счастию, начинало смеркаться. Я ничего не отвечал.
– Вы молчите? – продолжала она, – вы, может быть, хотите, чтоб я первая вам сказала, что я вас люблю?..
Я молчал…
– Хотите ли этого? – продолжала она, быстро обратясь ко мне… В решительности ее взора и голоса было что-то страшное…
– Зачем? – отвечал я, пожав плечами.
Она ударила хлыстом свою лошадь и пустилась во весь дух по узкой, опасной дороге; это произошло так скоро, что я едва мог ее догнать, и то, когда она уж она присоединилась к остальному обществу. До самого дома она говорила и смеялась поминутно. В ее движениях было что-то лихорадочное; на меня не взглянула ни разу. Все заметили эту необыкновенную веселость. И княгиня внутренно радовалось, глядя на свою дочку; а у дочки просто нервический припадок: она проведет ночь без сна и будет плакать. Эта мысль мне доставляет необъятное наслаждение: есть минуты, когда я понимаю Вампира… «…есть минуты, когда я понимаю Вампира…» – Вампир – герой одноименной повести Дж. У. Полидори, написанной по сюжету, отчасти подсказанному Байроном. А еще слыву добрым малым и добиваюсь этого названия!
Слезши с лошадей, дамы вошли к княгине; я был взволнован и поскакал в горы развеять мысли, толпившиеся в голове моей. Росистый вечер дышал упоительной прохладой. Луна подымалась из-за темных вершин. Каждый шаг моей некованой лошади глухо раздавался в молчании ущелий; у водопада я напоил коня, жадно вдохнул в себя раза два свежий воздух южной ночи и пустился в обратный путь. Я ехал через слободку. Огни начинали угасать в окнах; часовые на валу крепости и казаки на окрестных пикетах протяжно перекликались…
В одном из домов слободки, построенном на краю обрыва, заметил я чрезвычайное освещение; по временам раздавался нестройный говор и крики, изобличавшие военную пирушку. Я слез и подкрался к окну; неплотно притворенный ставень позволил мне видеть пирующих и расслышать их слова. Говорили обо мне.
Драгунский капитан, разгоряченный вином, ударил по столу кулаком, требуя внимания.
– Господа! – сказал он, – это ни на что не похоже. Печорина надо проучить! Эти петербургские слетки всегда зазнаются, пока их не ударишь по носу! Он думает, что он только один и жил в свете, оттого что носит всегда чистые перчатки и вычищенные сапоги.
– И что за надменная улыбка! А я уверен между тем, что он трус, – да, трус!
– Я думаю тоже, – сказал Грушницкий. – Он любит отшучиваться. Я раз ему таких вещей наговорил, что другой бы меня изрубил на месте, а Печорин все обратил в смешную сторону. Я, разумеется, его не вызвал, потому что это было его дело; да не хотел и связываться…
– Грушницкий на него зол за то, что он отбил у него княжну, – сказал кто-то.
– Вот еще что вздумали! Я, правда, немножко волочился за княжной, да и тотчас отстал, потому что не хочу жениться, а компрометировать девушку не в моих правилах.
– Да я вас уверяю, что он первейший трус, то есть Печорин, а не Грушницкий, – о, Грушницкий молодец, и притом он мой истинный друг! – сказал опять драгунский капитан. – Господа! никто здесь его не защищает? Никто? тем лучше! Хотите испытать его храбрость? Это нас позабавит…
– Хотим; только как?
– А вот слушайте: Грушницкий на него особенно сердит – ему первая роль! Он придерется к какой-нибудь глупости и вызовет Печорина на дуэль… Погодите; вот в этом-то и штука… Вызовет на дуэль: хорошо! Все это – вызов, приготовления, условия – будет как можно торжественнее и ужаснее, – я за это берусь; я буду твоим секундантом, мой бедный друг! Хорошо! Только вот где закорючка: в пистолеты мы не положим пуль. Уж я вам отвечаю, что Печорин струсит – на шести шагах их поставлю, черт возьми! Согласны ли, господа?
– Славно придумано! согласны! почему же нет? – раздалось со всех сторон.
– А ты, Грушницкий?
Я с трепетом ждал ответ Грушницкого; холодная злость овладела мною при мысли, что если б не случай, то я мог бы сделаться посмешищем этих дураков. Если б Грушницкий не согласился, я бросился б ему на шею. Но после некоторого молчания он встал с своего места, протянул руку капитану и сказал очень важно: «Хорошо, я согласен».
Трудно описать восторг всей честной компании.
Я вернулся домой, волнуемый двумя различными чувствами. Первое было грусть. «За что они все меня ненавидят? – думал я. – За что? Обидел ли я кого-нибудь? Нет. Неужели я принадлежу к числу тех людей, которых один вид уже порождает недоброжелательство?» И я чувствовал, что ядовитая злость мало-помалу наполняла мою душу. «Берегись, господин Грушницкий! – говорил я, прохаживаясь взад и вперед по комнате. – Со мной этак не шутят. Вы дорого можете заплатить за одобрение ваших глупых товарищей. Я вам не игрушка!..»
Я не спал всю ночь. К утру я был желт, как померанец.
Поутру я встретил княжну у колодца.
– Вы больны? – сказала она, пристально посмотрев на меня.
– Я не спал ночь.
– И я также… я вас обвиняла… может быть, напрасно? Но объяснитесь, я могу вам простить все…
– Все ли?..
– Все… только говорите правду… только скорее… Видите ли, я много думала, старалась объяснить, оправдать ваше поведение; может быть, вы боитесь препятствий со стороны моих родных… это ничего; когда они узнают… (ее голос задрожал) я их упрошу. Или ваше собственное положение… но знайте, что я всем могу пожертвовать для того, которого люблю… О, отвечайте скорее, сжальтесь… Вы меня не презираете, не правда ли? Она схватила меня за руки. Княгиня шла впереди нас с мужем Веры и ничего не видала; но нас могли видеть гуляющие больные, самые любопытные сплетники из всех любопытных, и я быстро освободил свою руку от ее страстного пожатия.
– Я вам скажу всю истину, – отвечал я княжне, – не буду оправдываться, ни объяснять своих поступков; я вас не люблю…
Ее губы слегка побледнели…
– Оставьте меня, – сказала она едва внятно.
Я пожал плечами, повернулся и ушел.
Я иногда себя презираю… не оттого ли я презираю и других?.. Я стал не способен к благородным порывам; я боюсь показаться смешным самому себе. Другой бы на моем месте предложил княжне son coeur et sa fortuneруку и сердце (франц.). ; но надо мною слово жениться имеет какую-то волшебную власть: как бы страстно я ни любил женщину, если она мне даст только почувствовать, что я должен на ней жениться, – прости любовь! мое сердце превращается в камень, и ничто его не разогреет снова. Я готов на все жертвы, кроме этой; двадцать раз жизнь свою, даже честь поставлю на карту… но свободы моей не продам. Отчего я так дорожу ею? что мне в ней?.. куда я себя готовлю? чего я жду от будущего?.. Право, ровно ничего. Это какой-то врожденный страх, неизъяснимое предчувствие… Ведь есть люди, которые безотчетно боятся пауков, тараканов, мышей… Признаться ли?.. Когда я был еще ребенком, одна старуха гадала про меня моей матери; она мне предсказала мне смерть от злой жены; это меня тогда глубоко поразило; в душе моей родилось непреодолимое отвращение к женитьбе… Между тем что-то мне говорит, что ее предсказание сбудется; по крайней мере буду стараться, чтоб оно сбылось как можно позже.
Вчера приехал сюда фокусник Апфельбаум. На дверях ресторации явилась длинная афишка, извещающая почтеннейшую публику о том, что вышеименованный удивительный фокусник, акробат, химик и оптик будет иметь честь дать великолепное представление сегодняшнего числа в восемь часов вечера, в зале Благородного собрания (иначе – в ресторации); билеты по два рубля с полтиной.
Все собираются идти смотреть удивительного фокусника; даже княгиня Лиговская, несмотря на то, что дочь ее больна, взяла для себя билет.
Нынче после обеда я шел мимо окон Веры; она сидела на балконе одна; к ногам моим упала записка:
«Сегодня в десятом часу вечера приходи ко мне по большой лестнице; муж мой уехал в Пятигорск и завтра утром только вернется. Моих людей и горничных не будет в доме: я им всем раздала билеты, также и людям княгини. Я жду тебя; приходи непременно».
«А-га! – подумал я, – наконец-таки вышло по-моему».
В восемь часов пошел я смотреть фокусника. Публика собралась в исходе девятого; представление началось. В задних рядах стульев узнал я лакеев и горничных Веры и княгини. Все были тут наперечет. Грушницкий сидел в первом ряду с лорнетом. Фокусник обращался к нему всякий раз, как ему нужен был носовой платок, часы, кольцо и прочее.
Грушницкий мне не кланяется уж несколько времени, а нынче раза два посмотрел на меня довольно дерзко. Все это ему припомнится, когда нам придется расплачиваться.
В исходе десятого я встал и вышел.
На дворе было темно, хоть глаз выколи. Тяжелые, холодные тучи лежали на вершинах окрестных гор: лишь изредка умирающий ветер шумел вершинами тополей, окружающих ресторацию; у окон ее толпился народ. Я спустился с горы, и повернув в ворота, прибавил шагу. Вдруг мне показалось, что кто-то идет за мной. Я остановился и осмотрелся. В темноте ничего нельзя было разобрать; однако я из осторожности обошел, будто гуляя, вокруг дома. Проходя мимо окон княжны, я услышал снова шаги за собою; человек, завернутый в шинель, пробежал мимо меня. Это меня встревожило; однако я прокрался к крыльцу и поспешно взбежал на темную лестницу. Дверь отворилась; маленькая ручка схватила мою руку…
– Никто тебя не видал? – сказала шепотом Вера, прижавшись ко мне.
– Теперь ты веришь ли, что я тебя люблю? О, я долго колебалась, долго мучилась… но ты из меня делаешь все, что хочешь.
Ее сердце сильно билось, руки были холодны как лед. Начались упреки ревности, жалобы, – она требовала от меня, чтоб я ей во всем признался, говоря, что она с покорностью перенесет мою измену, потому что хочет единственно моего счастия. Я этому не совсем верил, но успокоил ее клятвами, обещаниями и прочее.
– Так ты не женишься на Мери? не любишь ее?.. А она думает… знаешь ли, она влюблена в тебя до безумия, бедняжка!..
* * *
Около двух часов пополуночи я отворил окно и, связав две шали, спустился с верхнего балкона на нижний, придерживаясь за колонну. У княжны еще горел огонь. Что-то меня толкнуло к этому окну. Занавес был не совсем задернут, и я мог бросить любопытный взгляд во внутренность комнаты. Мери сидела на своей постели, скрестив на коленях руки; ее густые волосы были собраны под ночным чепчиком, обшитым кружевами; большой пунцовый платок покрывал ее белые плечики, ее маленькие ножки прятались в пестрых персидских туфлях. Она сидела неподвижно, опустив голову на грудь; пред нею на столике была раскрыта книга, но глаза ее, неподвижные и полные неизъяснимой грусти, казалось, в сотый раз пробегали одну и ту же страницу, тогда как мысли ее были далеко…
В эту минуту кто-то шевельнулся за кустом. Я спрыгнул с балкона на дерн. Невидимая рука схватила меня за плечо.
– Держи его крепче! – закричал другой, выскочивший из-за угла.
Это были Грушницкий и драгунский капитан.
Я ударил последнего по голове кулаком, сшиб его с ног и бросился в кусты. Все тропинки сада, покрывавшего отлогость против наших домов, были мне известны.
– Воры! караул!.. – кричали они; раздался ружейный выстрел; дымящийся пыж упал почти к моим ногам.
Через минуту я был уже в своей комнате, разделся и лег. Едва мой лакей запер дверь на замок, как ко мне начали стучаться Грушницкий и капитан.
– Печорин! вы спите? здесь вы?..– закричал капитан.
– Вставайте! – воры… черкесы…
– У меня насморк, – отвечал я, – боюсь простудиться.
Они ушли. Напрасно я им откликнулся: они б еще с час проискали меня в саду. Тревога между тем сделалась ужасная. Из крепости прискакал казак. Все зашевелилось; стали искать черкесов во всех кустах – и, разумеется, ничего не нашли. Но многие, вероятно, остались в твердом убеждении, что если б гарнизон показал более храбрости и поспешности, то по крайней мере десятка два хищников остались бы на месте.
Нынче поутру у колодца только и было толков, что о ночном нападении черкесов. Выпивши положенное число стаканов нарзана, пройдясь раз десять по длинной липовой аллее, я встретил мужа Веры, который только что приехал из Пятигорска. Он взял меня под руку, и мы пошли в ресторацию завтракать; он ужасно беспокоился о жене. «Как она перепугалась нынче ночью! – говорил он, – ведь надобно ж, чтоб это случилось именно тогда, как я в отсутствии». Мы уселись завтракать возле двери, ведущей в угловую комнату, где находилось человек десять молодежи, в числе которых был и Грушницкий. Судьба вторично доставила мне случай подслушать разговор, который должен был решить его участь. Он меня не видал, и, следственно, я не мог подозревать умысла; но это только увеличивало его вину в моих глазах.
– Да неужели в самом деле это были черкесы? – сказал кто-то, – видел ли их кто-нибудь?
– Я вам расскажу всю историю, – отвечал Грушницкий, – только, пожалуйста, не выдавайте меня; вот как это было: вчерась один человек, которого я вам не назову, приходит ко мне и рассказывает, что видел в десятом часу вечера, как кто-то прокрался в дом к Лиговским. Надо вам заметить, что княгиня была здесь, а княжна дома. Вот мы с ним и отправились под окна, чтоб подстеречь счастливца.
Признаюсь, я испугался, хотя мой собеседник очень был занят своим завтраком: он мог услышать вещи для себя довольно неприятные, если б неравно Грушницкий отгадал истину; но ослепленный ревностью, он и не подозревал ее.
– Вот видите ли, – продолжал Грушницкий, – мы и отправились, взявши с собой ружье, заряженное холостым патроном, только так, чтобы попугать. До двух часов ждали в саду. Наконец – уж бог знает откуда он явился, только не из окна, потому что оно не отворялось, а должно быть, он вышел в стеклянную дверь, что за колонной, – наконец, говорю я, видим мы, сходит кто-то с балкона… Какова княжна? а? Ну, уж признаюсь, московские барышни! после этого чему же можно верить? Мы хотели его схватить, только он вырвался и, как заяц, бросился в кусты; тут я по нем выстрелил.
Вокруг Грушницкого раздался ропот недоверчивости.
– Вы не верите? – продолжал он, – даю вам честное благородное слово, что все это сущая правда, и в доказательство я вам, пожалуй, назову этого господина.
– Скажи, скажи, кто ж он! – раздалось со всех сторон.
– Печорин, – отвечал Грушницкий.
В эту минуту он поднял глаза – я стоял в дверях против него; он ужасно покраснел. Я подошел к нему и сказал медленно и внятно:
– Мне очень жаль, что я вошел после того, как вы уж дали честное слово в подтверждение самой отвратительной клеветы. Мое присутствие избавило бы вас от лишней подлости.
Грушницкий вскочил с своего места и хотел разгорячиться.
– Прошу вас, – продолжал я тем же тоном, – прошу вас сейчас же отказаться от ваших слов; вы очень хорошо знаете, что это выдумка. Я не думаю, чтобы равнодушие женщины к вашим блестящим достоинствам заслуживало такое ужасное мщение. Подумайте хорошенько: поддерживая ваше мнение, вы теряете право на имя благородного человека и рискуете жизнью.
Грушницкий стоял передо мною, опустив глаза, в сильном волнении. Но борьба совести с самолюбием была непродолжительна. Драгунский капитан, сидевший возле него, толкнул его локтем; он вздрогнул и быстро отвечал мне, не поднимая глаз:
– Милостивый государь, когда я что говорю, так я это думаю и готов повторить… Я не боюсь ваших угроз и готов на все…
– Последнее вы уж доказали, – отвечал я ему холодно и, взяв под руку драгунского капитана, вышел из комнаты.
– Что вам угодно? – спросил капитан.
– Вы приятель Грушницкого – и, вероятно, будете его секундантом?
Капитан поклонился очень важно.
– Вы отгадали, – отвечал он, – я даже обязан быть его секундантом, потому что обида, нанесенная ему, относится и ко мне: я был с ним вчера ночью, – прибавил он, выпрямляя свой сутуловатый стан.
– А! так это вас ударил я так неловко по голове?
Он пожелтел, посинел; скрытая злоба изобразилась на лице его.
– Я буду иметь честь прислать к вам нониче моего секунданта, – прибавил я, раскланявшись очень вежливо и показывая вид, будто не обращаю внимания на его бешенство.
На крыльце ресторации я встретил мужа Веры. Кажется, он меня дожидался.
Он схватил мою руку с чувством, похожим на восторг.
– Благородный молодой человек! – сказал он, с слезами на глазах. – Я все слышал. Экой мерзавец! неблагодарный!.. Принимай их после этого в порядочный дом! Слава богу, у меня нет дочерей! Но вас наградит та, для которой вы рискуете жизнью. Будьте уверены в моей скромности до поры до времени, – продолжал он. – Я сам был молод и служил в военной службе: знаю, что в эти дела не должно вмешиваться. Прощайте.
Бедняжка! радуется, что у него нет дочерей…
Я пошел прямо к Вернеру, застал его дома и рассказал ему все – отношения мои к Вере и княжне и разговор, подслушанный мною, из которого я узнал намерение этих господ подурачить меня, заставив стреляться холостыми зарядами. Но теперь дело выходило их границ шутки: они, вероятно, не ожидали такой развязки. Доктор согласился быть моим секундантом; я дал ему несколько наставлений насчет условий поединка; он должен был настоять на том, чтобы дело обошлось как можно секретнее, потому что хотя я когда угодно готов подвергать себя смерти, но нимало не расположен испортить навсегда свою будущность в здешнем мире.
После этого я пошел домой. Через час доктор вернулся из своей экспедиции.
– Против вас точно есть заговор, – сказал он. – Я нашел у Грушницкого драгунского капитана и еще одного господина, которого фамилии не помню. Я на минуту остановился в передней, чтоб снять галоши. У них был ужасный шум и спор… «Ни за что не соглашусь! – говорил Грушницкий, – он меня оскорбил публично; тогда было совсем другое…» – «Какое тебе дело? – отвечал капитан, – я все беру на себя. Я был секундантом на пяти дуэлях и уж знаю, как это устроить. Я все придумал. Пожалуйста, только мне не мешай. Постращать не худо. А зачем подвергать себя опасности, если можно избавиться?..» В эту минуту я взошел. Они замолчали. Переговоры наши продолжались довольно долго; наконец мы решили дело вот как: верстах в пяти отсюда есть глухое ущелье; они туда поедут завтра в четыре часа утра, а мы выедем полчаса после них; стреляться будете на шести шагах – этого требовал Грушницкий. Убитого – на счет черкесов. Теперь вот какие у меня подозрения: они, то есть секунданты, должно быть, несколько переменили свой прежний план и хотят зарядить пулею один пистолет Грушницкого. Это немножко похоже на убийство, но в военное время, и особенно в азиатской войне, хитрости позволяются; только Грушницкий, кажется, поблагороднее своих товарищей. Как вы думаете? Должны ли мы показать им, что догадались?
– Ни за что на свете, доктор! будьте спокойны, я им не поддамся.
– Что же вы хотите делать?
– Это моя тайна.
– Смотрите не попадитесь… ведь на шести шагах!
– Доктор, я вас жду завтра в четыре часа; лошади будут готовы… Прощайте.
Я до вечера просидел дома, запершись в своей комнате. Приходил лакей звать меня к княгине, – я велел сказать, что болен.
* * *
Два часа ночи… не спится… А надо бы заснуть, чтоб завтра рука не дрожала. Впрочем, на шести шагах промахнуться трудно. А! господин Грушницкий! ваша мистификация вам не удастся… мы поменяемся ролями: теперь мне придется отыскивать на вашем бледном лице признаки тайного страха. Зачем вы сами назначили эти роковые шесть шагов? Вы думаете, что я вам без спора подставлю свой лоб… но мы бросим жребий!.. и тогда… тогда… что, если его счастье перетянет? если моя звезда наконец мне изменит?.. И не мудрено: она так долго служила верно моим прихотям; на небесах не более постоянства, чем на земле.
Что ж? умереть так умереть! потеря для мира небольшая; да и мне самому порядочно уж скучно. Я – как человек, зевающий на бале, который не едет спать только потому, что еще нет его кареты. Но карета готова… прощайте!..
Пробегаю в памяти все мое прошедшее и спрашиваю себя невольно: зачем я жил? для какой цели я родился?.. А, верно, она существовала, и, верно, было мне назначение высокое, потому что я чувствую в душе моей силы необъятные… Но я не угадал этого назначения, я увлекся приманками страстей пустых и неблагодарных; из горнила их я вышел тверд и холоден, как железо, но утратил навеки пыл благородных стремлений – лучший свет жизни. И с той поры сколько раз уже я играл роль топора в руках судьбы! Как орудие казни, я упадал на голову обреченных жертв, часто без злобы, всегда без сожаления… Моя любовь никому не принесла счастья, потому что я ничем не жертвовал для тех, кого любил: я любил для себя, для собственного удовольствия: я только удовлетворял странную потребность сердца, с жадностью поглощая их чувства, их радости и страданья – и никогда не мог насытиться. Так, томимый голодом в изнеможении засыпает и видит перед собой роскошные кушанья и шипучие вина; он пожирает с восторгом воздушные дары воображения, и ему кажется легче; но только проснулся – мечта исчезает… остается удвоенный голод и отчаяние!
И, может быть, я завтра умру!.. и не останется на земле ни одного существа, которое бы поняло меня совершенно. Одни почитают меня хуже, другие лучше, чем я в самом деле… Одни скажут: он был добрый малый, другие – мерзавец. И то и другое будет ложно. После этого стоит ли труда жить? а все живешь – из любопытства: ожидаешь чего-то нового… Смешно и досадно!
Вот уже полтора месяца, как я в крепости N; Максим Максимыч ушел на охоту… я один; сижу у окна; серые тучи закрыли горы до подошвы; солнце сквозь туман кажется желтым пятном. Холодно; ветер свищет и колеблет ставни… Скучно! Стану продолжать свой журнал, прерванный столькими странными событиями.
Перечитываю последнюю страницу: смешно! Я думал умереть; это было невозможно: я еще не осушил чаши страданий, и теперь чувствую, что мне еще долго жить.
Как все прошедшее ясно и резко отлилось в моей памяти! Ни одной черты, ни одного оттенка не стерло время!
Я помню, что в продолжение ночи, предшествовавшей поединку, я не спал ни минуты. Писать я не мог долго: тайное беспокойство мною овладело. С час я ходил по комнате; потом сел и открыл роман Вальтера Скотта, лежавший у меня на столе: то были «Шотландские пуритане»; я читал сначала с усилием, потом забылся, увлеченный волшебным вымыслом… Неужели шотландскому барду на том свете не платят за каждую отрадную минуту, которую дарит его книга?..
Наконец рассвело. Нервы мои успокоились. Я посмотрелся в зеркало; тусклая бледность покрывала лицо мое, хранившее следы мучительной бессонницы; но глаза, хотя окруженные коричневою тенью, блистали гордо и неумолимо. Я остался доволен собою.
Велев седлать лошадей, я оделся и сбежал к купальне. Погружаясь в холодный кипяток нарзана, я чувствовал, как телесные и душевные силы мои возвращались. Я вышел из ванны свеж и бодр, как будто собирался на бал. После этого говорите, что душа не зависит от тела!..
Возвратясь, я нашел у себя доктора. На нем были серые рейтузы, архалук и черкесская шапка. Я расхохотался, увидев эту маленькую фигурку под огромной косматой шапкой: у него лицо вовсе не воинственное, а в этот раз оно было еще длиннее обыкновенного.
– Отчего вы так печальны, доктор? – сказал я ему. – Разве вы сто раз не провожали людей на тот свет с величайшим равнодушием? Вообразите, что у меня желчная горячка; я могу выздороветь, могу и умереть; то и другое в порядке вещей; старайтесь смотреть на меня, как на пациента, одержимого болезнью, вам еще неизвестной, – и тогда ваше любопытство возбудится до высшей степени; вы можете надо мною сделать теперь несколько важных физиологических наблюдений… Ожидание насильственной смерти не есть ли уже настоящая болезнь?
Эта мысль поразила доктора, и он развеселился.
Мы сели верхом; Вернер уцепился за поводья обеими руками, и мы пустились, – мигом проскакали мимо крепости через слободку и въехали в ущелье, по которому вилась дорога, полузаросшая высокой травой и ежеминутно пересекаемая шумным ручьем, через который нужно было переправляться вброд, к великому отчаянию доктора, потому что лошадь его каждый раз в воде останавливалась.
Я не помню утра более голубого и свежего! Солнце едва выказалось из-за зеленых вершин, и слияние теплоты его лучей с умирающей прохладой ночи наводило на все чувства какое-то сладкое томление; в ущелье не проникал еще радостный луч молодого дня; он золотил только верхи утесов, висящих с обеих сторон над нами; густолиственные кусты, растущие в их глубоких трещинах, при малейшем дыхании ветра осыпали нас серебряным дождем. Я помню – в этот раз, больше чем когда-нибудь прежде, я любил природу. Как любопытно всматриваться каждую росинку, трепещущую на широком листке виноградном и отражавшую миллионы радужных лучей! как жадно взор мой старался проникнуть в дымную даль! Там путь все становился уже, утесы синее и страшнее, и, наконец, они, казалось, сходились непроницаемою стеной. Мы ехали молча.
– Написали ли вы свое завещание? – вдруг спросил Вернер.
– А если будете убиты?..
– Наследники отыщутся сами.
– Неужели у вас нет друзей, которым бы вы хотели послать свое последнее прости?..
Я покачал головой.
– Неужели нет на свете женщины, которой вы хотели бы оставить что-нибудь на память?..
– Хотите ли, доктор, – отвечал я ему, – чтоб я раскрыл вам мою душу?.. Видите ли, я выжил из тех лет, когда умирают, произнося имя своей любезной и завещая другу клочок напомаженных или ненапомаженных волос. Думая о близкой и возможной смерти, я думаю об одном себе: иные не делают и этого. Друзья, которые завтра меня забудут или, хуже, возведут на мой счет бог знает какие небылицы; женщины, которые, обнимая другого, будут смеяться надо мною, чтоб не возбудить в нем ревности к усопшему, – бог с ними! Из жизненной бури я вынес только несколько идей – и ни одного чувства. Я давно уж живу не сердцем, а головою. Я взвешиваю, разбираю свои собственные страсти и поступки с строгим любопытством, но без участия. Во мне два человека: один живет в полном смысле этого слова, другой мыслит и судит его; первый, быть может, через час простится с вами и миром навеки, а второй… второй? Посмотрите, доктор: видите ли вы, на скале направо чернеются три фигуры? Это, кажется, наши противники?..
Мы пустились рысью.
У подошвы скалы в кустах были привязаны три лошади; мы своих привязали тут же, а сами по узкой тропинке взобрались на площадку, где ожидал нас Грушницкий с драгунским капитаном и другим своим секундантом, которого звали Иваном Игнатьевичем; фамилии его я никогда не слыхал.
– Мы давно уж вас ожидаем, – сказал драгунский капитан с иронической улыбкой.
Я вынул часы и показал ему.
Он извинился, говоря, что его часы уходят.
Несколько минут продолжалось затруднительное молчание; наконец доктор прервал его, обратясь к Грушницкому.
– Мне кажется, – сказал он, – что, показав оба готовность драться и заплатив этим долг условиям чести, вы бы могли, господа, объясниться и кончить это дело полюбовно.
– Я готов, – сказал я.
Капитан мигнул Грушницкому, и этот, думая, что я трушу, принял гордый вид, хотя до сей минуты тусклая бледность покрывала его щеки. С тех пор как мы приехали, он в первый раз поднял на меня глаза; но во взгляде его было какое-то беспокойство, изобличавшее внутреннюю борьбу.
– Объясните ваши условия, – сказал он, – и все, что я могу для вас сделать, то будьте уверены…
– Вот мои условия: вы нынче же публично откажетесь от своей клеветы и будете просить у меня извинения…
– Милостивый государь, я удивляюсь, как вы смеете мне предлагать такие вещи?..
– Что ж я вам мог предложить, кроме этого?..
– Мы будем стреляться…
Я пожал плечами.
– Пожалуй; только подумайте, что один из нас непременно будет убит.
– Я желаю, чтобы это были вы…
– А я так уверен в противном…
Он смутился, покраснел, потом принужденно захохотал.
Капитан взял его под руку и отвел в сторону; они долго шептались. Я приехал в довольно миролюбивом расположении духа, но все это начинало меня бесить.
Ко мне подошел доктор.
– Послушайте, – сказал он с явным беспокойством, – вы, верно, забыли про их заговор?.. Я не умею зарядить пистолета, но в этом случае… Вы странный человек! Скажите им, что вы знаете их намерение, и они не посмеют… Что за охота! подстрелят вас как птицу…
– Пожалуйста, не беспокойтесь, доктор, и погодите… Я все так устрою, что на их стороне не будет никакой выгоды. Дайте им пошептаться…
– Господа, это становится скучно! – сказал я им громко, – драться так драться; вы имели время вчера наговориться…
– Мы готовы, – отвечал капитан. – Становитесь, господа!.. Доктор, извольте отмерить шесть шагов…
– Становитесь! – повторил Иван Игнатьич пискливым голосом.
– Позвольте! – сказал я, – еще одно условие: так как мы будем драться насмерть, то мы обязаны сделать все возможное, чтоб это осталось тайною и чтоб секунданты наши не были в ответственности. Согласны ли вы?..
– Совершенно согласны.
– Итак, вот что я придумал. Видите ли на вершине этой отвесной скалы, направо, узенькую площадку? оттуда до низу будет сажен тридцать, если не больше; внизу острые камни. Каждый из нас станет на самом краю площадки; таким образом, даже легкая рана будет смертельна: это должно быть согласно с вашим желанием, потому что вы сами назначили шесть шагов. Тот, кто будет ранен, полетит непременно вниз и разобьется вдребезги; пулю доктор вынет. И тогда можно будет очень легко объяснить эту скоропостижную смерть неудачным прыжком. Мы бросим жребий, кому первому стрелять. Объявляю вам в заключение, что иначе я не буду драться.
– Пожалуй! – сказал драгунский капитан, посмотрев выразительно на Грушницкого, который кивнул головой в знак согласия. Лицо его ежеминутно менялось. Я его поставил в затруднительное положение. Стреляясь при обыкновенных условиях, он мог целить мне в ногу, легко меня ранить и удовлетворить таким образом свою месть, не отягощая слишком своей совести; но теперь он должен был выстрелить на воздух, или сделаться убийцей, или, наконец, оставить свой подлый замысел и подвергнуться одинаковой со мною опасности. В эту минуту я не желал бы быть на его месте. Он отвел капитана в сторону и стал говорить ему что-то с большим жаром; я видел, как посиневшие губы его дрожали; но капитан от него отвернулся с презрительной улыбкой. «Ты дурак! – сказал он Грушницкому довольно громко, – ничего не понимаешь! Отправимтесь же, господа!»
Узкая тропинка вела между кустами на крутизну; обломки скал составляли шаткие ступени этой природной лестницы; цепляясь за кусты, мы стали карабкаться. Грушницкий шел впереди, за ним его секунданты, а потом мы с доктором.
– Я вам удивляюсь, – сказал доктор, пожав мне крепко руку. – Дайте пощупать пульс!.. О-го! лихорадочный!.. но на лице ничего не заметно… только глаза у вас блестят ярче обыкновенного.
Вдруг мелкие камни с шумом покатились нам под ноги. Что это? Грушницкий споткнулся, ветка, за которую он уцепился, изломилась, и он скатился бы вниз на спине, если б его секунданты не поддержали.
– Берегитесь! – закричал я ему, – не падайте заранее; это дурная примета. Вспомните Юлия Цезаря! «Берегитесь! Вспомните Юлия Цезаря!» – Согласно легенде, Юлий Цезарь оступился на пороге по пути в сенат, где он был убит заговорщиками.
Вот мы взобрались на вершину выдавшейся скалы: площадка была покрыта мелким песком, будто нарочно для поединка. Кругом, теряясь в золотом тумане утра, теснились вершины гор, как бесчисленное стадо, и Эльборус на юге вставал белою громадой, замыкая цепь льдистых вершин, между которых уж бродили волокнистые облака, набежавшие с востока. Я подошел к краю площадки и посмотрел вниз, голова чуть-чуть у меня не закружилась, там внизу казалось темно и холодно, как в гробе; мшистые зубцы скал, сброшенных грозою и временем, ожидали своей добычи.
Площадка, на которой мы должны были драться, изображала почти правильный треугольник. От выдавшегося угла отмерили шесть шагов и решили, что тот, кому придется первому встретить неприятельский огонь, станет на самом углу, спиною к пропасти; если он не будет убит, то противники поменяются местами.
Я решился предоставить все выгоды Грушницкому; я хотел испытать его; в душе его могла проснуться искра великодушия, и тогда все устроилось бы к лучшему; но самолюбие и слабость характера должны были торжествовать… Я хотел дать себе полное право не щадить его, если бы судьба меня помиловала. Кто не заключал таких условий с своею совестью?
– Бросьте жребий, доктор! – сказал капитан.
Доктор вынул из кармана серебряную монету и поднял ее кверху.
– Решетка! – закричал Грушницкий поспешно, как человек, которого вдруг разбудил дружеский толчок.
– Орел! – сказал я.
Монета взвилась и упала звеня; все бросились к ней.
– Вы счастливы, – сказал я Грушницкому, – вам стрелять первому! Но помните, что если вы меня не убьете, то я не промахнусь – даю вам честное слово.
Он покраснел; ему было стыдно убить человека безоружного; я глядел на него пристально; с минуту мне казалось, что он бросится к ногам моим, умоляя о прощении; но как признаться в таком подлом умысле?.. Ему оставалось одно средство – выстрелить на воздух; я был уверен, что он выстрелит на воздух! Одно могло этому помешать: мысль, что я потребую вторичного поединка.
– Пора! – шепнул мне доктор, дергая за рукав, – если вы теперь не скажете, что мы знаем их намерения, то все пропало. Посмотрите, он уж заряжает… если вы ничего не скажете, то я сам…
– Ни за что на свете, доктор! – отвечал я, удерживая его за руку, – вы все испортите; вы мне дали слово не мешать… Какое вам дело? Может быть, я хочу быть убит…
Он посмотрел на меня с удивлением.
– О, это другое!.. только на меня на том свете не жалуйтесь…
Капитан между тем зарядил свои пистолеты, подал один Грушницкому, с улыбкою шепнув ему что-то; другой мне.
Я стал на углу площадки, крепко упершись левой ногою в камень и наклонясь немного наперед, чтобы в случае легкой раны не опрокинуться назад.
Грушницкий стал против меня и по данному знаку начал поднимать пистолет. Колени его дрожали. Он целил мне прямо в лоб…
Неизъяснимое бешенство закипело в груди моей.
Вдруг он опустил дуло пистолета и, побледнев как полотно, повернулся к своему секунданту.
– Трус! – отвечал капитан.
Выстрел раздался. Пуля оцарапала мне колено. Я невольно сделал несколько шагов вперед, чтоб поскорей удалиться от края.
– Ну, брат Грушницкий, жаль, что промахнулся! – сказал капитан, – теперь твоя очередь, становись! Обними меня прежде: мы уж не увидимся! – Они обнялись; капитан едва мог удержаться от смеха. – Не бойся, – прибавил он, хитро взглянув на Грушницкого, – все вздор на свете!.. Натура – дура, судьба – индейка, а жизнь – копейка!
После этой трагической фразы, сказанной с приличною важностью, он отошел на свое место; Иван Игнатьич со слезами обнял также Грушницкого, и вот он остался один против меня. Я до сих пор стараюсь объяснить себе, какого роду чувство кипело тогда в груди моей: то было и досада оскорбленного самолюбия, и презрение, и злоба, рождавшаяся при мысли, что этот человек, теперь с такою уверенностью, с такой спокойной дерзостью на меня глядящий, две минуты тому назад, не подвергая себя никакой опасности, хотел меня убить как собаку, ибо раненный в ногу немного сильнее, я бы непременно свалился с утеса.
Я несколько минут смотрел ему пристально в лицо, стараясь заметить хоть легкий след раскаяния. Но мне показалось, что он удерживал улыбку.
– Я вам советую перед смертью помолиться богу, – сказал я ему тогда.
– Не заботьтесь о моей душе больше чем о своей собственной. Об одном вас прошу: стреляйте скорее.
– И вы не отказываетесь от своей клеветы? не просите у меня прощения?.. Подумайте хорошенько: не говорит ли вам чего-нибудь совесть?
– Господин Печорин! – закричал драгунский капитан, – вы здесь не для того, чтоб исповедовать, позвольте вам заметить… Кончимте скорее; неравно кто-нибудь проедет по ущелью – и нас увидят.
– Хорошо, доктор, подойдите ко мне.
Доктор подошел. Бедный доктор! он был бледнее, чем Грушницкий десять минут тому назад.
Следующие слова я произнес нарочно с расстановкой, громко и внятно, как произносят смертный приговор:
– Доктор, эти господа, вероятно, второпях, забыли положить пулю в мой пистолет: прошу вас зарядить его снова, – и хорошенько!
– Не может быть! – кричал капитан, – не может быть! я зарядил оба пистолета; разве что из вашего пуля выкатилась… это не моя вина! – А вы не имеете права перезаряжать… никакого права… это совершенно против правил; я не позволю…
– Хорошо! – сказал я капитану, – если так, то мы будем с вами стреляться на тех же условиях… – Он замялся.
Грушницкий стоял, опустив голову на грудь, смущенный и мрачный.
– Оставь их! – сказал он наконец капитану, который хотел вырвать пистолет мой из рук доктора… – Ведь ты сам знаешь, что они правы.
Напрасно капитан делал ему разные знаки, – Грушницкий не хотел и смотреть.
Между тем доктор зарядил пистолет и подал мне. Увидев это, капитан плюнул и топнул ногой.
– Дурак же ты, братец, – сказал он, – пошлый дурак!.. Уж положился на меня, так слушайся во всем… Поделом же тебе! околевай себе, как муха… – Он отвернулся и, отходя, пробормотал: – А все-таки это совершенно против правил.
– Грушницкий! – сказал я, – еще есть время; откажись от своей клеветы, и я тебе прощу все. Тебе не удалось меня подурачить, и мое самолюбие удовлетворено; – вспомни – мы были когда-то друзьями…
Лицо у него вспыхнуло, глаза засверкали.
– Стреляйте! – отвечал он, – я себя презираю, а вас ненавижу. Если вы меня не убьете, я вас зарежу ночью из-за угла. Нам на земле вдвоем нет места…
Я выстрелил…
Когда дым рассеялся, Грушницкого на площадке не было. Только прах легким столбом еще вился на краю обрыва.
– Finita la comedia!Комедия окончена! (итал.) – сказал я доктору.
Он не отвечал и с ужасом отвернулся.
Я пожал плечами и раскланялся с секундантами Грушницкого.
Спускаясь по тропинке вниз, я заметил между расселинами скал окровавленный труп Грушницкого. Я невольно закрыл глаза… Отвязав лошадь, я шагом пустился домой. У меня на сердце был камень. Солнце казалось мне тускло, лучи его меня не грели.
Не доезжая слободки, я повернул направо по ущелью. Вид человека был бы мне тягостен: я хотел быть один. Бросив поводья и опустив голову на грудь, я ехал долго, наконец очутился в месте, мне вовсе не знакомом; я повернул коня назад и стал отыскивать дорогу; уж солнце садилось, когда я подъехал к Кисловодску, измученный, на измученной лошади.
Лакей мой сказал мне, что заходил Вернер, и подал мне две записки: одну от него, другую… от Веры.
Я распечатал первую, она была следующего содержания:
«Все устроено как можно лучше: тело привезено обезображенное, пуля из груди вынута. Все уверены, что причиною его смерти несчастный случай; только комендант, которому, вероятно, известна ваша ссора, покачал головой, но ничего не сказал. Доказательств против вас нет никаких, и вы можете спать спокойно… если можете… Прощайте…»
Я долго не решался открыть вторую записку… Что могла она мне писать?.. Тяжелое предчувствие волновало мою душу.
Вот оно, это письмо, которого каждое слово неизгладимо врезалось в моей памяти:
«Я пишу к тебе в полной уверенности, что мы никогда больше не увидимся. Несколько лет тому назад, расставаясь с тобою, я думала то же самое; но небу было угодно испытать меня вторично; я не вынесла этого испытания, мое слабое сердце покорилось снова знакомому голосу… ты не будешь презирать меня за это, не правда ли? Это письмо будет вместе прощаньем и исповедью: я обязана сказать тебе все, что накопилось на моем сердце с тех пор, как оно тебя любит. Я не стану обвинять тебя – ты поступил со мною, как поступил бы всякий другой мужчина: ты любил меня как собственность, как источник радостей, тревог и печалей, сменявшихся взаимно, без которых жизнь скучна и однообразна. Я это поняла сначала… Но ты был несчастлив, и я пожертвовала собою, надеясь, что когда-нибудь ты оценишь мою жертву, что когда-нибудь ты поймешь мою глубокую нежность, не зависящую ни от каких условий. Прошло с тех пор много времени: я проникла во все тайны души твоей… и убедилась, что то была надежда напрасная. Горько мне было! Но моя любовь срослась с душой моей: она потемнела, но не угасла.
Мы расстаемся навеки; однако ты можешь быть уверен, что я никогда не буду любить другого: моя душа истощила на тебя все свои сокровища, свои слезы и надежды. Любившая раз тебя не может смотреть без некоторого презрения на прочих мужчин, не потому, чтоб ты был лучше их, о нет! но в твоей природе есть что-то особенное, тебе одному свойственное, что-то гордое и таинственное; в твоем голосе, что бы ты ни говорил, есть власть непобедимая; никто не умеет так постоянно хотеть быть любимым; ни в ком зло не бывает так привлекательно, ничей взор не обещает столько блаженства, никто не умеет лучше пользоваться своими преимуществами и никто не может быть так истинно несчастлив, как ты, потому что никто столько не старается уверить себя в противном.
Теперь я должна тебе объяснить причину моего поспешного отъезда; она тебе покажется маловажна, потому что касается до одной меня.
Нынче поутру мой муж вошел ко мне и рассказал про твою ссору с Грушницким. Видно, я очень переменилась в лице, потому что он долго и пристально смотрел мне в глаза; я едва не упала без памяти при мысли, что ты нынче должен драться и что я этому причиной; мне казалось, что я сойду с ума… но теперь, когда я могу рассуждать, я уверена, что ты останешься жив: невозможно, чтоб ты умер без меня, невозможно! Мой муж долго ходил по комнате; я не знаю, что он мне говорил, не помню, что я ему отвечала… верно, я ему сказала, что я тебя люблю… Помню только, что под конец нашего разговора он оскорбил меня ужасным словом и вышел. Я слышала, как он велел закладывать карету… Вот уж три часа, как я сижу у окна и жду твоего возврата… Но ты жив, ты не можешь умереть!.. Карета почти готова… Прощай, прощай… Я погибла, – но что за нужда?.. Если б я могла быть уверена, что ты всегда меня будешь помнить, – не говорю уж любить, – нет, только помнить… Прощай; идут… я должна спрятать письмо…
Не правда ли, ты не любишь Мери? ты не женишься на ней? Послушай, ты должен мне принести эту жертву: я для тебя потеряла все на свете…»
Я как безумный выскочил на крыльцо, прыгнул на своего Черкеса, которого водили по двору, и пустился во весь дух по дороге в Пятигорск. Я беспощадно погонял измученного коня, который, хрипя и весь в пене, мчал меня по каменистой дороге.
Солнце уже спряталось в черной туче, отдыхавшей на гребне западных гор; в ущелье стало темно и сыро. Подкумок, пробираясь по камням, ревел глухо и однообразно. Я скакал, задыхаясь от нетерпенья. Мысль не застать уже ее в Пятигорске молотком ударяла мне в сердце! – одну минуту, еще одну минуту видеть ее, проститься, пожать ей руку… Я молился, проклинал плакал, смеялся… нет, ничто не выразит моего беспокойства, отчаяния!.. При возможности потерять ее навеки Вера стала для меня дороже всего на свете – дороже жизни, чести, счастья! Бог знает, какие странные, какие бешеные замыслы роились в голове моей… И между тем я все скакал, погоняя беспощадно. И вот я стал замечать, что конь мой тяжелее дышит; он раза два уж спотыкнулся на ровном месте… Оставалось пять верст до Ессентуков – казачьей станицы, где я мог пересесть на другую лошадь.
Все было бы спасено, если б у моего коня достало сил еще на десять минут! Но вдруг поднимаясь из небольшого оврага, при выезде из гор, на крутом повороте, он грянулся о землю. Я проворно соскочил, хочу поднять его, дергаю за повод – напрасно: едва слышный стон вырвался сквозь стиснутые его зубы; через несколько минут он издох; я остался в степи один, потеряв последнюю надежду; попробовал идти пешком – ноги мои подкосились; изнуренный тревогами дня и бессонницей, я упал на мокрую траву и как ребенок заплакал.
И долго я лежал неподвижно и плакал горько, не стараясь удерживать слез и рыданий; я думал, грудь моя разорвется; вся моя твердость, все мое хладнокровие – исчезли как дым. Душа обессилела, рассудок замолк, и если б в эту минуту кто-нибудь меня увидел, он бы с презрением отвернулся.
Когда ночная роса и горный ветер освежили мою горячую голову и мысли пришли в обычный порядок, то я понял, что гнаться за погибшим счастьем бесполезно и безрассудно. Чего мне еще надобно? – ее видеть? – зачем? не все ли кончено между нами? Один горький прощальный поцелуй не обогатит моих воспоминаний, а после него нам только труднее будет расставаться.
Мне, однако, приятно, что я могу плакать! Впрочем, может быть, этому причиной расстроенные нервы, ночь, проведенная без сна, две минуты против дула пистолета и пустой желудок.
Все к лучшему! это новое страдание, говоря военным слогом, сделало во мне счастливую диверсию. Плакать здорово; и потом, вероятно, если б я не проехался верхом и не был принужден на обратном пути пройти пятнадцать верст, то и эту ночь сон не сомкнул бы глаз моих.
Я возвратился в Кисловодск в пять часов утра, бросился на постель и заснул сном Наполеона после Ватерлоо.
Когда я проснулся, на дворе уж было темно. Я сел у отворенного окна, расстегнул архалук – и горный ветер освежил грудь мою, еще не успокоенную тяжелым сном усталости. Вдали за рекою, сквозь верхи густых лип, ее осеняющих, мелькали огне в строеньях крепости и слободки. На дворе у нас все было тихо, в доме княгини было темно.
Взошел доктор: лоб у него был нахмурен; и он, против обыкновения, не протянул мне руки.
– Откуда вы, доктор?
– От княгини Лиговской; дочь ее больна – расслабление нервов… Да не в этом дело, а вот что: начальство догадывается, и хотя ничего нельзя доказать положительно, однако я вам советую быть осторожнее. Княгиня мне говорила нынче, что она знает, что вы стрелялись за ее дочь. Ей все этот старичок рассказал… как бишь его? Он был свидетелем вашей стычки с Грушницким в ресторации. Я пришел вас предупредить. Прощайте. Может быть, мы больше не увидимся, вас ушлют куда-нибудь.
Он на пороге остановился: ему хотелось пожать мне руку… и если б я показал ему малейшее на это желание, то он бросился бы мне на шею; но я остался холоден, как камень – и он вышел.
Вот люди! все они таковы: знают заранее все дурные стороны поступка, помогают, советуют, даже одобряют его, видя невозможность другого средства, – а потом умывают руки и отворачиваются с негодованием от того, кто имел смелость взять на себя всю тягость ответственности. Все они таковы, даже самые добрые, самые умные!..
На другой день утром, получив приказание от высшего начальства отправиться в крепость Н., я зашел к княгине проститься.
Она была удивлена, когда на вопрос ее: имею ли я ей сказать что-нибудь особенно важное? – я отвечал, что желаю ей быть счастливой и прочее.
– А мне нужно с вами поговорить очень серьезно.
Я сел молча.
Явно было, что она не знала, с чего начать; лицо ее побагровело, пухлые ее пальцы стучали по столу; наконец она начала так, прерывистым голосом:
– Послушайте, мсье Печорин! я думаю, что вы благородный человек.
Я поклонился.
– Я даже в этом уверена, – продолжала она, – хотя ваше поведение несколько сомнительно; но у вас могут быть причины, которых я не знаю, и их-то вы должны теперь мне поверить. Вы защитили дочь мою от клеветы, стрелялись за нее, – следственно, рисковали жизнью… Не отвечайте, я знаю, что вы в этом не признаетесь, потому что Грушницкий убит (она перекрестилась). Бог ему простит – и, надеюсь, вам также!.. Это до меня не касается, я не смею осуждать вас, потому что дочь моя хотя невинно, но была этому причиною. Она мне все сказала… я думаю, все: вы изъяснились ей в любви… она вам призналась в своей (тут княгиня тяжело вздохнула). Но она больна, и я уверена, что это не простая болезнь! Печаль тайная ее убивает; она не признается, но я уверена, что вы этому причиной… Послушайте: вы, может быть, думаете, что я ищу чинов, огромного богатства, – разуверьтесь! я хочу только счастья дочери. Ваше теперешнее положение незавидно, но оно может поправиться: вы имеете состояние; вас любит дочь моя, она воспитана так, что составит счастие мужа, – я богата, она у меня одна… Говорите, что вас удерживает?.. Видите, я не должна бы была вам всего этого говорить, но я полагаюсь на ваше сердце, на вашу честь; вспомните, у меня одна дочь… одна…
Она заплакала.
– Княгиня, – сказал я, – мне невозможно отвечать вам; позвольте мне поговорить с вашей дочерью наедине…
– Никогда! – воскликнула она, встав со стула в сильном волнении.
– Как хотите, – отвечал я, приготовляясь уйти.
Она задумалась, сделала мне знак рукою, чтоб я подождал, и вышла.
Прошло минут пять; сердце мое сильно билось, но мысли были спокойны, голова холодна; как я ни искал в груди моей хоть искры любви к милой Мери, но старания мои были напрасны.
Вот двери отворились, и вошла она, Боже! как переменилась с тех пор, как я не видал ее, – а давно ли?
Дойдя до середины комнаты, она пошатнулась; я вскочил, подал ей руку и довел ее до кресел.
Я стоял против нее. Мы долго молчали; ее большие глаза, исполненные неизъяснимой грусти, казалось, искали в моих что-нибудь похожее на надежду; ее бледные губы напрасно старались улыбнуться; ее нежные руки, сложенные на коленах, были так худы и прозрачны, что мне стало жаль ее.
– Княжна, – сказал я, – вы знаете, что я над вами смеялся?.. Вы должны презирать меня.
На ее щеках показался болезненный румянец.
Я продолжал:
– Следственно, вы меня любить не можете…
Она отвернулась, облокотилась на стол, закрыла глаза рукою, и мне показалось, что в них блеснули слезы.
– Боже мой! – произнесла она едва внятно.
Это становилось невыносимо: еще минута, и я бы упал к ногам ее.
– Итак, вы сами видите, – сказал я сколько мог твердым голосом и с принужденной усмешкой, – вы сами видите, что я не могу на вас жениться, если б вы даже этого теперь хотели, то скоро бы раскаялись. Мой разговор с вашей матушкой принудил меня объясниться с вами так откровенно и так грубо; я надеюсь, что она в заблуждении: вам легко ее разуверить. Вы видите, я играю в ваших глазах самую жалкую и гадкую роль, и даже в этом признаюсь; вот все, что я могу для вас сделать. Какое бы вы дурное мнение обо мне ни имели, я ему покоряюсь… Видите ли, я перед вами низок. Не правда ли, если даже вы меня и любили, то с этой минуты презираете?
Она обернулась ко мне бледная, как мрамор, только глаза ее чудесно сверкали.
– Я вас ненавижу… – сказала она.
Я поблагодарил, поклонился почтительно и вышел.
Через час курьерская тройка мчала меня из Кисловодска. За несколько верст до Ессентуков я узнал близ дороги труп моего лихого коня; седло было снято – вероятно, проезжим казаком, – и вместо седла на спине его сидели два ворона. Я вздохнул и отвернулся…
И теперь, здесь, в этой скучной крепости, я часто, пробегая мыслию прошедшее. спрашиваю себя: отчего я не хотел ступить на этот путь, открытый мне судьбою, где меня ожидали тихие радости и спокойствие душевное?.. Нет, я бы не ужился с этой долею! Я, как матрос, рожденный и выросший на палубе разбойничьего брига: его душа сжилась с бурями и битвами, и, выброшенный на берег, он скучает и томится, как ни мани его тенистая роща, как ни свети ему мирное солнце; он ходит себе целый день по прибрежному песку, прислушивается к однообразному ропоту набегающих волн и всматривается в туманную даль: не мелькнет ли там на бледной черте, отделяющей синюю пучину от серых тучек, желанный парус, сначала подобный крылу морской чайки, но мало-помалу отделяющийся от пены валунов и ровным бегом приближающийся к пустынной пристани…
→ Ася - чтение
Мне было тогда лет двадцать пять, - начал Н.Н., дела давно минувших Может быть, не всякий знает, что такое коммерш. Это особенного рода На другое утро (я уже проснулся, но еще не вставал) стук палки раз- Дорога к развалине вилась по скату узкой лесистой долины; на дне ее На следующее утро опять я пошел в Л. Я уверял себя, что мне хочется Прошли целые две недели. Я каждый день посещал Гагиных. Ася словно Я спал дурно и на другое утро встал рано, привязал походную котомочку Гагин встретил меня по-приятельски, осыпал меня ласковыми упреками; ру, ее благообразное, строгое, умное лицо с большими темными глазами. Ася встретила нас на самом пороге дома; я снова ожидал смеха; но она Весь этот день прошел как нельзя лучше. Мы веселились, как дети. Ася Отправляясь на следующий день к Гагиным, я не спрашивал себя, влюблен вался неожиданному нашему сближению. Я чувствовал, что только со вчераш- Она вернулась через час, остановилась в дверях и подозвала меня ру- "Неужели она меня любит?" - спрашивал я себя на другой день, только Я пришел к себе в комнату, сел и задумался. Сердце во мне сильно би- В условленный час я переправился через Рейн, и первое лицо, встретив-Ася
дней, как видите. Я только что вырвался на волю и уехал за границу, не
для того, чтобы "окончить мое воспитание", как говаривалось тогда, а
просто мне захотелось посмотреть на мир божий. Я был здоров, молод, ве-
сел, деньги у меня не переводились, заботы еще не успели завестись - я
жил без оглядки, делал, что хотел, процветал, одним словом. Мне тогда и
в голову не приходило, что человек не растение и процветать ему долго
нельзя. Молодость ест пряники золоченые, да и думает, что это-то и есть
хлеб насущный; а придет время - и хлебца напросишься. Но толковать об
этом не для чего.
Я путешествовал без всякой цели, без плана; останавливался везде, где
мне нравилось, и отправлялся тотчас далее, как только чувствовал желание
видеть новые лица - именно лица. Меня занимали исключительно одни люди;
я ненавидел любопытные памятники, замечательные собрания, один вид
лон-лакея возбуждал во мне ощущение тоски и злобы; я чуть с ума не сошел
в дрезденском "Грюне Гевелбе". Природа действовала на меня чрезвычайно,
но я не любил так называемых ее красот, необыкновенных гор, утесов, во-
допадов; я не любил, чтобы она навязывалась мне, чтобы она мне мешала.
Зато лица, живые человеческие лица - речи людей, их движения, смех - вот
без чего я обойтись не мог. В толпе мне было всегда особенно легко и от-
радно; мне было весело идти туда, куда шли другие, кричать, когда другие
кричали, и в то же время я любил смотреть, как эти другие кричат. Меня
забавляло наблюдать людей... да я даже не наблюдал их - я их рассматри-
вал с каким-то радостным и ненасытным любопытством. Но я опять сбиваюсь
в сторону.
Итак, лет двадцать тому назад я жил в немецком небольшом городке З.,
на левом берегу Рейна. Я искал уединения: я только что был поражен в
сердце одной молодой вдовой, с которой познакомился на водах. Она была
очень хороша собой и умна, кокетничала со всеми - и со мною, грешным, -
сперва даже поощряла меня, а потом жестоко меня уязвила, пожертвовав
мною одному краснощекому баварскому лейтенанту. Признаться сказать, рана
моего сердца не очень была глубока; но я почел долгом предаться на неко-
торое время печали и одиночеству - чем молодость не тешится! - и посе-
лился в З.
Городок этот мне понравился своим местоположением у подошвы двух вы-
соких холмов, своими дряхлыми стенами и башнями, вековыми липами, крутым
мостом над светлой речкой, впадавшей в Рейн, - а главное, своим хорошим
вином. По его узким улицам гуляли вечером, тотчас после захождения солн-
ца (дело было в июне), прехорошенькие белокурые немочки и, встретясь с
иностранцем, произносили приятным голоском: "Guten Abend!" - а некоторые
из них не уходили даже и тогда, когда луна поднималась из-за острых крыш
стареньких домов и мелкие каменья мостовой четко рисовались в ее непод-
вижных лучах Я любил бродить тогда по городу; луна казалось, пристально
глядела на него с чистого неба; и город чувствовал этот взгляд и стоял
чутко и мирно, весь облитый ее светом, этим безмятежным и в то же время
тихо душу волнующим светом. Петух на высокой готической колокольне блес-
тел бледным золотом; таким же золотом переливались струйки по черному
глянцу речки; тоненькие свечки (немец бережлив!) скромно теплились в уз-
ких окнах под грифельными кровлями; виноградные лозы таинственно высовы-
вали свои завитые усики из-за каменных оград; что-то пробегало в тени
около старинного колодца на трехугольной площади, внезапно раздавался
сонливый свисток ночного сторожа, добродушная собака ворчала вполголоса,
а воздух так и ластился к лицу, и липы пахли так сладко, что грудь поне-
воле все глубже и глубже дышала, и слово "Гретхен" - не то восклицание,
не то вопрос - так и просилось на уста.
Городок З. лежит в двух верстах от Рейна. Я часто ходил смотреть на
величавую реку и, не без некоторого напряжения мечтая о коварной вдове,
просиживал долгие часы на каменной скамье под одиноким огромным ясенем.
Маленькая статуя мадонны с почти детским лицом и красным сердцем на гру-
ди, пронзенным мечами, печально выглядывала из его ветвей. На противопо-
ложном берегу находился городок Л., немного побольше того, в котором я
поселился. Однажды вечером я сидел на своей любимой скамье и глядел то
на реку, то на небо, то на виноградники. Передо мной белоголовые маль-
чишки карабкались по бокам лодки, вытащенной на берег и опрокинутой нас-
моленным брюхом кверху. Кораблики тихо бежали на слабо надувшихся пару-
сах; зеленоватые волны скользили мимо, чуть-чуть вспухая и урча. Вдруг
донеслись до меня звуки музыки; я прислушался. В городе Л. играли вальс;
контрабас гудел отрывисто, скрипка неясно заливалась, флейта свистала
бойко.
- Что это? - спросил я у подошедшего ко мне старика в плисовом жиле-
те, синих чулках и башмаках с пряжками.
- Это, - отвечал он мне, предварительно передвинув мундштук своей
трубки из одного угла губ в другой, - студенты приехали из Б. на ком-
мерш.
"А посмотрю-ка я на этот коммерш, - подумал я, - кстати же, я в Л. не
бывал". Я отыскал перевозчика и отправился на другую сторону.
торжественный пир, на который сходятся студенты одной земли или братства
(Landsmannschaft). Почти все участники в коммерше носят издавна установ-
ленный костюм немецких студентов: венгерки, большие сапоги и маленькие
шапочки с околышами известных цветов. Собираются студенты обыкновенно к
обеду под председательством сениора, то есть старшины, - и пируют до ут-
ра, пьют, поют песни, Landesvater, Gaudeamus, курят, бранят филистеров;
иногда они нанимают оркестр.
Такой точно коммерш происходил в г.Л. перед небольшой гостиницей под
вывескою Солнца, в саду, выходившем на улицу. Над самой гостиницей и над
садом веяли флаги; студенты сидели за столами под обстриженными липками;
огромный бульдог лежал под одним из столов; в стороне, в беседке из плю-
ща, помещались музыканты и усердно играли, то и дело подкрепляя себя пи-
вом. На улице, перед низкой оградой сада, собралось довольно много наро-
да: добрые граждане Л. не хотели пропустить случая поглазеть на заезжих
гостей. Я тоже вмешался в толпу зрителей. Мне было весело смотреть на
лица студентов; их объятия, восклицания, невинное кокетничанье молодос-
ти, горящие взгляды, смех без причины - лучший смех на свете - все это
радостное кипение жизни юной, свежей, этот порыв вперед - куда бы то ни
было, лишь бы вперед, - это добродушное раздолье меня трогало и поджига-
ло. "Уж не пойти ли к ним?" - спрашивал я себя...
- Ася, довольно тебе? - вдруг произнес за мной мужской голос по-русс-
ки
- Подождем еще, - ответил другой, женский голос на том же языке.
Я быстро обернулся... Взор мой упал на красивого молодого человека в
фуражке и широкой куртке; он держал под руку девушку невысокого роста, в
соломенной шляпе, закрывавшей всю верхнюю часть ее лица.
- Вы русские? - сорвалось у меня невольно с языка.
Молодой человек улыбнулся и промолвил:
- Да, русские.
- Я никак не ожидал... в таком захолустье, - начал было я.
- И мы не ожидали, - перебил он меня, - что ж? тем лучше. Позвольте
рекомендоваться: меня зовут Гагиным, а вот это моя... - он запнулся на
мгновение, - моя сестра. А ваше имя позвольте узнать?
Я назвал себя, и мы разговорились. Я узнал, что Гагин, путешествуя,
так же как и я, для своего удовольствия, неделю тому назад заехал в го-
родок Л., да и застрял в нем. Правду сказать, я неохотно знакомился с
русскими за границей. Я их узнавал даже издали по их походке, покрою
платья, а главное, по выраженью их лица. Самодовольное и презрительное,
часто повелительное, оно вдруг сменялось выражением осторожности и ро-
бости... Человек внезапно настораживался весь, глаз беспокойно бегал...
"Батюшки мои! не соврал ли я, не смеются ли надо мною", - казалось, го-
ворил этот уторопленный взгляд... Проходило мгновенье -- и снова восста-
новлялось величие физиономии, изредка чередуясь с тупым недоуменьем. Да,
я избегал русских, но Гагин мне понравился тотчас. Есть на свете такие
счастливые лица: глядеть на них всякому любо, точно они греют вас или
гладят. У Гагина было именно такое лицо, милое, ласковое, с большими
мягкими глазами и мягкими курчавыми волосами. Говорил он так, что даже
не видя его лица, вы по одному звуку его голоса чувствовали, что он улы-
бается.
Девушка, которую он назвал своей сестрой, с первого взгляда показа-
лась мне очень миловидной. Было что-то свое, особенное, в складе ее
смугловатого, круглого лица, с небольшим тонким носом, почти детскими
щечками и черными, светлыми глазами. Она была грациозно сложена, но как
будто не вполне еще развита. Она нисколько не походила на своего брата.
- Хотите вы зайти к нам? - сказал мне Гагин, - кажется, довольно мы
насмотрелись на немцев. Ася, пойдем домой?
Девушка утвердительно кивнула головой.
- Мы живем за городом, - продолжал Гагин, - в винограднике, в одино-
ком домишке, высоко. У нас славно, посмотрите. Хозяйка обещала пригото-
вить нам кислого молока. Теперь же скоро стемнеет, и вам лучше будет пе-
реезжать Рейн при луне.
Мы отправились. Через низкие ворота города (старинная стена из булыж-
ника окружала его со всех сторон, даже бойницы не все еще обрушились) мы
вышли в поле и, пройдя шагов сто вдоль каменной ограды, остановились пе-
ред узенькой калиткой. Гагин отворил ее и повел нас в гору по крутой
тропинке. С обеих сторон, на уступах, рос виноград; солнце только что
село, и алый тонкий свет лежал на зеленых лозах, на высоких тычинках, на
сухой земле, усыпанной сплошь крупным и мелким плитняком, и на белой
стене небольшого домика, с косыми черными перекладинами и четырьмя свет-
лыми окошками, стоявшего на самом верху горы, по которой мы взбирались.
- Вот и наше жилище! - воскликнул Гагин, как только мы стали прибли-
жаться к домику, - а вот и хозяйка несет молоко. Guten Abend, Madame!..
Мы сейчас примемся за еду; но прежде, - прибавил он, - оглянитесь... ка-
ков вид?
Вид был, точно, чудесный. Рейн лежал перед нами весь серебряный, меж-
ду зелеными берегами; в одном месте он горел багряным золотом заката.
Приютившийся к берегу городок показывал все свои дома и улицы; широко
разбегались холмы и поля. Внизу было хорошо, но наверху еще лучше: меня
особенно поразил чистота и глубина неба, сияющая прозрачность воздуха.
Свежий и легкий, он тихо колыхался и перекатывался волнами, словно и ему
было раздольнее на высоте.
- Отличную вы выбрали квартиру, - промолвил я.
- Это Ася ее нашла, - отвечал Гагин. - Ну-ка, Ася, - продолжал он, -
распоряжайся. Вели все сюда подать. Мы станем ужинать на воздухе. Тут
музыка слышнее. Заметили ли вы, - прибавил он, обратясь ко мне, - вблизи
иной вальс никуда не годится - пошлые, грубые звуки, - а в отдаленье, -
чудо! так и шевелит в вас все романтические струны.
Ася (собственное имя ее было Анна, но Гагин называл ее Асей, и уж вы
позвольте мне ее так называть) - Ася отправилась в дом и скоро вернулась
вместе с хозяйкой. Они вдвоем несли большой поднос с горшком молока, та-
релками, ложками, сахаром, ягодами, хлебом. Мы уселись и принялись за
ужин. Ася сняла шляпу; ее черные волосы, остриженные и причесанные, как
у мальчика, падали крупными завитками на шею и уши. Сначала она дичилась
меня; но Гагин сказал ей:
- Ася, полно ежиться! он не кусается.
Она улыбнулась и немного спустя уже сама заговаривала со мной. Я не
видел существа более подвижного. Ни одно мгновение она не сидела смирно;
вставала, убегала в дом и прибегала снова, напевала вполголоса, часто
смеялась, и престранным образом: казалось, она смеялась не тому, что
слышала, а разным мыслям, приходившим ей в голову. Ее большие глаза гля-
дели прямо, светло, смело, но иногда веки ее слегка щурились, и тогда
взор ее внезапно становился глубок и нежен.
Мы проболтали часа два. День давно погас, и вечер, сперва весь огнис-
тый, потом ясный и алый, потом бледный и смутный, тихо таял и переливал-
ся в ночь, а беседа наша все продолжалась, мирная и кроткая, как воздух,
окружавший нас. Гагин велел принести бутылку рейнвейна; мы ее роспили не
спеша. Музыка по-прежнему долетала до нас, звуки ее казались слаще и
нежнее; огни зажглись в городе и над рекою. Ася вдруг опустила голову,
так что кудри ей на глаза упали, замолкла и вздохнула, а потом сказала
нам, что хочет спать, и ушла в дом; однако я видел, как она, не зажигая
свечи, долго стояла за нераскрытым окном. Наконец, луна встала и заигра-
ла по Рейну; все осветилось, потемнело, изменилось, даже вино в наших
граненых стаканах заблестело таинственным блеском. Ветер упал, точно
крылья сложил, и замер; ночным, душистым теплом повеяло от земли.
- Пора! - воскликнул я, - а то, пожалуй, перевозчика не сыщешь.
- Пора, - повторил Гагин.
Мы пошли вниз по тропинке. Камни вдруг посыпались за нами: это Ася
нас догоняла.
- Ты разве не спишь? - спросил ее брат, но она, не ответив ему ни
слова, пробежала мимо.
Последние умирающие плошки, зажженные студентами в саду гостиницы,
освещали снизу листья деревьев, что придавало им праздничный и фантасти-
ческий вид. Мы нашли Асю у берега: она разговаривала с перевозчиком. Я
прыгнул в лодку и простился с новыми моими друзьями. Гагин обещал навес-
тить меня следующий день; я пожал его руку и протянул свою Асе; но она
только посмотрела на меня и покачала головой. Лодка отчалила и понеслась
по быстрой реке. Перевозчик, бодрый старик, с напряжением погружал весла
в темную воду.
- Вы в лунный столб въехали, вы его разбили, - закричала мне Ася.
Я опустил глаза; вокруг лодки, чернея, колыхались волны.
- Прощайте! - раздался опять ее голос.
- До завтра, - проговорил за нею Гагин.
Лодка причалила. Я вышел и оглянулся. Никого уж не было видно на про-
тивоположном берегу. Лунный столб опять тянулся золотым мостом через всю
реку. Словно на прощание примчались звуки старинного лансеровского валь-
са. Гагин был прав: я почувствовал, что все струны моего сердца задрожа-
ли в ответ на те заискивающие напевы. Я отправился домой через потемнев-
шие поля, медлено вдыхая пахучий воздух, и пришел в свою комнату весь
разнеженный сладостным томлением беспредметных и бесконечных ожиданий.
Я чувствовал себя счастливым... Но отчего я был счастлив? Я ничего не
желал, я ни о чем не думал... Я был счастлив.
Чуть не смеясь от избытка приятных и игривых чувств, я нырнул в пос-
тель и уже закрыл было глаза, как вдруг мне пришло на ум, что в течение
вечера я ни разу не вспомнил о моей жестокой красавице... "Что же это
значит? - спросил я самого себя. - Разве я не влюблен?" Но, задав себе
этот вопрос, я, кажется, немедленно заснул, как дитя в колыбели.
дался у меня под окном, и голос, который я тотчас признал за голос Гаги-
на, запел:
Ты спишь ли? Гитарой Тебя разбужу...
Я поспешил отворить ему дверь.
- Здравствуйте, - сказал Гагин, входя, - я вас раненько потревожил,
на посмотрите, какое утро. Свежесть, роса, жаворонки поют...
Со своими курчавыми блестящими волосами, открытой шеей и розовыми ще-
ками он сам был свеж, как утро.
Я оделся; мы вышли в садик, сели на лавочку, велели подать себе кофе
и принялись беседовать. Гагин рассказал мне свои планы на будущее: вла-
дея порядочным состоянием и ни от кого не завися, он хотел посвятить се-
бя живописи и только сожалел о том, что поздно хватился за ум и много
времени потратил по-пустому; я также упомянул о моих предположениях, да,
кстати, поведал ему тайну моей несчастной любви. Он выслушал меня со
снисхождением, но, сколько я мог заметить, сильного сочувствия к моей
страсти я в нем не возбудил. Вздохнувши вслед за мной два раза из вежли-
вости, Гагин предложил мне пойти к нему посмотреть его этюды. Я тотчас
согласился.
Мы не застали Асю. Она, по словам хозяйки, отправилась на "развали-
ну". Верстах в двух от города Л. находились остатки феодального замка.
Гагин раскрыл мне все свои картоны. В них было много жизни и правды,
что-то свободное и широкое; но ни один из них не был окончен, и рисунок
показался мне небрежен и неверен. Я откровенно высказал ему мое мнение.
- Да, да, - подхватил он со вздохом, - вы правы; все это очень плохо
и незрело, что делать! Не учился я как следует, да и проклятая славянс-
кая распущенность берет свое. Пока мечтаешь о работе, так и паришь ор-
лом; землю, кажется, сдвинул бы с места - а в исполнении тотчас слабеешь
и устаешь.
Я начал было ободрять его, но он махнул рукой и, собравши картоны в
охапку, бросил их на диван.
- Коли хватит терпенья, из меня выйдет что-нибудь, - промолвил он
сквозь зубы, - не хватит, останусь недорослем из дворян.Пойдемте-ка луч-
ше Асю отыскивать, - сказал он.
Мы пошли.
бежал ручей и шумно прядал через камни, как бы торопясь слиться с вели-
кой рекой, спокойно сиявшей за темной гранью круто рассеченных горных
гребней. Гагин обратил мое внимание на некоторые счастливо освещенные
места; в словах его слышался если не живописец, то уже наверное худож-
ник. Скоро показалась развалина. На самой вершине голой скалы возвыша-
лась четырехугольная башня, вся черная, еще крепкая, но словно разруб-
ленная продольной трещиной. Мшистые стены примыкали к башне; кое-где ле-
пился плющ; искривленные деревца свешивались с седых бойниц и рухнувших
сводов. Каменистая тропинка вела к уцелевшим воротам. Мы уже подходили к
ним, как вдруг впереди нас мелькнула женская фигура, быстро перебежала
по груде обломков и уселась на уступе стены, прямо над пропастью.
- А ведь это Ася! - воскликнул Гагин, - экая сумасшедшая!
Мы вошли в ворота и очутились на небольшом дворике, до половины за-
росшем дикими яблонями и крапивой. На уступе сидела, точно, Ася. Она по-
вернулась к нам лицом и засмеялась, но не тронулась с места. Гагин пог-
розил ей пальцем, а я громко упрекнул ее в неосторожности.
- Полноте, - сказал мне шепотом Гагин, - не дразните ее; вы ее не
знаете: она, пожалуй, еще на башню взберется. А вот вы лучше подивитесь
смышлености местных жителей.
Я оглянулся. В уголке, приютившись в крошечном деревянном балаганчи-
ке, старушка вязала чулок и косилась на нас через очки. Она продавала
туристам пиво, пряники и зельтерскую воду. Мы уместились на лавочке и
принялись пить из тяжелых оловянных кружек довольно холодное пиво. Ася
продолжала сидеть неподвижно, подобрав под себя ноги и закутавшись ки-
сейным шарфом; стройный облик ее отчетливо и красиво рисовался на ясном
небе; но я с неприязненным чувством посматривал на нее. Уже накануне за-
метил я в ней что-то напряженное, не совсем естественное... "Она хочет
удивить нас, - думал я, - к чему это? Что за детская выходка?" Словно
угадавши мои мысли, она вдруг бросила на меня быстрый и пронзительный
взгляд, засмеялась опять, в два прыжка соскочила со стены и, подойдя к
старушке, попросила у ней стакан воды.
- Ты думаешь, я хочу пить? - промолвила она, обращаясь к брату, -
нет; тут есть цветы на стенах, которые непременно полить надо.
Гагин ничего не ответил ей; а она, с стаканом в руке, пустилась ка-
рабкаться о развалинам, изредка останавливаясь, наклоняясь и с забавной
важностью роняя несколько капель воды, ярко блестевших на солнце. Ее
движения были очень милы, но мне по-прежнему было досадно на нее, хотя я
невольно любовался ее легкостью и ловкостью. На одном опасном месте она
нарочно вскрикнула и потом захохотала... Мне стало еще досаднее.
- Да она как коза лазит, - пробормотала себе под нос старушка, отор-
вавшись на мгновенье от своего чулка.
Наконец, Ася опорожнила весь свой стакан и, шаловливо покачиваясь,
возвратилась к нам. Странная усмешка слегка подергивала ее брови, ноздри
и губы; полудерзко, полувесело щурились темные глаза.
"Вы находите мое поведение неприличным, - казалось, говорило ее лицо
- все равно: я знаю, вы мной любуетесь".
- Искусно, Ася, искусно, - промолвил Гагин вполголоса.
Она вдруг как будто застыдилась, опустила свои длинные ресницы и
скромно подсела к нам, как виноватая. Я тут в первый раз хорошенько
рассмотрел ее лицо, самое изменчивое лицо, какое я только видел. Нес-
колько мгновений спустя оно уже все побледнело и приняло сосредоточен-
ное, почти печальное выражение; самые черты ее мне показались больше,
строже, проще. Она вся затихла. Мы обошли развалину кругом (Ася шла за
нами следом) и полюбовались видами. Между тем час обеда приближался.
Расплачиваясь со старушкой, Гагин спросил еще кружку пива и, обернувшись
ко мне, воскликнул с лукавой ужимкой:
- За здоровье дамы вашего сердца!
- А разве у него, - разве у вас есть такая дама? - спросила вдруг
Ася.
- Да у кого же ее нет? - возразил Гагин.
Ася задумалась на мгновение; ее лицо опять изменилось, опять появи-
лась на нем вызывающая, почти дерзкая усмешка.
На возвратном пути она пуще хохотала и шалила. Она сломала длинную
ветку, положила ее к себе на плечо, как ружье, повязала себе голову шар-
фом. Помнится, нам встретилась многочисленная семья белокурых и чопорных
англичанах; все они, словно по команде, с холодным изумлением проводили
Асю своими стеклянными глазами, а она, как бы им назло, громко запела.
Воротясь домой, она тотчас ушла к себе в комнату и появилась только к
самому обеду, одетая в лучшее свое платье, тщательно причесанная, пере-
тянутая и в перчатках. За столом она держалась очень чинно, почти чопор-
но, едва отведывала кушанья и пила воду из рюмки. Ей явно хотелось ра-
зыграть передо мною новую роль - роль приличной и благовоспитанной ба-
рышни. Гагин не мешал ей: заметно было, что он привык потакать ей во
всем. Он только по временам добродушно взглядывал на меня и слегка пожи-
мал плечом, как бы желая сказать: "Она ребенок; будьте снисходительны".
Как только кончился обед, Ася встала и, надевая шляпу, спросила Гагина:
можно ли ей пойти к фрау Луизе?
- Давно ли ты стала спрашиваться? - отвечал он со своей неизменной,
на этот раз несколько смущенной улыбкой, - разве тебе скучно с нами?
- Нет, но я вчера еще обещала фрау Луизе побывать у нее; притом же я
думала, что вам будет лучше вдвоем: господин Н. (она указала на меня)
что-нибудь еще тебе расскажет.
Она ушла.
- Фрау Луизе, - сказал Гагин, стараясь избегать моего взора, - вдова
бывшего здешнего бургомистра, добрая, впрочем пустая старушка. Она очень
полюбила Асю. У Аси страсть знакомиться с людьми круга низшего: я заме-
тил: причиною этому всегда бывает гордость. Она у меня очень избалована,
как видите, - прибавил он, помолчав немного, - да что прикажете делать?
Взыскивать я ни с кого не умею, а с нее и подавно. Я обязан быть снисхо-
дительным с нею.
Я промолчал. Гагин переменил разговор. Чем больше я узнавал его, тем
сильнее я к нему привязывался. Я скоро его понял. Это была прямо русская
душа, правдивая, честная, простая, но, к сожалению, немного вялая, без
цепкости и внутреннего жара. Молодость не кипела в нем ключом; она све-
тилась тихим светом. Он был очень мил и умен, но я не мог себе предста-
вить, что с ним станется, как только он возмужает. Быть художником...
Без горького, постоянного труда не бывает художников... а трудиться, ду-
мал я, глядя на его мягкие черты, слушая его неспешную речь - нет! тру-
диться ты не будешь, сдаться ты не сумеешь. Но не полюбить его не было
возможности: сердце так и влеклось к нему. Часа четыре провели мы вдво-
ем, то сидя на диване, то медленно расхаживая перед домом; и в эти четы-
ре часа сошлись окончательно.
Солнце село, и мне уже пора было идти домой. Ася все еще не возвраща-
лась.
- Экая она у меня вольница! - промолвил Гагин. - Хотите, я пойду про-
вожать вас? Мы по пути завернем к фрау Луизе; я спрошу, там ли она? Крюк
не велик.
Мы спустились в город и, свернувши в узкий, кривой переулочек, оста-
новились перед домом в два окна шириною и вышиною в четыре этажа. Второй
этаж выступал на улицу больше первого, третий и четвертый еще больше
второго; весь дом с своей ветхой резьбой, двумя толстыми внизу, острой
черепичной кровлей и протянутым в виде клюва воротом на чердаке казался
огромной, сгорбленной птицей.
- Ася! - крикнул Гагин, - ты здесь?
Освещенное окно в третьем этаже стукнуло и открылось, и мы увидали
темную головку Аси. Из-за нее выглядывало беззубое и подслеповатое лицо
старой немки.
- Я здесь, - проговорила Ася, кокетливо опершись локтями на оконницу,
- мне здесь хорошо. На тебе, возьми, - прибавила она, бросая Гагину вет-
ку гераниума, - вообрази, что я дама твоего сердца.
Фрау Луизе засмеялась.
- Н. уходит, - ответил Гагин, - он хочет с тобой проститься.
- Будто? - промолвила Ася, - в таком случае дай ему мою ветку, а я
сейчас вернусь.
Она захлопнула окно и, кажется, поцеловала фрау Луизе. Гагин протянул
мне молча ветку. Я молча положил ее в карман, дошел до перевоза и переб-
рался на другую сторону.
Помнится, я шел домой, ни о чем не размышляя, но с странной тяжестью
на сердце, как вдруг меня поразил сильный, знакомый, но в Германии ред-
кий запах. Я остановился и увидал возле дороги небольшую грядку конопли.
Ее степной запах мгновенно напомнил мне родину и возбудил в душе страст-
ную тоску по ней. Мне захотелось дышать русским воздухом, ходить по
русской земле. "Что я здесь делаю, зачем таскаюсь в чужой стороне, между
чужими?" - воскликнул я, и мертвенная тяжесть, которую я ощущал на серд-
це, разрешилась внезапно в горькое и жгучее волнение. Я пришел домой
совсем в другом настроении духа, чем накануне. Я чувствовал себя почти
рассерженным и долго не мог успокоиться. Непонятная мне самому досада
меня разбирала. Наконец, я сел, и, вспомнив о своей коварной вдове,
(официальным воспоминанием обо этой даме заключался каждый мой день),
достал одну из ее записок. Но я даже не раскрыл ее; мысли мои тотчас
приняли иное направление. Я начал думать... думать об Асе. Мне пришло в
голову, что Гагин в течение разговора намекнул мне на какие-то затрудне-
ния, препятствующие его возвращению в Россию... "Полно, сестра ли она
его?" - произнес я громко.
Я разделся, лег и старался заснуть; но час спустя я опять сидел в
постели, облокотившись локтем на подушку, и снова думал об этой "каприз-
ной девочке с натянутым смехом...". "Она сложена, как маленькая рафаэ-
левская Галатея в Фарнезине, - шептал я, - да; и она ему не сестра..."
А записка вдовы преспокойно лежала на полу, белея в лучах луны.
повидаться с Гагиным, но втайне я хотел посмотреть, что станет делать
Ася, так ли она будет "чудить", как накануне. Я застал обоих в гостиной,
и странное дело! - оттого ли, что я ночью и утром много размышлял о Рос-
сии, - Ася показалась мне совершенно русской девушкой, простою девушкой,
чуть не горничной. На ней было старенькое платьице, волосы она зачесала
за уши и сидела, не шевелясь, у окна да шила в пяльцах, скромно, тихо,
точно она век свой ничем другим не занималась. Она почти ничего не гово-
рила, спокойно посматривала на свою работу, и черты ее приняли такое
незначительное, будничное выражение, что мне невольно вспомнились наши
доморощенные Кати и Маши. Для довершения сходства она принялась напевать
вполголоса "Матушку, голубушку". Я глядел на ее желтоватое, угасшее ли-
чико, вспоминал о вчерашних мечтаниях, и жаль мне было чего-то. Погода
была чудесная. Гагин объявил нам, что пойдет сегодня рисовать этюд с на-
туры: я спросил его, позволит ли он мне провожать его, не помешаю ли я
ему?
- Напротив, - возразил он, - вы мне можете хороший совет дать.
Он надел круглую шляпу a la Van Dyck, блузу, взял картон под мышку и
отправился; я поплелся вслед за ним. Ася осталась дома. Гагин, уходя,
попросил ее позаботиться о том, чтобы суп был не слишком жидок: Ася обе-
щалась побывать на кухне. Гагин добрался до знакомой уже мне долины,
присел на камень и начал срисовывать старый дуплистый дуб с раскидистыми
сучьями. Я лег на траву и достал книжку; но я двух страниц не прочел, а
он только бумагу измарал; мы все больше рассуждали, и, сколько я могу
судить, довольно умно и тонко рассуждали о том, как именно должно рабо-
тать, чего следует избегать, чего придерживаться и какое собственно зна-
чение художника в наш век. Гагин, наконец, решил, что он "сегодня не в
ударе", лег рядом со мной, и уж тут свободно потекли молодые наши речи,
то горячие, то задумчивые, то восторженные, но почти всегда неясные ре-
чи, в которых так охотно разливается русский человек. Наболтавшись досы-
та и наполнившись чувством удовлетворения, словно мы что-то сделали, ус-
пели в чем-то, вернулись мы домой. Я нашел Асю точно такою же, какою я
ее оставил; как я ни старался наблюдать за нею - ни тени кокетства, ни
признака намеренно принятой роли я в ней не заметил; на этот раз не было
возможности упрекнуть ее в неестественности.
- А-га! - говорил Гагин, - пост и покаяние на себя наложила.
К вечеру она несколько раз непритворно зевнула и рано ушла к себе. Я
сам скоро простился с Гагиным, и, возвратившись домой, не мечтал уже ни
о чем: этот день прошел в трезвых ощущениях. Помнится, однако, ложась
спать, я невольно промолвил вслух:
- Что за хамелеон эта девушка! - и, подумав немного, прибавил: - А
все-таки она ему не сестра.
избегала меня, но уже не позволяла себе ни одной из тех шалостей, кото-
рые так удивили меня в первые два дня нашего знакомства. Она казалась
втайне огорченной или смущенной; она и смеялась меньше. Я с любопытством
наблюдал за ней.
Она довольно хорошо говорила по-французски и по-немецки; но по всему
было заметно, что она с детства не была в женских руках и получила вос-
питание странное, необычное, не имевшее ничего общего с воспитанием са-
мого Гагина. От него, несмотря на его шляпу a la Van Dyck и блузу, так и
веяло мягким, полуизнеженным, великорусским дворянином, а она не походи-
ла на барышню; во всех ее движениях было что-то неспокойное: этот дичок
недавно был привит, это вино еще бродило. По природе стыдливая и робкая,
она досадовала на свою застенчивость и с досады насильственно старалась
быть развязной и смелой, что ей не всегда удавалось. Я несколько раз за-
говаривал с ней об ее жизни в России, о ее прошедшем: она неохотно отве-
чала на мои расспросы; я узнал, однако, что до отъезда за границу она
долго жила в деревне. Я застал ее раз за книгой, одну. Опершись головой
на обе руки и запустив пальцы глубоко в волосы, она пожирала глазами
строки.
- Браво! - сказал я, подойдя к ней, - как вы прилежны!
Она подняла голову, важно и строго посмотрела на меня.
- Вы думаете, что я только смеяться умею, - промолвила она и хотела
удалиться...
Я взглянул на заглавие книги: это был какой-то французский роман.
- Однако я ваш выбор похвалить не могу, - заметил я.
- Что же читать! - воскликнула она, и, бросив книгу на стол, прибави-
ла: - Так лучше пойду дурачиться, - и побежала в сад.
В тот же день, вечером, я читал Гагину "Германа и Доротею". Ася спер-
ва все только шныряла мимо нас, потом вдруг остановилась, приникла ухом,
тихонько подсела ко мне и прослушала чтение до конца. На следующий день
я опять не узнал ее, пока не догадался, что ей вдруг вошло в голову:
быть домовитой и степенной, как Доротея. Словом, она являлась мне полу-
загадочным существом. Самолюбивая до крайности, она привлекала меня, да-
же когда я сердился на нее. В одном только я более и более убеждался, а
именно в том, что она не сестра Гагина. Он общался с нею не по-братски:
слишком ласково, слишком снисходительно и в то же время несколько при-
нужденно.
Странный случай, по-видимому, подтвердил мои подозрения.
Однажды вечером, подходя к винограднику, где жили Гагины, я нашел ка-
литку запертою. Не долго думавши добрался я до одного обрушенного места
в ограде, уже прежде замеченного мною, и перескочил через нее. Недалеко
от этого места, в стороне от дорожки, находилась небольшая беседка из
акаций; я поравнялся с нею и уже прошел было мимом... Вдруг меня поразил
голос Аси, с жаром и сквозь слезы произносившей следующие слова:
- Нет, я никого не хочу любить, кроме тебя, нет, нет, одного тебя я
хочу любить - и навсегда.
- Полно, Ася, успокойся, - говорил Гагин, - ты знаешь, я тебе верю.
Голоса их раздавались в беседке. Я увидал их обоих сквозь негустой
переплет ветвей. Они меня не заметили.
- Тебя, тебя одного, - повторила она, бросилась ему на шею и с судо-
рожными рыданиями начала целовать его и прижиматься к его груди.
- Полно, полно, - твердил он, слегка проводя рукой по ее волосам.
Несколько мгновений остался я неподвижным... Вдруг я встрепенулся.
"Подойти к ним?.. Ни за что!" - сверкнуло у меня в голове. Быстрыми ша-
гами вернулся я к ограде, перескочил через нее на дорогу и чуть не бегом
пустился домой. Я улыбался, потирал руки, удивлялся случаю, внезапно
подтвердившему мои догадки (я ни на одно мгновение не усомнился в их
справедливости), а между тем на сердце у меня было очень горько. "Одна-
ко, - думал я, - умеют же они притворяться! Но к чему? Что за охота меня
морочить? Не ожидал я этого от него... И что за чувствительное объясне-
ние?"
за спину и, объявив своей хозяйке, чтобы она не ждала меня к ночи, отп-
равился пешком в горы, вверх по течению реки, на которой лежит городок
З. Эти горы, отрасли хребта, называемого Собачьей спиной (Hundsruck),
очень любопытные в геологическом отношении; в особенности замечательные
они правильностью и чистотой базальтовых слоев; но мне было не до геоло-
гических наблюдений. Я не отдавал себе отчета в том, что во мне происхо-
дило; одно чувство было мне ясно: нежелание видеться с Гагиным. Я уверял
себя, что единственной причиной моего внезапного нерасположения к ним
была досада на их лукавство. Кто принуждал их выдавать себя за родствен-
ников? Впрочем, я старался о них не думать; бродил не спеша по горам и
долинам, засиживался в деревенских харчевнях, мирно беседуя с хозяевами
и гостями, или ложился на плоский согретый камень и смотрел, как плыли
облака, благо погода стояла удивительная. В таких занятиях я провел три
дня и не без удовольствия, - хотя на сердце у меня щемило по временам.
Настроение моих мыслей приходилось как раз под стать спокойной природе
того края.
Я отдал себя всего тихой игре случайности, набегавшим впечатлениям;
неторопливо смеясь, протекали они по душе и оставили в ней, наконец, од-
но общее чувство, в котором слилось все, что я видел, ощутил, слышал в
эти три дня, - все: тонкий запах смолы по лесам, крик и стук дятлов, не-
молчная болтовня светлых ручейков с пестрыми форелями на песчаном дне,
не слишком смелые очертания гор, хмурые скалы, чистенькие деревеньки с
почтенными старыми церквами и деревьями, аисты в лугах, уютные мельницы
с проворно вертящимися колесами, радушные лица поселян, их синие камзолы
и серые чулки, скрипучие, медлительные возы, запряженные жирными лошадь-
ми, а иногда коровами, молодые длинноволосые странники по чистым доро-
гам, обсаженным яблонями и грушами...
Даже теперь мне приятно вспоминать мои тогдашние впечатления. Привет
тебе, скромный уголок германской земли, с твоим незатейливым довольст-
вом, с повсеместными следами прилежных рук, терпеливой, хотя неспешной
работы... Привет тебе и мир!
Я пришел домой к самому концу третьего дня. Я забыл сказать, что с
досады на Гагиных я попытался воскресить образ жестокосердной вдовы; но
мои усилия остались тщетны. Помнится, когда я принялся мечтать о ней, я
увидел крестьянскую девочку лет пяти, с круглым любопытным личиком, с
невинно выпученными глазенками. Она так детски-простодушно смотрела на
меня... Мне стало стыдно ее чистого взора, я не хотел лгать в ее при-
сутствии и тотчас же окончательно и навсегда раскланялся с моим прежним
предметом.
Дома я нашел записку от Гагина. Он удивлялся неожиданности моего ре-
шения, пенял мне, зачем я не взял его с собою, и просил прийти к ним,
как только я вернусь. Я с неудовольствием прочел эту записку, но на дру-
гой же день отправился в Л.
но Ася, точно нарочно, как только увидела меня, расхохоталась без всяко-
го повода и, по своей привычке, тотчас убежала. Гагин смутился, пробор-
мотал ей вслед, что она сумасшедшая, попросил меня извинить ее. Призна-
юсь, мне стало очень досадно на Асю; уж и без того мне было не по себе,
а тут опять этот неестественный смех, эти странные ужимки. Я, однако,
показал вид, будто ничего не заметил, и сообщил Гагину подробности моего
небольшого путешествия. Он рассказал мне, что делал, когда я отсутство-
вал. Но речи наши не клеились; Ася входила в комнату и убегала снова; я
объявил наконец, что у меня есть спешная работа и что мне пора вернуться
домой. Гагин сперва удерживал меня, потом, посмотрев на меня пристально,
вызвался провожать меня. В передней Ася вдруг подошла ко мне и протянула
мне руку; я слегка пожал ее пальцы и едва поклонился ей. Мы вместе с Га-
гиным переправились через Рейн, и, проходя мимо любимого моего ясеня с
статуйкой мадонны, присели на скамью, чтобы полюбоваться видом. Замеча-
тельный разговор произошел тут между нами.
Сперва мы перекинулись несколькими словами, потом замолкли, глядя на
светлую реку.
- Скажите, - заговорил вдруг Гагин, со своей обычной улыбкой, - како-
го вы мнения об Асе? Не правда ли, она должна казаться вам немного
странной?
- Да, - ответил я не без некоторого недоумения. Я не ожидал, что он
заговорит о ней.
- Ее надо хорошенько узнать, чтобы о ней судить, - промолвил он, - у
ней сердце очень доброе, но голова бедовая. Трудно с ней ладить. Впро-
чем, ее нельзя винить, и если б вы знали ее историю...
- Ее историю? - перебил я, - разве она не ваша...
Гагин взглянул на меня.
- Уж не думаете ли вы, что она не сестра мне?.. Нет, - продолжал он,
не обращая внимания на мое замешательство, - она точно мне сестра, она
дочь моего отца. Выслушайте меня. Я чувствую к вам доверие и расскажу
вам все.
Отец мой был человек весьма добрый, умный, образованный - и несчаст-
ливый. Он женился рано, по любви; жена его, моя мать, умерла очень ско-
ро; я остался после нее шести месяцев. Отец увез меня в деревню и целые
двенадцать лет не выезжал никуда. Он сам занимался моим воспитанием и
никогда бы со мной не расстался, если б брат его, мой родной дядя, не
заехал к нам в деревню. Дядя этот жил постоянно в Петербурге и занимал
довольно важное место. Он уговорил отца отдать меня к нему на руки, так
как отец ни за что не соглашался покинуть деревню. Дядя представил ему,
что мальчику моих лет вредно жить в совершенном уединении, что с таким
вечно унылым и молчаливым наставником, каков был мой отец, я непременно
отстану от моих сверстников, да и самый нрав мой легко может испортить-
ся. Отец долго противился увещаниям своего брата, однако уступил, нако-
нец. Я плакал, расставаясь с отцом; я любил его, хотя никогда не видел
улыбки на лице его... но попавши в Петербург, скоро позабыл наше темное
и невеселое гнездо. Я поступил в юнкерскую школу, а из школы перешел в
гвардейский полк. Каждый год приезжал я в деревню на несколько недель и
с каждым годом находил моего отца все более и более грустным, в себя уг-
лубленным, задумчивым до робости. Он каждый день ходил в церковь и почти
разучился говорить. В одно из моих посещений (мне уже было лет двадцать
с лишком) я в первый раз увидал у нас в доме худенькую черноглазую де-
вочку лет десяти - Асю. Отец сказал, что она сирота и взята им на про-
кормление - он именно так выразился. Я не обратил особенного внимания на
нее; она была дика, проворна и молчалива, как зверек, и как только я
входил в любимую комнату моего отца, огромную и мрачную комнату, где
скончалась моя мать и где даже днем зажигались свечи, она тотчас прята-
лась за вольтеровское кресло его или за шкаф с книгами. Случилось так,
что в последовавшие за тем три, четыре года обязанности службы помешали
мне побывать в деревне. Я получал от отца ежемесячно по короткому пись-
му; об Асе он упоминал редко, и то вскользь. Ему было уже за пятьдесят
лет, но он казался еще молодым человеком. Представьте же мой ужас: вдруг
я, ничего не подозревавший, получаю от приказчика письмо, в котором он
меня извещает о смертельной болезни моего отца и умоляет приехать как
можно скорее, если хочу проститься с ним. Я поскакал сломя голову и зас-
тал отца в живых, но уже при последнем издыхании. Он обрадовался мне
чрезвычайно, обнял меня своими исхудалыми руками, долго поглядел мне в
глаза каким-то не то испытующим, не то умоляющим взором, и, взяв с меня
слово, что я исполню его последнюю просьбу, велел своему старому камер-
динеру привести Асю. Старик привел ее: она едва держалась на ногах и
дрожала всем телом.
- Вот, - сказал мне с усилием отец, - завещаю тебе мою дочь - твою
сестру. Ты все узнаешь от Якова, - прибавил он, указав на камердинера.
Ася зарыдала и упала лицом на кровать... Полчаса спустя мой отец
скончался.
Вот что я узнал. Ася была дочь моего отца и бывшей горничной моей ма-
тери, Татьяны. Живо я помню эту Татьяну, помню ее высокую стройную фигу-
Она слыла девушкой гордой и неприступной. Сколько я мог понять из почти-
тельных недомолвок Якова, отец мой сошелся с нею несколько лет спустя
после смерти матушки. Татьяна уже не жила тогда в господском доме, а в
избе у замужней сестры своей, скотницы. Отец мой сильно к ней привязался
и после моего отъезда из деревни хотел даже жениться на ней, но она сама
не согласилась быть его женой, несмотря на его просьбы.
- Покойница Татьяна Васильевна, - так докладывал мне Яков, стоя у
двери с закинутыми назад руками, - во всем были рассудительны и не захо-
тели батюшку вашего обидеть. Что, мол, я вам за жена? какая я барыня?
Так они говорить изволили, при мне говорили-с.
Татьяна даже не хотела переселится к нам в дом и продолжала жить у
своей сестры, вместе с Асей. В детстве я видывал Татьяну только по
праздникам, в церкви. Повязанная темным платком, с желтой шалью на пле-
чах, она становилась в толпе, возле окна, - ее строгий профиль четко вы-
резался на прозрачном стекле, - и смиренно и важно молилась, кланяясь
низко, по-старинному. Когда дядя увез меня, Асе было всего два года, а
на девятом году она лишилась матери.
Как только Татьяна умерла, отец взял Асю к себе в дом. Он и прежде
изъявлял желание иметь ее при себе, но Татьяна ему и в этом отказала.
Представьте же себе, что должно было произойти в Асе, когда ее взяли к
барину. Она до сих пор не может забыть ту минуту, когда ей в первый раз
надели шелковое платье и поцеловали у ней ручку. Мать, пока была жива,
держала ее очень строго; у отца она пользовалась совершенной свободой.
Он был ее учителем; кроме него, она никого не видала. Он не баловал ее,
то есть не нянчился с нею; но он любил ее страстно и никогда ничего ей
не запрещал: он в душе считал себя перед ней виноватым. Ася скоро поня-
ла, что она главное лицо в доме, она знала, что барин ее отец; но она
так же скоро поняла свое ложное положение; самолюбие развилось в ней
сильно, недоверчивость тоже; дурные привычки укоренялись, простота ис-
чезла. Она хотела (она сама мне раз призналась в этом) заставить целый
мир забыть ее происхождение; она и стыдилась своей матери, и стыдилась
своего стыда, и гордилась ею. Вы видите, что она многое знала и знает,
чего не должно бы знать в ее годы... Но разве она виновата? Молодые си-
лы разыгрывались в ней, кровь кипела, а вблизи ни одной руки, которая бы
ее направила. Полная независимость во всем! да разве легко ее вынести?
Она хотела быть не хуже других барышень; она бросилась на книги. Что тут
могло выйти путного? Неправильно начатая жизнь слагалась неправильно, но
сердце в ней не испортилось, ум уцелел.
И вот я, двадцатилетний малый, очутился с тринадцатилетней девочкой
на руках! В первые дни после смерти отца, при одном звуке моего голоса,
ее била лихорадка, ласки мои повергали ее в тоску, только понемногу, ис-
подволь, привыкла она ко мне. Правда, потом, когда она убедилась, что я
точно признаю ее за сестру и полюбил ее, как сестру, она страстно ко мне
привязалась: у ней ни одно чувство не бывает вполовину.
Я привез ее в Петербург. Как мне ни больно было с ней расстаться, -
жить с ней вместе я никак не мог; я поместил ее в один из лучших пансио-
нов. Ася поняла необходимость нашей разлуки, но начала с того, что забо-
лела и чуть не умерла. Потом она обтерпелась и выжила в пансионе четыре
года; но, против моих ожиданий, осталась почти такою же, какою была
прежде. Начальница пансиона часто жаловалась мне на нее. "И наказать ее
нельзя, - говаривала она мне, - и на ласку она не подается". Ася была
чрезвычайно понятлива, училась прекрасно, лучше всех; но никак не хотела
подойти под общий уровень, упрямилась, глядела букой... Я не мог слишком
винить ее: в ее положении ей надо было либо прислуживаться, либо дичить-
ся. Изо всех подруг она сошлась только с одной, некрасивой, загнанной и
бедной девушкой. Остальные барышни, с которыми она воспитывалась, боль-
шей частью из хороших фамилий, не любили ее, язвили ее и кололи, как
только могли; Ася им на волос не уступала. Однажды на уроке из закона
божия преподаватель заговорил о пороках. "Лесть и трусость - самые дур-
ные пороки", - громко промолвила Ася. Словом, она продолжала идти своей
дорогой; только манеры ее стали лучше, хотя и в этом отношении она, ка-
жется, не много успела.
Наконец ей минуло семнадцать лет; оставаться ей долее в пансионе было
невозможно. Я находился в довольно большом затруднении. Вдруг мне пришла
благая мысль: выйти в отставку, поехать за границу на год или на два и
взять Асю с собой. Задумано - сделано; и вот мы с ней на берегах Рейна,
где я стараюсь заниматься живописью, а она... шалит и чудит по-прежне-
му. Но теперь я надеюсь, что вы не станете судить ее слишком строго; а
она хоть и притворяется, что ей все нипочем, - мнением каждого дорожит,
вашим же мнением в особенности.
И Гагин опять улыбнулся своей тихой улыбкой. Я крепко стиснул ему ру-
ку.
- Все так, - заговорил опять Гагин, - но с нею мне беда. Порох она
настоящий. До сих пор ей никто не нравился, но беда, если она кого полю-
бит! Я иногда не знаю, как с ней быть. На днях она что вздумала: начала
вдруг уверять меня, что я к ней стал холоднее прежнего и что она одного
меня любит и век будет меня одного любить... И при этом так расплака-
лась...
- Так вот что... - промолвил было я и прикусил язык.
- А скажите-ка мне, - спросил я Гагина: дело между нами пошло на отк-
ровенность, - неужели в самом деле ей до сих пор никто не нравился? В
Петербурге видела же она молодых людей?
- Они-то ей и не нравились вовсе. Нет, Асе нужен герой, необыкновен-
ный человек - или живописный пастух в горном ущелье. А впрочем, я забол-
тался с вами, задержал вас, - прибавил он, вставая.
- Послушайте, - начал я, - пойдемте к вам, мне домой не хочется.
- А работа ваша?
Я ничего не ответил; Гагин добродушно усмехнулся, и мы вернулись в Л.
Увидев знакомый виноградник и белый домик на верху горы, я почувствовал
какую-то сладость - именно сладость на сердце. Мне стало легко после га-
гинского рассказа.
вышла к нам вся бледная, молчаливая, с потупленными глазами.
- Вот он опять, - заговорил Гагин, - и, заметь, сам захотел вернуть-
ся.
Ася вопросительно посмотрела на меня. Я в свою очередь протянул ей
руку и на этот раз крепко пожал ее холодные пальчики. Мне стало очень
жаль ее; теперь я многое понимал в ней, что прежде сбивало меня с толку:
ее внутреннее беспокойство, неуменье держать себя, желание порисоваться
- все мне стало ясно. Я понял, почему эта странная девочка меня привле-
кала; не одной только полудикой прелестью, разлитой по всему ее тонкому
телу, привлекала она меня: ее душа мне нравилась.
Гагин начал копаться в своих рисунках; я предложил Асе погулять со
мной по винограднику. Она тотчас согласилась, с веселой и почти покорной
готовностью. Мы спустились до половины горы и присели на широкую плиту.
- И вам не скучно было без нас? - начала Ася.
- А вам без меня было скучно? - спросил я.
Ася взглянула на меня сбоку.
- Да, - ответила она. - Хорошо в горах? - продолжала она тотчас, -
они высоки? Выше облаков? Расскажите мне, что вы видели. Вы рассказывали
брату, но я ничего не слыхала.
- Вольно ж было вам уходить, - заметил я.
- Я уходила... потому что... Я теперь вот не уйду, - прибавила она
с доверчивой лаской в голосе, - вы сегодня были сердиты.
- Я?
- Вы.
- Отчего же, помилуйте...
- Не знаю, но вы были сердиты и ушли сердитыми. Мне было очень досад-
но, что вы так ушли, и я рада, что вы вернулись.
- И я рад, что вернулся, - промолвил я.
Ася повел плечами, как это часто делают дети, когда им хорошо.
- О, я умею отгадывать! - продолжала она, - бывало, я по одному папа-
шиному кашлю из другой комнаты узнавала, доволен ли он мной или нет.
До этого дня Ася ни разу не говорила мне о своем отце. Меня это пора-
зило.
- Вы любили вашего батюшку? - проговорил я и вдруг, к великой моей
досаде, почувствовал, что краснею.
Она ничего не отвечала и покраснела тоже. Мы оба замолкли. Вдали по
Рейну бежал и дымился пароход. Мы принялись глядеть на него.
- Что же вы не рассказываете? - прошептала Ася.
- Отчего вы сегодня рассмеялись, как только увидели меня? - - спросил
я.
- Сама не знаю. Иногда мне хочется плакать, а я смеюсь. Вы не должны
судить меня... по тому, что я делаю. Ах, кстати, что это за сказка о Ло-
релее? Ведь это ЕЕ скала виднеется? Говорят, она прежде всех топила, а
как полюбила, сама бросилась в воду. Мне правится эта сказка. Фрау Луизе
мне всякие сказки сказывает. У фрау Луизе есть черный кот с желтыми гла-
зами...
Ася подняла голову и встряхнула кудрями.
- Ах, мне хорошо, - проговорила она.
В это мгновенье до нас долетели отрывочные, однообразные звуки. Сотни
голосов разом и с мерными остановками повторяли молитвенный напев: толпа
богомольцев тянулась внизу по дороге с крестами и хоругвями...
- Вот бы пойти с ними, - сказала Ася, прислушиваясь к постепенно ос-
лабевавшим взрывам голосов.
- Разве вы такая набожны?
- Пойти куда-нибудь далеко, на молитву, на трудный подвиг, - - про-
должала она. - А то дни уходят, жизнь уйдет, а что мы сделали?
- Вы честолюбивы, - заметил я, - вы хотите прожить не даром, след за
собой оставить...
- А разве это невозможно?
"Невозможно", - чуть было не повторил я... Но я взглянул в ее светлые
глаза и только промолвил:
- Попытайтесь.
- Скажите, - заговорила Ася после небольшого молчания, в течение ко-
торого какие-то тени пробежали у ней по лицу, уже успевшему побледнеть,
- вам очень нравилась та дама... Вы помните, брат пил за ее здоровье в
развалине, на второй день нашего знакомства?
Я засмеялся.
- Ваш брат шутил; мне ни одна дама не нравилась; по крайней мере те-
перь ни одна не нравится.
- А что вам нравится в женщинах? - спросила Ася, закинув голову с не-
винным любопытством.
- Какой странный вопрос! - воскликнул я.
Ася слегка смутилась.
- Я не должна была сделать вам такой вопрос, не правда ли? Извините
меня, я привыкла болтать все, что мне в голову входит. Оттого-то я и бо-
юсь говорить.
- Говорите, ради бога, не бойтесь, - подхватил я, - я так рад, что
вы, наконец, перестаете дичиться.
Ася опустила глаза и засмеялась тихим и легким смехом; я не знал за
ней такого смеха.
- Ну, рассказывайте же, - продолжала она, разглаживая полы своего
платья и укладывая их себе на ноги, точно она усаживалась надолго, -
рассказывайте или прочитайте что-нибудь, как, помните, вы нам читали из
"Онегина" ...
Она вдруг задумалась...
Где нынче крест и тень ветвей Над бедной матерью моей! -
проговорила она вполголоса.
- У Пушкина не так, - заметил я.
- А я хотела бы быть Татьяной, - продолжала она все так же задумчиво.
- Рассказывайте, - подхватила она с живостью.
Но мне было не до рассказов. Я глядел на нее, всю облитую ясным сол-
нечным лучом, всю успокоенную и кроткую. Все радостно сияло вокруг нас,
внизу, над нами - небо, земля и воды; самый воздух, казалось, был насы-
щен блеском.
- Посмотрите, как хорошо! - сказал я, невольно понизив голос.
- Да, хорошо! так же тихо отвечала она, не смотря на меня. - Если бы
мы с вами были птицы, - как бы мы взвились, как бы полетели... Так бы и
утонули в этой синеве... Но мы не птицы.
- А крылья могут у нас вырасти, - возразил я.
- Как?
- Поживите - узнаете. Есть чувства, которые поднимают нас от земли.
Не беспокойтесь, у вас будут крылья.
- А у вас были?
- Как вам сказать... Кажется, до сих пор я еще не летал.
Ася опять задумалась. Я слегка наклонился к ней.
- Умеете вы вальсировать? - спросила она вдруг.
- Умею, - ответил я, несколько озадаченный.
- Так пойдемте, пойдемте... Я попрошу брата сыграть нам вальс... Мы
вообразим, что мы летаем, что у нас выросли крылья.
Она побежала к дому. Я побежал вслед за нею - и несколько мгновений
спустя мы кружились в тесной комнате, под сладкие звуки Ланнера. Ася
вальсировала прекрасно, с увлечением. Что-то мягкое, женское проступило
вдруг сквозь ее девически строгий облик. Долго потом рука моя чувствова-
ла прикосновение ее нежного стана, долго слышалось мне ее ускоренное,
близкое дыхание, долго мерещились темные, неподвижные, почти закрытые
глаза на бледном, но оживленном лице, резво обвеянном кудрями.
была очень мила и проста. Гагин радовался, глядя на нее. Я ушел поздно.
Въехавши на середину Рейна, я попросил перевозчика пустить лодку вниз по
течению. Старик поднял весла - и царственная река понесла нас. Глядя
кругом, слушая, вспоминая, я вдруг почувствовал тайное беспокойство на
сердце... поднял глаза к небу - но и в небе не было покоя: испещренное
звездами, оно все шевелилось, двигалось, содрогалось; я склонился к ре-
ке... но и там, и в этой темной, холодной глубине, тоже колыхались, дро-
жали звезды; тревожное оживление мне чудилось повсюду - и тревога росла
во мне самом. Я облокотился на край лодки... Шепот ветра в моих ушах,
тихое журчанье воды за кормою меня раздражали, и свежее дыханье волны не
охлаждало меня; соловей запел на берегу и заразил меня сладким ядом сво-
их звуков. Слезы закипали у меня на глазах, но то не были слезы беспред-
метного восторга. Что я чувствовал, было не то смутное, еще недавно ис-
пытанное ощущение всеобъемлющих желаний, когда душа ширится, звучит,
когда ей кажется, что она все понимает и любит.. Нет! во мне зажглась
жажда счастья. Я еще не смел называть его по имени, - но счастья,
счастья до пресыщения - вот чего хотел я, вот о чем томился... А лодка
все неслась, и старик перевозчик сидел и дремал, наклонясь над веслами.
ли я в Асю, но я много размышлял о ней; ее судьба меня занимала, я радо-
него дня я узнал ее; до тех пор она отворачивалась от меня. И вот, когда
она раскрылась, наконец, передо мною, каким пленительным светом озарился
ее образ, как он был нов для меня, какие тайный обаяния стыдливо в нем
сквозили...
Бодро шел я по знакомой дороге, беспрестанно посматривая на издали
белевший домик, я не только о будущем - я о завтрашнем дне не думал; мне
было очень хорошо.
Ася покраснела, когда я вошел в комнату; я заметил, что она опять
принарядилась, но выражение ее лица не шло к ее наряду: оно было печаль-
но. А я пришел таким веселым! Мне показалось даже, что она, по обыкнове-
нию своему, собралась было бежать, но сделала усилие над собой - и оста-
лась. Гагин находился в том особенном состоянии художнического жара и
ярости, которое, в виде припадка, внезапно овладевает дилетантами, когда
они вообразят, что им удалось, как они выражаются, "поймать природу за
хвост". Он стоял, весь взъерошенный и выпачканный красками, перед натя-
нутым холстом и, широко размахивая по нем кистью, почти свирепо кивнул
мне головой, отодвинулся, прищурил глаза и снова накинулся на свою кар-
тину. Я не стал мешать ему и подсел к Асе. Медленно обратились ко мне ее
темные глаза.
- Вы сегодня не такая, как вчера, - заметил я после тщетных усилий
вызвать улыбку на ее губы.
- Нет, не такая, - ответила она неторопливым и глухим голосом. - Но
это ничего... Я нехорошо спала, всю ночь думала.
- О чем?
- Ах, я о многом думала. Это у меня привычка с детства: еще с того
времени, когда я жила с матушкой...
Она с усилием выговорила это слово и потом еще раз повторила:
- Когда я жила с матушкой... я думала, отчего это никто не может
знать, что с ним будет; а иногда и видишь беду - да спастись нельзя; и
отчего никогда нельзя сказать всей правды?... Потом я думала, что я ни-
чего не знаю, что мне надобно учиться. Меня перевоспитать надо, я очень
дурно воспитана. Я не умею играть на фортепьяно, не умею рисовать, я да-
же шью плохо. У меня нет никаких способностей, со мной должно быть очень
скучно.
- Вы несправедливы к себе, - возразил я. - Вы много читали, вы обра-
зованны, и с вашим умом...
- А я умна? - спросила она с такой наивной любознательностью, что я
невольно засмеялся; но она даже не улыбнулась. - Брат, я умна? - спроси-
ла она Гагина.
Он ничего не отвечал ей и продолжал трудиться, беспрестанно меняя
кисти и высоко поднимая руку.
- Я сама не знаю иногда, что у меня в голове, - продолжала Ася с тем
же задумчивым видом. - Я иногда самой себя боюсь, ей-богу. Ах, я хотела
бы... Правда ли, что женщинам не следует читать много?
- Много не нужно, но...
- Скажите мне, что я должна читать? скажите, что я должна делать? Я
все буду делать, что вы мне скажете, - прибавила она, с невинной довер-
чивостью обратясь ко мне.
Я не тотчас нашелся, что сказать ей.
- Ведь вам не будет скучно со мной?
- Помилуйте, - начал я.
- Ну, спасибо! - возразила Ася, - а я думала, что вам скучно будет.
И ее маленькая горячая ручка крепко стиснула мою.
- Н.! - вскрикнул в это мгновение Гагин, - не темен ли этот фон?
Я подошел к нему. Ася встала и удалилась.
кою.
- Послушайте, - сказала она, - если б я умерла, вам было бы жаль ме-
ня?
- Что у вас за мысли сегодня! - воскликнул я.
- Я воображаю, что я скоро умру; мне иногда кажется, что все вокруг
меня со мной прощается. Умереть лучше, чем жить так... Ах! не глядите
так на меня; я, право, не притворяюсь. А то я вас опять бояться буду.
- Разве вы меня боялись?
- Если я такая странная, я, право, не виновата, - возразила она. -
Видите, я уж и смеяться не могу...
Она осталась печальной и озабоченной до самого вечера. Что-то проис-
ходило в ней, чего я не понимал. Ее взор часто останавливался на мне;
сердце мое тихо сжималось под этим загадочным взором. Она казалась спо-
койною, а мне, глядя на нее, все хотелось сказать ей, чтобы она не вол-
новалась. Я любовался ею, я находил трогательную прелесть в ее поблед-
невших чертах, в ее нерешительных, замедленных движениях - а ей поче-
му-то воображалось, что я не в духе.
- Послушайте, - сказала она мне незадолго до прощанья, - меня мучит
мысль, что вы меня считаете легкомысленной... Вы вперед всегда верьте
тому, что я вам говорить буду, только и вы будьте со мной откровенны; а
я вам всегда буду говорить правду, даю вам честное слово...
Это "честное слово" опять заставило меня засмеяться.
- Ах, не смейтесь, - проговорила она с живостью, - а то я вам скажу
сегодня то, что вы мне сказали вчера: "Зачем вы смеетесь?" - и, помолчав
немного, она прибавила: - Помните, вы вчера говорили о крыльях?...
Крылья у меня выросли - да лететь некуда.
- Помилуйте, - промолвил я, - перед вами все пути открыты.
Ася посмотрела мне прямо и пристально в глаза.
- Вы сегодня дурного мнения обо мне, - сказала она, нахмурив брови.
- Я? дурного мнения? о вас!...
- Что вы точно в воду опущенные, - перебил меня Гагин, - хотите, я,
по-вчерашнему, сыграю вам вальс?
- Нет, нет, - возразила Ася и стиснула руки, - сегодня ни за что!
- Я тебя не принуждаю, успокойся...
- Ни за что, - повторила она, бледнея.
"Неужели она меня любит?" - думал я, подходя к Рейну, быстро кативше-
му темные волны.
что проснувшись. Я не хотел заглядывать в самого себя. Я чувствовал, что
ее образ, образ "девушки с натянутым смехом", втеснился мне в душу и что
мне от него не скоро отделаться. Я пошел в Л. и остался там целый день,
но Асю видел только мельком. Ей нездоровилось, у ней голова болела. Она
сошла вниз, на минутку, с повязанным лбом, бледная, худенькая, с почти
закрытыми глазами; слабо улыбнулась, сказала: "Это пройдет, это ничего,
все пройдет, не правда ли?" - и ушла. Мне стало скучно и как-то груст-
но-пусто; я, однако, долго не хотел уходить и вернулся поздно, не увидав
ее более.
Следующее утро прошло в каком-то полусне сознания. Я хотел приняться
за работу - не мог; хотел ничего не делать и не думать... и это не уда-
лось. Я бродил по городу; возвращался домой, выходил снова.
- Вы ли господин Н.? - раздался вдруг за мной детский голос. Я огля-
нулся; передо мною стоял мальчик. - Это вам от фрейлейн Annette, - при-
бавил он, подавая мне записку.
Я развернул ее - и узнал неправильный и быстрый почерк Аси. "Я непре-
менно должна вас видеть, - писала мне она, - приходите сегодня в четыре
часа к каменной часовне на дороге возле развалины. Я сделала сегодня
большую неосторожность... Приходите, ради бога, вы все узнаете... Скажи-
те посланному: да".
- Будет ответ? - спросил меня мальчик.
- Скажи, что да, - отвечал я.
Мальчик убежал.
лось. Несколько раз перечел я записку Аси. Я посмотрел на часы: и две-
надцати еще не было.
Дверь отворилась - вошел Гагин.
Лицо его было пасмурным. Он схватил меня за руку и крепко пожал ее.
Он казался очень взволнованным.
- Что с вами? - спросил я.
Гагин взял стул и сел против меня.
- Четвертого дня, - начал он с принужденной улыбкой и запинаясь, - я
удивил вас своим рассказом; сегодня удивлю еще более. С другим я, веро-
ятно, не решился бы... так прямо... Но вы благородный человек, вы мне
друг, не так ли? Послушайте: моя сестра, Ася, в вас влюблена.
Я вздрогнул и приподнялся...
- Ваша сестра, говорите вы...
- Да, да, - перебил меня Гагин. - Я вам говорю, она сумасшедшая и ме-
ня с ума сведет. Но, к счастью, она не умеет лгать - и доверяет мне. Ах,
что за душа у этой девочки... но она себя погубит, непременно.
- Да вы ошибаетесь, - начал я.
- Нет, не ошибаюсь. Вчера, вы знаете, она почти целый день пролежала,
ничего не ела, впрочем не жаловалась... Она никогда не жалуется. Я не
беспокоился, хотя к вечеру у нее сделался небольшой жар. Сегодня, в два
часа ночи, меня разбудила наша хозяйка: "Ступайте, говорит, к вашей
сестре: с ней что-то худо". Я побежал к Асе и нашел ее нераздетою, в ли-
хорадке, в слезах; голова у нее горела, зубы стучали. "Что с тобой? -
спросил я, - ты больна?" Она бросилась мне на шею и начала умолять меня
увезти ее как можно скорее, если я хочу, чтобы она осталась в живых... Я
ничего не понимаю, стараюсь ее успокоить... Рыдания ее усиливаются... и
вдруг сквозь эти рыдания услышал я... Ну, словом, я услышал, что она вас
любит. Уверяю вас, мы с вами, благоразумные люди, и представить себе не
можем, как она глубоко чувствует и с какой невероятной силой высказыва-
ются в ней эти чувства; это находит на нее так же неожиданно и так же
неотразимо, как гроза. Вы очень милый человек, - продолжал Гагин, - но
почему она вас так полюбила, этого я, признаюсь, не понимаю. Она гово-
рит, что привязалась к вам с первого взгляда. Оттого она и плакала на
днях, когда уверяла меня, что, кроме меня, никого любить не хочет. Она
воображает, что вы ее презираете, что вы, вероятно, знаете, кто она; она
спрашивала меня, не рассказал ли я вам ее историю, - я, разумеется, ска-
зал, что нет; но чуткость ее - просто страшна. Она желает одного: уе-
хать, уехать тотчас. Я просидел с ней до утра; она взяла с меня слово,
что нас завтра же здесь не будет, - и тогда только она заснула. Я поду-
мал, подумал и решился - поговорить с вами. По-моему, Ася права: самое
лучшее - уехать нам обоим отсюда. И я сегодня же бы увез ее, если б не
пришла мне в голову мысль, которая меня остановила. Может быть... как
знать? - вам сестра моя нравится? Если так, с какой стати я увезу ее? Я
вот и решился, отбросив в сторону всякий стыд... Притом же я сам кое-что
заметил... Я решился... узнать от вас... - Бедный Гагин смутился. - Из-
вините меня, пожалуйста, - прибавил он, - я не привык к таким передря-
гам.
Я взял его за руку.
- Вы хотите знать, - произнес я твердым голосом, - нравится ли мне
ваша сестра? Да, она мне нравится...
Гагин взглянул на меня.
- Но, - проговорил он, запинаясь, - ведь вы не женитесь на ней?
- Как вы хотите, чтобы я отвечал на такой вопрос? Посудите сами, могу
ли я теперь...
- Знаю, знаю, - перебил меня Гагин. - Я не имею никакого права требо-
вать от вас ответа, и вопрос мой - верх неприличия... Но что прикажете
делать? С огнем шутить нельзя. Вы не знаете Асю; она в состоянии зане-
мочь, убежать, свиданье вам назначить... Другая умела бы все скрыть и
выждать - но не она. С нею это в первый раз - вот что беда! Если бы вы
видели, как она сегодня рыдала у ног моих, вы бы поняли мои опасения.
Я задумался. Слова Гагина "свиданье вам назначить" кольнули меня в
сердце. Мне показалось постыдным не отвечать откровенностью на его чест-
ную откровенность.
- Да, - сказал я наконец, - вы правы. Час тому назад я получил от ва-
шей сестры записку. Вот она.
Гагин взял записку, быстро пробежал ее и уронил руки на колени. Выра-
жение изумления на его лице было очень забавным, но мне было не до сме-
ху.
- Вы, повторяю, благородный человек, - проговорил он, - но что же те-
перь делать? Как? она сама хочет уехать, и пишет к вам, и упрекает себя
в неосторожности... и когда это она успела написать? Чего ж она хочет от
вас?
Я успокоил его, и мы принялись толковать хладнокровно по мере возмож-
ности о том, что нам следовало предпринять.
Вот что мы остановились, наконец: во избежание беды я должен был идти
на свидание и честно объясниться с Асей; Гагин обязался сидеть дома и не
подать вида, что ему известна ее записка; а вечером мы положили сойтись
опять.
- Я твердо надеюсь на вас, - сказал Гагин и стиснул мне руку, - поща-
дите и ее и меня. А уезжаем мы все-таки завтра, - - прибавил он, вста-
вая, - потому что ведь вы на Асе не женитесь.
- Дайте мне сроку до вечера, - возразил я.
- Пожалуй, но вы не женитесь.
Он ушел, а я бросился на диван и закрыл глаза. Голова у меня ходила
кругом: слишком много впечатлений в нее нахлынуло разом. Я досадовал на
откровенность Гагина, я досадовал на Асю, ее любовь меня и радовала и
смущала. Я не мог понять, что заставило ее все высказать брату; неизбеж-
ность скорого, почти мгновенного решения терзала меня...
"Жениться на семнадцатилетней девочке, с ее нравом, как это можно!" -
сказал я, вставая.
шее меня на противоположном берегу, был тот самый мальчик, который при-
ходил ко мне поутру. Он, по-видимому, ждал меня.
- От фрейлейн Annette, - сказал он шепотом и подал мне другую запис-
ку.
Ася извещала меня о перемене места нашего свидания. Я должен был
прийти через полтора часа не к часовне, а в дом к фрау Луизе, постучать-
ся внизу и войти в третий этаж.
- Опять: да? - спросил меня мальчик.
- Да, - повторил я и пошел по берегу Рейна.
Сочинение М. Лермонтова. Две части. СПб., 1840
По смерти Пушкина ни одно новое имя, конечно, не блеснуло так ярко на небосклоне нашей словесности, как имя г. Лермонтова. Талант решительный и разнообразный, почти равно владеющий и стихом, и прозою. Бывает обыкновенно, что поэты начинают лиризмом: их мечта сначала носится в этом неопределенном эфире поэзии, из которого потом иные выходят в живой и разнообразный мир эпоса, драмы и романа, другие же остаются в нем навсегда. Талант г-на Лермонтова обнаружился с самого начала и в том, и в другом роде: он и одушевленный лирик, и замечательный повествователь. Оба мира поэзии, наш внутренний, душевный, и внешний, действительный, равно для него доступны. Редко бывает, чтобы в таком молодом таланте жизнь и искусство являлись в столь неразрывной и тесной дружбе. Почти всякое произведение г-на Лермонтова есть отголосок какой-нибудь сильно прожитой минуты. При самом начале поприща замечательны эта меткая наблюдательность, эта легкость, это уменье, с каким повествователь схватывает цельные характеры и воспроизводит их в искусстве. Опыт не может быть еще так силен и богат в эти годы; но в людях даровитых он заменяется каким-то предчувствием, которым они постигают заранее тайны жизни. Судьба, ударяя по такой душе, приявшей при своем рождении дар предугадания жизни, тотчас открывает в ней источник поэзии: так молния, случайно падая в скалу, таящую в себе источник воды живой, отверзает ему исход... и новый ключ бьет из открытого лона.
Верное чувство жизни дружно в новом поэте с верным чувством изящного. Его сила творческая легко покоряет себе образы, взятые из жизни, и дает им живую личность. На исполнении видна во всем печать строгого вкуса: нет никакой приторной выисканности, и с первого раза особенно поражают эта трезвость, эта полнота и краткость выражения, которые свойственны талантам более опытным, а в юности означают силу дара необыкновенного. В поэте, в стихотворце еще более, чем в повествователе, видим мы связь с его предшественниками, подмечаем их влияние, весьма понятное, ибо новое поколение должно начинать там, где другие кончили; в поэзии, при всей внезапности ее самых гениальных явлений, должна же быть память предания. Поэт, как бы ни был оригинален, а все имеет своих воспитателей. Но мы заметим с особенным удовольствием, что влияния, каким подвергался новый поэт, разнообразны, что нету него исключительно какого-нибудь любимого учителя. Это самое уже говорит в пользу его оригинальности. Но есть многие произведения, в которых и по стилю виден он сам, заметна яркая его особенность.
С особенным радушием готовы мы на первых страницах нашей критики приветствовать свежий талант при его первом явлении и охотно посвящаем подробный и искренний разбор "Герою нашего времени", как одному из замечательнейших произведений нашей современной словесности.
После англичан как народа, на своих кораблях, окрыленных парами, объемлющего все земли мира, конечно, нет другого, который бы в своих литературных произведениях мог представить такое богатое разнообразие местности, как русские. В Германии, при скудном мире действительности, поневоле будешь, как Жан-Поль или Гофман, пускаться в мир фантазии и ее созданиями несколько заменять однообразную бедность существенного быта природы. Но то ли дело у нас! Все климаты под рукою; столько народов, говорящих языками неузнанными и хранящих у себя непочатые сокровища поэзии; у нас человечество во всех видах, какие имело от времен гомерических до наших. Прокатитесь по всему пространству России в известное время года - и вы проедете через зиму, осень, весну и лето. Северные сияния, ночи жаркого юга, огненные льды морей северных, небесная лазурь полуденных, горы в вечных снегах, современные миру; плоские степи без одного пригорочка; реки-моря, плавно текущие; реки-водопады, питомицы гор; болота с одною клюквой; виноградные сады; поля с тощим хлебом; поля, усеянные рисом; петербургские салоны со всем щегольством и роскошью нашего века; юрты кочующих народов, еще не получивших оседлости; Тальони на сцене великолепно освещенного театра, при звуках европейского оркестра; тяжелая камчадалка перед юкагирами, при стуке диких инструментов... И все это у нас, в одно время, в одну минуту бытия!.. И вся Европа под руками... И через семь дней мы теперь в Париже... И где нас нет?.. Мы везде, на пароходах Рейна, Дуная, около берегов Италии... Мы везде, может быть, кроме своей России...
Чудная земля!.. что если бы можно было взлететь над тобою высоко-высоко и окинуть тебя вдруг одним взглядом!.. О том мечтал еще Ломоносов, но мы старика уже забываем.
Все гениальные поэты наши сознавали это великолепное разнообразие русской местности... Пушкин, после первого своего произведения, родившегося в чистой области фантазии, вскормленной Ариостом, начал с Кавказа писать первую свою картину из действительной жизни... Потом Крым, Одесса, Бессарабия, внутренность России, Петербург, Москва, Урал питали попеременно его разгульную Музу...
Замечательно, что новый поэт наш начинает также Кавказом... Недаром фантазия многих наших писателей увлеклась этою страною. Здесь, кроме великолепного ландшафта природы, обольщающего очи поэта, сходятся в вечной непримиримой вражде Европа и Азия. Здесь Россия, граждански устроенная, ставит отпор этим вечно рвущимся потокам горных народов, не знающим, что такое договор общественный... Здесь вечная борьба наша, незаметная для исполина России... Здесь поединок двух сил, образованной и дикой... Здесь жизнь!.. Как же не рваться сюда воображению поэта?
Привлекательна для него эта яркая противоположность двух народов, из которых жизнь одного выкроена по мерке европейской, связана условиями принятого общежития; жизнь другого дика, необузданна и не признает ничего, кроме вольности. Здесь наши искусственные, выисканные страсти, охлажденные светом, сходятся с бурными естественными страстями человека, не покорившегося никакой узде разумной. Здесь встречаются крайности любопытные и разительные для наблюдателя-психолога. Этот мир народа, совершенно отличный от нашего, уже сам по себе поэзия: мы не любим того, что обыкновенно, что всегда нас окружает, на что мы нагляделись и чего наслушались.
Отсюда нам понятно, почему дарование поэта, о котором мы говорим, раскрылось так быстро и свежо при виде гор Кавказа. Картины величавой природы сильно действуют на восприимчивую душу, рожденную для поэзии, и она распускается скоро, как роза при ударе лучей утреннего солнца. Ландшафт был готов. Яркие образы жизни горцев поразили поэта; с ними смешались воспоминания столичной жизни; общество светское мигом перенесено в ущелья Кавказа - и все это оживила мысль художника.
Объяснив несколько возможность явления кавказских повестей, мы перейдем к подробностям. Обратим внимание по порядку на картины природы и местности, на характеры лиц, на черты жизни светской и потом сольем все это в характере героя повестей, в котором, как в средоточии, постараемся уловить и главную мысль автора.
Марлинский приучил нас к яркости и пестроте красок, какими любил он рисовать картины Кавказа. Пылкому воображению Марлинского казалось мало, только что покорно наблюдать эту великолепную природу и передавать ее верным и метким словом. Ему хотелось насиловать образы и язык; он кидал краски со своей палитры гуртом, как ни попало, и думал: чем будет пестрее и цветнее, тем более сходства у списка с оригиналом. Не так рисовал Пушкин: его кисть была верна природе и с тем вместе идеально прекрасна. В его "Кавказском пленнике" ландшафт снежных гор и аулов загородил или, лучше, подавил собою все событие: здесь люди для ландшафта, как у Клавдия Лорреня, а не ландшафт для людей, как у Николая Пуссеня или Доменикино. Но "Кавказский пленник" был почти уж забыт читателями с тех пор, как "Аммалат-Бек" и "Мулла Hyp" пестротою щедро наляпанных красок бросились им в глаза.
Потому с особенным удовольствием можем мы заметить в похвалу нового кавказского живописца, что он не увлекся пестротою и яркостью красок, а, верный вкусу изящного, покорил трезвую кисть свою картинам природы и списывал их без всякого преувеличения и приторной выисканности. Дорога через Гут-гору и Крестовую, Койшаурская долина описаны верно и живо. Кто не бывал на Кавказе, но видел Альпы, тот может отгадать, что это должно быть верно. Но, впрочем, должно заметить, что автор не слишком любит останавливаться на картинах природы, которые мелькают у него только эпизодически. Он предпочитает людей и торопится мимо ущелий кавказских, мимо бурных потоков, к живому человеку, к его страстям, к его радостям и горю, и его быту, образованному и кочевому. Оно и лучше: это добрый признак в развивающемся таланте.
К тому же, картины Кавказа так часто нам были описываемы, что не худо погодить повторением их во всей подробности. Автор очень искусно поставил их в самой дали - и они у него не застят события. Любопытнее для нас картины самой жизни горцев или жизни нашего общества среди великолепной природы. Так и сделал автор. В двух главных повестях своих: "Бэле" и "Княжне Мери", он изобразил две картины, из которых первая взята более из жизни племен кавказских, вторая - из светской жизни русского общества. Там черкесская свадьба с ее условными обрядами, лихие набеги внезапных наездников, страшные абреки, арканы их и казачьи, вечная опасность, торговля скотом, похищения, чувство мести, нарушение клятв. Там Азия, которой люди, по словам Максима Максимовича, "что реки: никак нельзя положиться!"... Но всего живее, всего выразительнее эта история похищения коня, Карагёза, которая входит в завязку повести...
Она метко схвачена из жизни горцев. Конь для черкеса все. На нем он царь всего мира и посмеивается судьбе. Был у Казбича конь Карагёз, вороной, как смоль, ноги-струнки, а глаза не хуже, чем у черкешенки. Казбич влюблен в Бэлу, но не хочет ее за коня... Азамат, брат Бэлы, выдает сестру свою, лишь бы только отнять коня у Казбича... Вся эта повесть вынута прямо из нравов черкесских.
В другой картине вы видите русское образованное общество. На эти великолепные горы, гнездо дикой и вольной жизни, оно привозит с собою свои недуги телесные - плоды его искусственной жизни - и недуги душевные, привитые к нему из чужи. Тут пустые, холодные страсти, тут затейливость душевного разврата, тут скептицизм, мечтания, сплетни, интриги, бал, игра, дуэль... Как мелок весь этот мир у подножия Кавказа! Люди в самом деле покажутся муравьями, когда посмотришь на эти их страсти с высоты гор, касающихся неба.
Весь этот мир - верный Сколок с живой и пустой нашей действительности. Он везде один и тот же... в Петербурге и Москве, на водах Кисловодска и Эмса. Везде он разносит праздную лень свою, злоязычие, мелкие страсти. Чтобы показать автору, что мы во всем должным вниманием следили все подробности его картин и сличали их с действительностью, - мы берем смелость сделать два замечания, которые касаются нашей Москвы. Романист, изображая лица, заимствуемые из жизни светской, вмещает в них обыкновенно общие черты, принадлежащие целому сословию. Между прочим, выводит он княгиню Лиговскую из Москвы и характеризует ее словами: "Она любит соблазнительные анекдоты и сама говорит иногда неприличные вещи, когда дочери нет в комнате". Это черта вовсе неверная и грешит против местности. Правда, что княгиня Лиговская провела только последнюю половину своей жизни в Москве; но так как ей в повести 45 лет, то мы думаем, что в 22 с половиною года тон московского общества мог бы отучить ее и от этой привычки, если бы даже где-нибудь она ее получила. С некоторых пор ввелось в моду у наших журналистов и повествователей нападать на Москву и взводить на нее напраслины ужасные... Все, чему будто бы нельзя сбыться в другом городе, отсылается в Москву... Москва под пером наших повествователей является не только каким-нибудь Китаем, ибо, благодаря путешественникам, и об Китае мы знаем верные известия, - нет, она является, скорее, какою-то Атлантидою, складочного небылиц, куда романисты наши сносят все, что ни создаст каприз их своенравной фантазии... Даже не так давно (мы будем искренни перед публикою) один из наших самых любезных романистов, увлекающий читателей остроумием и живостью рассказа, иногда весьма верно подмечающий нравы нашего общества, придумал, что будто бы в Москве какой-то безграмотный стихоплет, приехавший из провинции держать экзамен студента и не выдержавший его, произвел такую суматоху в нашем обществе, такие разговоры, такое стечение карет, что уж будто и полиция это заметила... У нас, к сожалению, есть, как и везде, безграмотные поэты, не способные выдержать студенческий экзамен... Но когда же бывала от них такая неслыханная суматоха?... Когда же провинция насылала нам такие дива дивные?... Впрочем, этот вымысел, по крайней мере, добродушен... Он даже по основной мысли говорит в пользу нашей столицы. Бывали примеры у нас, что приезд поэта, конечно, не безграмотного, но известного, составлял событие в жизни нашего общества... Вспомним первое появление Пушкина, и мы можем гордиться таким воспоминанием... Мы еще теперь видим, как во всех обществах, на всех балах первое внимание устремлялось на нашего гостя, как в мазурке и котильоне наши дамы выбирали поэта беспрерывно... Прием от Москвы Пушкину - одна из замечательнейших страниц его биографии. Но бывают в иных повестях и клеветы злоумышленные на нашу столицу. Мы охотно думаем, что автор "Героя нашего времени" стоит выше этого, тем более, что он сам в одном из замечательных своих стихотворений уже нападал на эти клеветы от лица публики. Вот что вложил он в уста современному читателю:
А если вам и попадутся
Рассказы на родимый лад -
То, верно, над Москвой смеются
Или чиновников бранят.
Но в повестях у нашего автора мы встретили не один поклеп на наших княгинь в лице княгини Литовской, которая, впрочем, может составить исключение... Нет, вот еще эпиграмма и на московских княжен, что будто бы они смотрят на молодых людей с некоторым презрением, что это даже московская привычка, что они в Москве только и питаются сорокалетними остряками. Все эти замечания, правда, вложены в уста доктору Вернеру, который, впрочем, по словам автора, отличается зорким глазом наблюдателя, но только не в этом случае... Видно, что он жил в Москве недолго, во время своей молодости, и какой-нибудь случай, лично до него относившийся, принял за общую привычку... Он же заметил, что московские барышни пускаются в ученость, и прибавляет: хорошо делают! - и мы весьма охотно тоже прибавим. Заниматься литературой еще не значит пускаться в глубокую ученость; но пускай московские барышни этим занимаются. Чего же лучше для литераторов и для самого общества, которое может только выиграть от таких занятий прекрасного пола? Не лучше ли это, чем карты, чем сплетни, чем россказни, чем пересуды?.. Но возвратимся от эпизода, позволенного местными нашими отношениями, к самому предмету.
От очерка двух главных картин из кавказской и светской русской жизни перейдем к характерам. Начнем с побочных, но не с героя повестей, о котором мы должны говорить подробнее, ибо в нем - и главная связь произведения с нашею жизнию, и идея автора. Из побочных лиц первое место мы, конечно, должны отдать Максиму Максимовичу. Какой цельный характер коренного русского добряка, в которого не проникла тонкая зараза западного образования; который, при мнимой наружной холодности воина, наглядевшегося на опасности, сохранил весь пыл, всю жизнь души; который любит природу внутренно, ею не восхищаясь, любит музыку пули, потому что сердце его бьется при этом сильнее... Как он ходит за больною Бэлою! Как утешает ее! С каким нетерпением ждет старого знакомца - Печорина, услышав о его возврате! Как грустно ему, что Бэла при смерти не вспоминала об нем! Как тяжко его сердцу, когда Печорин равнодушно протянул ему холодную руку! Как он верит еще в чувства любви и дружбы! Свежая, непочатая природа! Чистая, детская душа в старом воине! Вот тип этого характера, в котором отзывается наша Древняя Русь! И как он высок своим христианским смирением, когда, отрицая свои качества говорит: "Что же я такое, чтобы обо мне вспоминать перед смертью?" Давно, давно мы не встречались в литературе нашей с таким милым и живым характером, который тем приятнее для нас, что взят из коренного русского быта. Мы даже посетовали на автора за то, что он (с. 132 ч. 1) как будто не разделяет благородного негодования с Максимом Максимовичем в ту минуту, как "Печорин в рассеянности или от другой причины протянул ему руку, когда тот хотел кинуться ему на шею".
За Максимом Максимовичем следует Грушницкий. Его личность, конечно, непривлекательна. Это в полном смысле слова пустой малый. Он тщеславен... Не имея чем гордиться, он гордится своею серою юнкерскою шинелью. Он любит без любви. Он играет роль разочарованного - и вот почему он не нравится Печорину; сей последний не любит Грушницкого по тому же самому чувству, по какому нам свойственно не любить человека, который нас передразнивает и превращает то в пустую маску, что в нас есть живая существенность. В нем даже нет и того чувства, которым отличались прежние наши военные, чувства чести. Это какой-то выродок из их общества, способный к самому подлому и черному поступку. Автор примиряет нас несколько с этим созданием своим незадолго перед его смертью, когда Грушницкий сам сознается в том, что презирает себя.
Доктор Вернер - материалист и скептик, как многие доктора нового поколения. Он должен был понравиться Печорину, потому что они оба понимают друг друга. Особенно остается в памяти живое описание его лица (с. 25, ч. 2). Оба черкеса в "Бэле", Казбич и Азамат, описаны общими чертами, принадлежащими этому племени, в котором единичное различие характеров не может еще дойти до такой степени, как в кругу общества с развитым образованием.
Обратим внимание на женщин, особенно на двух героинь, которые обе достались в жертву герою. Бэла и княжна Мери образуют между собою две яркие противоположности, как те два общества, из которых каждая вышла, и принадлежат к числу замечательнейших созданий поэта, особенно первая. Бэла - это дикое, робкое дитя природы, в котором чувство любви развивается просто, естественно, и, развившись однажды, становится незалечимою раною сердца. Не такова княжна - произведение общества искусственного, в которой фантазия была раскрыта прежде сердца, которая заранее вообразила себе героя романа и хочет насильно воплотить его в каком-нибудь из своих обожателей. Бэла очень просто полюбила того человека, который, хотя и похитил ее из дому родительского, но сделал это по страсти к ней, как она думает: он сначала посвятил себя всего ей, он задарил дитя подарками, он услаждает все ее минуты; видя ее холодность, он притворяется отчаянным и готовым на все... Не такова княжна: в ней все природные чувства подавлены какою-то вредною мечтательностию, каким-то искусственным воспитанием. Мы любим в ней то сердечное человеческое движение, которое заставило ее поднять стакан бедному Грушницкому, когда он, опираясь на свой костыль, тщетно хотел к нему наклониться; мы понимаем и то, что она в это время покраснела; но нам досадно на нее, когда она оглядывается на галерею, боясь, чтобы мать не заметила ее прекрасного поступка. Мы совсем не сетуем за то на автора: напротив, мы отдаем всю справедливость его наблюдательности, которая искусно схватила черту предрассудка, не приносящего чести обществу, именующему себя христианским. Мы прощаем княжне и то, что она увлеклась в Грушницком его серою шинелью и занялась в нем мнимою жертвою гонений судьбы... Заметим мимоходом, что это черта не новая, взятая с другой княжны, нарисованной нам одним из лучших наших повествователей. Но в княжне Мери это проистекло едва ли из естественного чувства сострадания, которым, как перлом, может гордиться русская женщина... Нет, в княжне Мери это был порыв выисканного чувства... Это доказала впоследствии любовь ее к Печорину. Она полюбила в нем то необыкновенное, чего искала, тот призрак своего воображения, которым увлеклась так легкомысленно... Тут мечта перешла из ума в сердце, ибо и княжна Мери способна также к естественным чувствованиям... Бэла своею ужасною смертию дорого искупила легкомыслие памяти своей об умершем отце. Но княжна своею участью только что получила заслуженное... Резкий урок всем княжнам, у которых природа чувства подавлена искусственным воспитанием и сердце испорчено фантазиею! Как мила, как грациозна эта Бэла в ее простоте! Как приторна княжна в обществе мужчин со всеми рассчитанными ее взглядами! Бэла поет и пляшет, потому что ей хочется петь и плясать и потому что она веселит тем своего друга. Княжна Мери поет для того, чтобы ее слушали, и досадует, когда не слушают. Если бы можно было слить Бэлу и Мери в одно лицо: вот был бы идеал женщины, в которой природа сохранилась бы во всей своей прелести, а светское образование явилось бы не одним наружным лоском, а чем-то более существенным в жизни.
Мы не считаем за нужное упоминать об Вере, которая есть лицо вставочное, не привлекательное ничем. Это одна из жертв героя повестей - и еще более жертва авторской необходимости, чтобы запутать интригу. Мы не обращаем также подробного внимания на два маленькие эскиза: "Тамань" и "Фаталист", при двух значительнейших. Они только служат дополнением к тому, чтобы развить более характер героя, особенно последняя повесть, где виден фатализм Печорина, согласный со всеми прочими его свойствами. Но в "Тамани" мы не можем без внимания пропустить этой контрабандистки, причудливого создания, в котором отчасти слились воздушная неопределенность очертаний гётевой Миньоны, на что намекает и сам автор, и грациозная дикость Эсмеральды Гюго.
Но все эти события, все характеры и подробности примыкают к герою повести, Печорину, как нити паутины, обремененной яркими крылатыми насекомыми, примыкают к огромному пауку, который опутал их своею сетью. Вникнем же подробно в характер героя повести - ив нем раскроем главную связь произведения с жизнью, равно и мысль автора.
Печорин 25-ти лет. С виду он еще мальчик; вы дали бы ему не более 23-х, но, вглядевшись пристальнее, вы, конечно, дадите ему и 30. Лицо его хотя бледно, но еще свежо; по долгом наблюдении вы заметите в нем следы морщин, пересекающих одна другую. Кожа его имеет женскую нежность; пальцы бледны и худы; во всех движениях тела признаки нервической слабости. Когда он сам смеется, глаза его не смеются... потому что в глазах горит душа, а душа в Печорине уже иссохла. Но что ж это за мертвец двадцатипятилетний, увядший прежде срока? Что за мальчик, покрытый морщинами старости? Какая причина такой чудесной метаморфозы? Где внутренний корень болезни, которая иссушила его душу и ослабила тело? Но послушаем его самого. Вот что он сам говорит о своей юности.
В первой его молодости, с той минуты, когда он вышел из опеки родных, он стал наслаждаться бешено всеми удовольствиями, которые можно достать за деньги, и, разумеется, удовольствия эти ему опротивели. Он пустился в большой свет: общество ему надоело; он влюблялся в светских красавиц, был любим, но их любовь раздражала только его воображение и самолюбие, а сердце оставалось пусто... Он стал учиться - и науки ему надоели. Тогда ему стало скучно: на Кавказе он хотел разогнать свою скуку чеченскими пулями, но ему стало еще скучнее. Его душа, говорит он, испорчена светом, воображение беспокойно, сердце ненасытно, ему все мало, а жизнь его становится пустее день ото дня... Есть болезнь физическая, которая носит в простонародии неопрятное название собачьей старости: это вечный голод тела, которое ничем насытиться не может. Этой болезни физической соответствует болезнь душевная - скука - вечный голод развратной души, которая ищет сильных ощущений и ими насытиться не может. Это самая высшая степень апатии в человеке, проистекающей от раннего разочарования, от убитой или промотанной юности. То, что бывает только апатиею в душах, рожденных без энергии, восходит на степень голодной, ненасытной скуки в душах сильных, призванных к действию. Болезнь одна и та же и по корню своему, и по характеру, но разнится только по тому темпераменту, на который нападает. Эта болезнь убивает все чувства человеческие, даже сострадание. Вспомним, как Печорин обрадовался было раз, когда заметил в себе это чувство после разлуки с Верою. Мы не верим тому, чтобы в этом живом мертвеце могла сохраниться любовь к природе, которую приписывает ему автор. Мы не верим, чтобы он мог забываться в ее картинах. В этом случае автор портит цельность характера - и едва ли своему герою не приписывает собственного своего чувства. Человек, который любит музыку только для пищеварения, может ли любить природу?
Евгений Онегин, участвовавший несколько в рождении Печорина, страдал тою же болезнию; но она в нем осталась на низшей степени апатии, потому что Евгений Онегин не был одарен энергиею душевной; он не страдал сверх апатии гордостью духа, жаждою власти, которою страдает новый герой. Печорин скучал в Петербурге, скучал на Кавказе, едет скучать в Персию; но эта скука его не проходит даром для тех, которые его окружают. Рядом с нею воспитана в нем неодолимая гордость духа, которая не знает никакой преграды и которая приносит в жертву все, что ни попадается на пути скучающему герою, лишь бы только было ему весело. Печорин захотел кабана во что бы то ни стало, он его достанет. У него врожденная страсть противоречить, как у всех людей, страдающих властолюбием духа. Он неспособен к дружбе, потому что дружба требует уступок, обидных для его самолюбия. Он смотрит на все случаи своей жизни, как на средства для того, чтобы найти какое-нибудь противоядие скуке, его снедающей. Высшее его веселье - разочаровывать других! Необъятное ему наслаждение - сорвать цветок, подышать им минуту и бросить его! Он сам сознается, что чувствует в себе эту ненасытную жадность, поглощающую все, что встречается на его пути; он смотрит на страдания и радости других только в отношении к себе, как на пишу, поддерживающую его душевные силы. Честолюбие подавлено в нем обстоятельствами, но оно проявилось в другом виде, в жажде власти, в удовольствии подчинять своей воле все, что его окружает... Самое счастие, по его мнению, есть только насыщенная гордость... Первое страдание дает ему понятие об удовольствии мучить другого... Бывают минуты, что он понимает Вампира... Половина души его высохла, а осталась другая, живущая только затем, чтобы мертвить все ее окружающее... Мы слили в одно все черты этого ужасного характера - и нам стало страшно при виде внутреннего портрета Печорина!
На кого же он напал в порывах своего неукротимого властолюбия? На ком испытывает непомерную гордость души своей? На бедных женщинах, которых презирает. Взгляд его на прекрасный пол обнаруживает материалиста, начитавшегося французских романов новой школы. Он замечает в женщинах породу, как в лошадях; все приметы, какие ему нравятся в них, касаются только свойств телесных; его занимают правильный нос, или бархатные глаза, или белые зубы, или какой-то тонкий аромат... По его мнению, первое прикосновение решает все дело в любви. Если женщина дает ему только почувствовать, что он должен на ней жениться, - прости, любовь! Его сердце превращается в камень... Одно препятствие только раздражает в нем мнимое чувство нежности... Вспомним, как при возможности потерять Веру, она стала ему дороже всего... Он бросился на коня и полетел к ней... Конь издох на пути - и он плакал, как ребенок, потому только, что не мог достичь своей цели, потому что его неприкосновенная власть как будто была обижена... Но он с досадою припоминает эту минуту слабости и говорит, что всякий, взглянув на его слезы, отвернулся бы от него с презрением. Как в этих словах слышна его непреклонная гордость!
Этому двадцатипятилетнему сластолюбцу попадалось на пути его много женщин, но особенно замечательны были две: Бэла и княжна Мери.
Первую развратил он чувственно - и сам увлекся чувствами. Вторую развратил душевно, потому что не мог развратить чувственно; он без любви шутил и играл любовью, он искал развлечения своей скуке, он забавлялся княжною, как сытая кошка забавляется мышью... и тут не избежал скуки, потому что как человек опытный в делах любви, как знаток женского сердца он предугадывал заранее всю драму, которую по прихоти своей разыгрывал... Раздражив мечту и сердце несчастной девушки, он кончил все тем, что сказал ей: я не люблю вас.
Мы никак не думаем, чтобы прошедшее сильно действовало на Печорина, чтобы он ничего не забывал, как он говорит в своем журнале... Эта черта ни из чего не вытекает, и ею нарушена опять цельность этого характера. Человек, который, похоронив Бэлу, мог в тот же день засмеяться и при напоминании об ней Максима Максимовича только слегка побледнеть и отвернуться, - такой человек не способен подчинять себя власти прошедшего. Это душа сильная, но черствая, по которой все впечатления скользят почти неприметно. Это холодный и расчетливый esprit fort22, который не может быть способен ни пленяться природою, требующею чувства, ни хранить в себе следов минувшего, слишком тяжкого и щекотливого для его самости. Эти эгоисты обыкновенно берегут себя и стараются избегать неприятных ощущений. Вспомним, как Печорин закрыл глаза, заметив между расселинами скал окровавленный труп им убитого Грушницкого... Это сделал он затем только, чтобы избегнуть неприятного впечатления. Если автор приписывает Печорину такую власть прошедшего над ним, то едва ли это не с тем, чтобы оправдать несколько возможность его журнала. Мы же думаем, что такие люди, как Печорин, не ведут и не могут вести своих записок, - и вот главная ошибка в отношении к исполнению. Гораздо лучше бы было, если бы автор рассказал все эти события от своего имени: так искустнее бы он сделал и в отношении к возможности вымысла, и в художественном, ибо своим личным участием как рассказчика мог бы несколько смягчить неприятность нравственного впечатления, производимого героем повести. Такая ошибка повлекла за собою и другую: рассказ Печорина нисколько не отличается от рассказа самого автора, а, конечно, характер первого должен бы был отразиться особенною чертою в самом слоге его журнала.
Извлечем же в нескольких словах все то, что мы сказали о характере героя. Апатия, следствие развращенной юности и всех пороков воспитания, породила в нем томительную скуку; скука же, сочетавшись с непомерною гордостью духа властолюбивого, произвела в Печорине злодея. Главный же корень всему злу - западное воспитание, чуждое всякому чувству веры. Печорин, как он сам говорит, убежден в одном только, что он в один прегадкий вечер родился, что хуже смерти и будто бы ничего не случится, а смерти не минуешь. Эти слова - ключ ко всем его подвигам: в них разгадка всей его жизни. А между тем, это душа была сильная, душа, которая могла совершить что-то высокое... Он сам в одном месте своего журнала сознает в себе это признание, говоря: "Зачем я жил? Для какой цели я родился?.. А, верно, она существовала, и, верно, было мне назначение высокое, потому что я чувствую в душе моей силы... Из горнила страстей пустых и неблагодарных я вышел тверд и холоден, как железо, но утратил навеки пыл благородных стремлений..." Когда взглянешь на силу этой погибшей души, то становится жаль ее, как одну из жертв тяжкой болезни века...
Исследовав подробно характер героя повести, в котором сосредоточиваются все события, мы приходим к двум главным вопросам, разрешением которых заключим свое рассуждение: 1) как связан этот характер с современною жизнию? 2) возможен ли он в мире изящного искусства?
Но прежде чем разрешать эти два вопроса, обратимся к самому автору и спросим его: что он сам думает о Печорине? Не даст ли нам он какого-нибудь намека на свою мысль и на ее связь с жизнию современною?
На 140 странице в 1-й части говорит
"Может быть, некоторые читатели захотят узнать мое мнение о характере Печорина. Мой ответ - заглавие этой книги. - Да это злая ирония, скажут они. - Не знаю".
Если это так, стало быть, век наш тяжко болен - ив чем же заключается главный недуг его? Если судить по тому больному, которым дебютирует фантазия нашего поэта, то этот недуг века заключается в гордости духа и в низости пресыщенного тела! И в самом деле, если обратимся мы на Запад, то найдем, что горькая ирония автора есть тяжкая правда. Век гордой философии, которая духом человеческим думает постигнуть все тайны мира, и век суетной промышленности, которая угождает наперерыв всем прихотям истощенного наслаждениями тела, - такой век этими двумя крайностями выражает сам собою недуг, его одолевающий. Не гордость ли человеческого духа видна в этих злоупотреблениях личной свободы воли и разума, какие заметны во Франции и Германии? Разврат нравов, унижающий тело, не есть ли зло, признанное необходимым у многих народов Запада и вошедшее в их обычаи? Между этими двумя крайностями как не погибнуть, как не иссохнуть душе без питательной любви, без веры и надежды, которыми только и может поддерживаться ее земное существование?
Поэзия доносила нам также об этом ужасном недуге века. Проникните всею силою мысли в глубину величайших ее произведений, в которых она бывает всегда верна современной жизни и отгадывает все ее задушевные тайны. Что выразил Гёте в своем Фаусте, этом полном типе нашего века, если не тот же недуг? Фауст не представляет ли гордость несытого ничем духа и сластолюбие, соединенные вместе? Манфред и Дон-Жуан Байрона - не суть ли это обе половины, слитые в Фаусте в одно, из которых каждая явилась у Байрона отдельно в особом герое? Манфред не есть ли гордость человеческого духа? Дон-Жуан - не олицетворенное ли сластолюбие? Все эти три героя - три великие недужные нашего века, три огромные идеала, в которых поэзия совокупила все то, что в разрозненных чертах представляет болезнь современного человечества. Этими исполинскими характерами, которые создало воображение двух величайших поэтов нашего столетия, питается по большей части вся поэзия современного Запада, по мелочам изображая то, что в созданиях Гёте и Байрона является в поразительной и великой целости. Но в этом-то и состоит одна из многих причин упадка западной поэзии: то, что идеально велико в "Фаусте", "Манфреде" и "Дон-Жуане", то, что имеет в них значительность всемирную в отношении к современной жизни, то, что возведено до художественного идеала, низводится во множестве французских, английских и других драм, поэм и повестей до какой-то пошлой и низкой действительности! Зло, будучи в себе нравственно безобразно, может быть допущено в мир изящного только при условии глубокого нравственного значения, которым несколько смягчается его само по себе отвратительное существо. Зло как главный предмет художественного произведения может быть изображаемо только крупными чертами идеального типа. Таким является оно в "Аду" у Данта, в "Макбете" Шекспира и, наконец, в трех великих произведениях нашего века. Поэзия может избирать недуги сего последнего главными предметами своих созданий, но только в широких, значительных размерах; если же она будет дробить их по мелочам, вникать во все подробности гниения жизни и здесь черпать главное вдохновение для маленьких своих созданий, тогда унизит она свое бытие и изящное, и нравственное, и сойдет ниже самой действительности. Поэзия допускает иногда зло героем в свой мир, но в виде титана, а не пигмея. Потому-то одни только гениальные поэты первой степени осиливали трудную задачу изобразить какого-нибудь Макбета или Каина. Не считаем за нужное прибавлять, что, кроме того, зло везде может быть введено эпизодически, ибо жизнь наша не из одного же добра слагается.
Великий недуг, отражающийся в великих произведениях поэзии века, был на Западе результатом тех двух болезней, о которых я имел случай говорить, представляя читателям свой взгляд на современное образование Европы. Но откуда же, из каких же данных у нас мог бы развиться тот же недуг, каким страдает Запад? Чем мы его заслужили? Если мы в нашем близком знакомстве с ним и могли заразиться чем-нибудь, то, конечно, одним только недугом воображаемым, но не действительным. Выразимся примером: случается нам иногда, после долгих коротких сношений с опасно больным человеком, вообразить, что мы сами хвораем тою же самою болезнию. Вот, по нашему мнению, где заключается разгадка созданию того характера, который мы разбираем.
Печорин, конечно, не имеет в себе ничего титанического; он и не может иметь его; он принадлежит к числу тех пигмеев зла, которыми так обильна теперь повествовательная и драматическая литература Запада. В эти словах ответ наш на второй из двух вопросов, предложенных выше, на вопрос эстетический. Но не в этом еще главный его недостаток. Печорин не имеет в себе ничего существенного относительно к чисто русской жизни, которая из своего прошедшего не могла извергнуть такого характера. Печорин есть один только призрак, отброшенный на нас Западом, тень его недуга, мелькающая в фантазии наших поэтов, un mirage de l"occident (западный мираж (фр.))... Там он герой мира действительного, у нас только герой фантазии - ив этом смысле герой нашего времени... Вот существенный недостаток произведения... С тою же самою искренностию, с какою мы сначала приветствовали блистательный талант автора в создании многих цельных характеров, в описаниях, в даре рассказа, с тою же искренностию порицаем мы главную мысль создания, олицетворившуюся в характере героя. Да, и великолепный ландшафт Кавказа, и чудные очерки горской жизни, и грациозно-наивная Бэла, и искусственная княжна, и фантастическая шалунья "Тамани", и славный, добрый Максим Максимович, и даже пустой малый Грушницкий, и все тонкие черты светского общества России, все, все приковано в повестях к призраку главного характера, который из этой жизни не истекает, все принесено ему в жертву - ив этом главный и существенный недостаток изобретения.
Несмотря на то, произведение нового поэта, и в своем существенном недостатке, имеет глубокое значение в нашей русской жизни. Бытие наше делится, так сказать, на две резкие, почти противоположные половины, из которых одна пребывает в мире существенном, в мире чисто русском, другая - в каком-то отвлеченном мире призраков: мы живем на самом деле своею русскою жизнию и думаем, мечтаем жить еще жизнию Запада, с которым не имеем никаких существенных соприкосновений в истории прошедшего. В нашей коренной, в нашей действительной русской жизни мы храним богатое зерно для будущего развития, которое, будучи удобрено одними только полезными плодами образования западного без его вреднмх зелий, на нашей свежей почве может разрастись деревом великолепным; но в нашей мечтательной жизни, которую навевает на нас Запад, мы нервически, воображаемо, страдаем его недугами и детски примериваем на лицо свое маску разочарования, у нас ни из чего не вытекающего. Потому-то мы во сне своем, в этом страшном кошмаре, которым душит нас Мефистофель-Запад, кажемся сами себе гораздо хуже, нежели мы наделе. Примените это к разбираемому произведению, и оно вам совершенно будет ясно. Все содержание повестей г-на Лермонтова, кроме Печорина, принадлежит нашей существенной русской жизни; но сам Печорин, за исключением одной его апатии, которая была только началом его нравственной болезни, принадлежит миру мечтательному, производимому в нас ложным отражением Запада. Это призрак, только в мире нашей фантазии имеющий существенность...
И в этом отношении произведение г. Лермонтова носит в себе глубокую истину и даже нравственную важность. Он выдает нам этот призрак, принадлежащий не ему одному, а многим из поколений живущих, за что-то действительное, и нам становится страшно, - и вот полезный эффект его ужасной картины. Поэты, получившие от природы такой дар предугадания жизни, как г. Лермонтов, могут быть изучаемы в своих произведениях с великою пользою относительно к нравственному состоянию нашего общества. В таких поэтах, без их ведома, отражается жизнь, им современная: они, как воздушная арфа, доносят своими звуками о тех тайных движениях атмосферы, которых наше тупое чувство и заметить не может.
Употребим же с пользою урок, предлагаемый поэтом. Бывают в человеке болезни, которые начинаются воображением и потом мало-помалу переходят в существенность. Предостережем себя, чтобы призрак недуга, сильно изображенный кистью свежего таланта, не перешел для нас из мира праздной мечты в мир тяжкой действительности.
Шевырев Степан Петрович (1806 - 1864) Русский литературный критик, историк литературы, поэт; академик Петербургской Академии наук.
Прежде, давно, в лета моей юности, в лета невозвратно мелькнувшего моего детства, мне было весело подъезжать в первый раз к незнакомому месту: все равно, была ли то деревушка, бедный уездный городишка, село ли, слободка, – любопытного много открывал в нем детский любопытный взгляд. Всякое строение, все, что носило только на себе напечатленье какой-нибудь заметной особенности, – все останавливало меня и поражало. Каменный ли казенный дом, известной архитектуры с половиною фальшивых окон, один-одинешенек торчавший среди бревенчатой тесаной кучи одноэтажных мещанских обывательских домиков, круглый ли правильный купол, весь обитый листовым белым железом, вознесенный над выбеленною, как снег, новою церковью, рынок ли, франт ли уездный, попавшийся среди города, – ничто не ускользало от свежего тонкого вниманья, и, высунувши нос из походной телеги своей, я глядел и на невиданный дотоле покрой какого-нибудь сюртука, и на деревянные ящики с гвоздями, с серой, желтевшей вдали, с изюмом и мылом, мелькавшие из дверей овощной лавки вместе с банками высохших московских конфект, глядел и на шедшего в стороне пехотного офицера, занесенного бог знает из какой губернии на уездную скуку, и на купца, мелькнувшего в сибирке на беговых дрожках, и уносился мысленно за ними в бедную жизнь их. Уездный чиновник пройди мимо – я уже и задумывался: куда он идет, на вечер ли к какому-нибудь своему брату или прямо к себе домой, чтобы, посидевши с полчаса на крыльце, пока не совсем еще сгустились сумерки, сесть за ранний ужин с матушкой, с женой, с сестрой жены и всей семьей, и о чем будет веден разговор у них в то время, когда дворовая девка в монистах или мальчик в толстой куртке принесет уже после супа сальную свечу в долговечном домашнем подсвечнике. Подъезжая к деревне какого-нибудь помещика, я любопытно смотрел на высокую узкую деревянную колокольню или широкую темную деревянную старую церковь. Заманчиво мелькали мне издали сквозь древесную зелень красная крыша и белые трубы помещичьего дома, и я ждал нетерпеливо, пока разойдутся на обе стороны заступавшие его сады и он покажется весь с своею, тогда, увы! вовсе не пошлою, наружностью; и по нем старался я угадать, кто таков сам помещик, толст ли он, и сыновья ли у него, или целых шестеро дочерей с звонким девическим смехом, играми и вечною красавицей меньшею сестрицей, и черноглазы ли они, и весельчак ли он сам или хмурен, как сентябрь в последних числах, глядит в календарь да говорит про скучную для юности рожь и пшеницу.
Теперь равнодушно подъезжаю ко всякой незнакомой деревне и равнодушно гляжу на ее пошлую наружность; моему охлажденному взору неприютно, мне не смешно, и то, что пробудило бы в прежние годы живое движенье в лице, смех и немолчные речи, то скользит теперь мимо, и безучастное молчание хранят мои недвижные уста. О моя юность! о моя свежесть!
Покамест Чичиков думал и внутренне посмеивался над прозвищем, отпущенным мужиками Плюшкину, он не заметил, как въехал в средину обширного села со множеством изб и улиц. Скоро, однако же, дал заметить ему это препорядочный толчок, произведенный бревенчатою мостовою, пред которою городская каменная была ничто. Эти бревна, как фортепьянные клавиши, подымались то вверх, то вниз, и необерегшийся ездок приобретал или шишку на затылок, или синее пятно на лоб, или же случалось своими собственными зубами откусить пребольно хвостик собственного же языка. Какую-то особенную ветхость заметил он на всех деревенских строениях: бревно на избах было темно и старо; многие крыши сквозили, как решето; на иных оставался только конек вверху да жерди по сторонам в виде ребр. Кажется, сами хозяева снесли с них дранье и тес, рассуждая, и, конечно, справедливо, что в дождь избы не кроют, а в вёдро и сама не каплет, бабиться же в ней незачем, когда есть простор и в кабаке, и на большой дороге, – словом, где хочешь. Окна в избенках были без стекол, иные были заткнуты тряпкой или зипуном; балкончики под крышами с перилами, неизвестно для каких причин делаемые в иных русских избах, покосились и почернели даже не живописно. Из-за изб тянулись во многих местах рядами огромные клади хлеба, застоявшиеся, как видно, долго; цветом походили они на старый, плохо выжженный кирпич, на верхушке их росла всякая дрянь, и даже прицепился сбоку кустарник. Хлеб, как видно, был господский. Из-за хлебных кладей и ветхих крыш возносились и мелькали на чистом воздухе, то справа, то слева, по мере того как бричка делала повороты, две сельские церкви, одна возле другой: опустевшая деревянная и каменная, с желтенькими стенами, испятнанная, истрескавшаяся. Частями стал выказываться господский дом и наконец глянул весь в том месте, где цепь изб прервалась и наместо их остался пустырем огород или капустник, обнесенный низкою, местами изломанною городьбою. Каким-то дряхлым инвалидом глядел сей странный замок, длинный, длинный непомерно. Местами был он в один этаж, местами в два; на темной крыше, не везде надежно защищавшей его старость, торчали два бельведера, один против другого, оба уже пошатнувшиеся, лишенные когда-то покрывавшей их краски. Стены дома ощеливали местами нагую штукатурную решетку и, как видно, много потерпели от всяких непогод, дождей, вихрей и осенних перемен. Из окон только два были открыты, прочие были заставлены ставнями или даже забиты досками. Эти два окна, с своей стороны, были тоже подслеповаты; на одном из них темнел наклеенный треугольник из синей сахарной бумаги.
Старый, обширный, тянувшийся позади дома сад, выходивший за село и потом пропадавший в поле, заросший и заглохлый, казалось, один освежал эту обширную деревню и один был вполне живописен в своем картинном опустении. Зелеными облаками и неправильными трепетолистными куполами лежали на небесном горизонте соединенные вершины разросшихся на свободе дерев. Белый колоссальный ствол березы, лишенный верхушки, отломленной бурею или грозою, подымался из этой зеленой гущи и круглился на воздухе, как правильная мраморная сверкающая колонна; косой остроконечный излом его, которым он оканчивался кверху вместо капители, темнел на снежной белизне его, как шапка или черная птица. Хмель, глушивший внизу кусты бузины, рябины и лесного орешника и пробежавший потом по верхушке всего частокола, взбегал наконец вверх и обвивал до половины сломленную березу. Достигнув середины ее, он оттуда свешивался вниз и начинал уже цеплять вершины других дерев или же висел на воздухе, завязавши кольцами свои тонкие цепкие крючья, легко колеблемые воздухом. Местами расходились зеленые чащи, озаренные солнцем, и показывали неосвещенное между них углубление, зиявшее, как темная пасть; оно было все окинуто тенью, и чуть-чуть мелькали в черной глубине его: бежавшая узкая дорожка, обрушенные перилы, пошатнувшаяся беседка, дуплистый дряхлый ствол ивы, седой чапыжник , густой щетиною вытыкавший из-за ивы иссохшие от страшной глушины, перепутавшиеся и скрестившиеся листья и сучья, и, наконец, молодая ветвь клена, протянувшая сбоку свои зеленые лапы-листы, под один из которых забравшись бог весть каким образом, солнце превращало его вдруг в прозрачный и огненный, чудно сиявший в этой густой темноте. В стороне, у самого края сада, несколько высокорослых, не вровень другим, осин подымали огромные вороньи гнезда на трепетные свои вершины. У иных из них отдернутые и не вполне отделенные ветви висели вниз вместе с иссохшими листьями. Словом, все было хорошо, как не выдумать ни природе, ни искусству, но как бывает только тогда, когда они соединятся вместе, когда по нагроможденному, часто без толку, труду человека пройдет окончательным резцом своим природа, облегчит тяжелые массы, уничтожит грубоощутительную правильность и нищенские прорехи, сквозь которые проглядывает нескрытый, нагой план, и даст чудную теплоту всему, что создалось в хладе размеренной чистоты и опрятности.
Сделав один или два поворота, герой наш очутился наконец перед самым домом, который показался теперь еще печальнее. Зеленая плесень уже покрыла ветхое дерево на ограде и воротах. Толпа строений: людских, амбаров, погребов, видимо ветшавших, – наполняла двор; возле них направо и налево видны были ворота в другие дворы. Все говорило, что здесь когда-то хозяйство текло в обширном размере, и все глядело ныне пасмурно. Ничего не заметно было оживляющего картину: ни отворявшихся дверей, ни выходивших откуда-нибудь людей, никаких живых хлопот и забот дома! Только одни главные ворота были растворены, и то потому, что въехал мужик с нагруженною телегою, покрытою рогожею, показавшийся как бы нарочно для оживления сего вымершего места; в другое время и они были заперты наглухо, ибо в железной петле висел замок-исполин. У одного из строений Чичиков скоро заметил какую-то фигуру, которая начала вздорить с мужиком, приехавшим на телеге. Долго он не мог распознать, какого пола была фигура: баба или мужик. Платье на ней было совершенно неопределенное, похожее очень на женский капот, на голове колпак, какой носят деревенские дворовые бабы, только один голос показался ему несколько сиплым для женщины. «Ой, баба! – подумал он про себя и тут же прибавил: – ой, нет!» – «Конечно, баба!» – наконец сказал он, рассмотрев попристальнее. Фигура с своей стороны глядела на него тоже пристально. Казалось, гость был для нее в диковинку, потому что она обсмотрела не только его, но и Селифана, и лошадей, начиная с хвоста и до морды. По висевшим у ней за поясом ключам и по тому, что она бранила мужика довольно поносными словами, Чичиков заключил, что это, верно, ключница.
– Послушай, матушка, – сказал он, выходя из брички, – что барин?..
– Нет дома, – прервала ключница, не дожидаясь окончания вопроса, и потом, спустя минуту, прибавила: – А что вам нужно?
– Есть дело!
– Идите в комнаты! – сказала ключница, отворотившись и показав ему спину, запачканную мукою, с большой прорехою пониже.
Он вступил в темные широкие сени, от которых подуло холодом, как из погреба. Из сеней он попал в комнату, тоже темную, чуть-чуть озаренную светом, выходившим из-под широкой щели, находившейся внизу двери. Отворивши эту дверь, он наконец очутился в свету и был поражен представшим беспорядком. Казалось, как будто в доме происходило мытье полов и сюда на время нагромоздили всю мебель. На одном столе стоял даже сломанный стул, и рядом с ним часы с остановившимся маятником, к которому паук уже приладил паутину. Тут же стоял прислоненный боком к стене шкаф с старинным серебром, графинчиками и китайским фарфором. На бюре, выложенном перламутною мозаикой, которая местами уже выпала и оставила после себя одни желтенькие желобки, наполненные клеем, лежало множество всякой всячины: куча исписанных мелко бумажек, накрытых мраморным позеленевшим прессом с яичком наверху, какая-то старинная книга в кожаном переплете с красным обрезом, лимон, весь высохший, ростом не более лесного ореха, отломленная ручка кресел, рюмка с какою-то жидкостью и тремя мухами, накрытая письмом, кусочек сургучика, кусочек где-то поднятой тряпки, два пера, запачканные чернилами, высохшие, как в чахотке, зубочистка, совершенно пожелтевшая, которою хозяин, может быть, ковырял в зубах своих еще до нашествия на Москву французов.
По стенам навешано было весьма тесно и бестолково несколько картин: длинный пожелтевший гравюр какого-то сражения, с огромными барабанами, кричащими солдатами в треугольных шляпах и тонущими конями, без стекла, вставленный в раму красного дерева с тоненькими бронзовыми полосками и бронзовыми же кружками по углам. В ряд с ними занимала полстены огромная почерневшая картина, писанная масляными красками, изображавшая цветы, фрукты, разрезанный арбуз, кабанью морду и висевшую головою вниз утку. С середины потолка висела люстра в холстинном мешке, от пыли сделавшаяся похожею на шелковый кокон, в котором сидит червяк. В углу комнаты была навалена на полу куча того, что погрубее и что недостойно лежать на столах. Что именно находилось в куче, решить было трудно, ибо пыли на ней было в таком изобилии, что руки всякого касавшегося становились похожими на перчатки; заметнее прочего высовывался оттуда отломленный кусок деревянной лопаты и старая подошва сапога. Никак бы нельзя было сказать, чтобы в комнате сей обитало живое существо, если бы не возвещал его пребыванье старый, поношенный колпак, лежавший на столе. Пока он рассматривал все странное убранство, отворилась боковая дверь и взошла та же самая ключница, которую встретил он на дворе. Но тут увидел он, что это был скорее ключник, чем ключница: ключница, по крайней мере, не бреет бороды, а этот, напротив того, брил, и, казалось, довольно редко, потому что весь подбородок с нижней частью щеки походил у него на скребницу из железной проволоки, какою чистят на конюшне лошадей. Чичиков, давши вопросительное выражение лицу своему, ожидал с нетерпеньем, что хочет сказать ему ключник. Ключник тоже с своей стороны ожидал, что хочет ему сказать Чичиков. Наконец последний, удивленный таким странным недоумением, решился спросить:
– Что ж барин? у себя, что ли?
– Здесь хозяин, – сказал ключник.
– Где же? – повторил Чичиков.
– Что, батюшка, слепы-то, что ли? – спросил ключник. – Эхва! А вить хозяин-то я!
Здесь герой наш поневоле отступил назад и поглядел на него пристально. Ему случалось видеть немало всякого рода людей, даже таких, каких нам с читателем, может быть, никогда не придется увидать; но такого он еще не видывал. Лицо его не представляло ничего особенного; оно было почти такое же, как у многих худощавых стариков, один подбородок только выступал очень далеко вперед, так что он должен был всякий раз закрывать его платком, чтобы не заплевать; маленькие глазки еще не потухнули и бегали из-под высоко выросших бровей, как мыши, когда, высунувши из темных нор остренькие морды, насторожа уши и моргая усом, они высматривают, не затаился ли где кот или шалун мальчишка, и нюхают подозрительно самый воздух. Гораздо замечательнее был наряд его: никакими средствами и стараньями нельзя бы докопаться, из чего состряпан был его халат: рукава и верхние полы до того засалились и залоснились, что походили на юфть , какая идет на сапоги; назади вместо двух болталось четыре полы, из которых охлопьями лезла хлопчатая бумага. На шее у него тоже было повязано что-то такое, которого нельзя было разобрать: чулок ли, подвязка ли, или набрюшник, только никак не галстук. Словом, если бы Чичиков встретил его, так принаряженного, где-нибудь у церковных дверей, то, вероятно, дал бы ему медный грош. Ибо к чести героя нашего нужно сказать, что сердце у него было сострадательно и он не мог никак удержаться, чтобы не подать бедному человеку медного гроша. Но пред ним стоял не нищий, пред ним стоял помещик. У этого помещика была тысяча с лишком душ, и попробовал бы кто найти у кого другого столько хлеба зерном, мукою и просто в кладях, у кого бы кладовые, амбары и сушилы загромождены были таким множеством холстов, сукон, овчин выделанных и сыромятных, высушенными рыбами и всякой овощью, или губиной . Заглянул бы кто-нибудь к нему на рабочий двор, где наготовлено было на запас всякого дерева и посуды, никогда не употреблявшейся, – ему бы показалось, уж не попал ли он как-нибудь в Москву на щепной двор, куда ежедневно отправляются расторопные тещи и свекрухи, с кухарками позади, делать свои хозяйственные запасы и где горами белеет всякое дерево – шитое, точеное, лаженое и плетёное; бочки, пересеки, ушаты, лагуны , жбаны с рыльцами и без рылец, побратимы, лукошки, мыкольники , куда бабы кладут свои мочки и прочий дрязг, коробья из тонкой гнутой осины, бураки из плетеной берестки и много всего, что идёт на потребу богатой и бедной Руси. На что бы, казалось, нужна была Плюшкину такая гибель подобных изделий? во всю жизнь не пришлось бы их употребить даже на два таких имения, какие были у него, – но ему и этого казалось мало. Не довольствуясь сим, он ходил еще каждый день по улицам своей деревни, заглядывал под мостики, под перекладины и все, что ни попадалось ему: старая подошва, бабья тряпка, железный гвоздь, глиняный черепок, – все тащил к себе и складывал в ту кучу, которую Чичиков заметил в углу комнаты. «Вон уже рыболов пошел на охоту!» – говорили мужики, когда видели его, идущего на добычу. И в самом деле, после него незачем было мести улицу: случилось проезжавшему офицеру потерять шпору, шпора эта мигом отправилась в известную кучу; если баба, как-нибудь зазевавшись у колодца, позабывала ведро, он утаскивал и ведро. Впрочем, когда приметивший мужик уличал его тут же, он не спорил и отдавал похищенную вещь; но если только она попадала в кучу, тогда все кончено: он божился, что вещь его, куплена им тогда-то, у того-то или досталась от деда. В комнате своей он подымал с пола все, что ни видел: сургучик, лоскуток бумажки, перышко, и все это клал на бюро или на окошко.

Герой «Мертвых душ» Плюшкин. Рисунок Кукрыниксов
А ведь было время, когда он только был бережливым хозяином! был женат и семьянин, и сосед заезжал к нему пообедать, слушать и учиться у него хозяйству и мудрой скупости. Все текло живо и совершалось размеренным ходом: двигались мельницы, валяльни, работали суконные фабрики, столярные станки, прядильни; везде во все входил зоркий взгляд хозяина и, как трудолюбивый паук, бегал хлопотливо, но расторопно, по всем концам своей хозяйственной паутины. Слишком сильные чувства не отражались в чертах лица его, но в глазах был виден ум; опытностию и познанием света была проникнута речь его, и гостю было приятно его слушать; приветливая и говорливая хозяйка славилась хлебосольством; навстречу выходили две миловидные дочки, обе белокурые и свежие, как розы; выбегал сын, разбитной мальчишка, и целовался со всеми, мало обращая внимания на то, рад ли или не рад был этому гость. В доме были открыты все окна, антресоли были заняты квартирою учителя-француза, который славно брился и был большой стрелок: приносил всегда к обеду тетерек или уток, а иногда и одни воробьиные яйца, из которых заказывал себе яичницу, потому что больше в целом доме никто ее не ел. На антресолях жила также его компатриотка, наставница двух девиц. Сам хозяин являлся к столу в сюртуке, хотя несколько поношенном, но опрятном, локти были в порядке: нигде никакой заплаты. Но добрая хозяйка умерла; часть ключей, а с ними мелких забот, перешла к нему. Плюшкин стал беспокойнее и, как все вдовцы, подозрительнее и скупее. На старшую дочь Александру Степановну он не мог во всем положиться, да и был прав, потому что Александра Степановна скоро убежала с штабс-ротмистром, бог весть какого кавалерийского полка, и обвенчалась с ним где-то наскоро в деревенской церкви, зная, что отец не любит офицеров по странному предубеждению, будто бы все военные картежники и мотишки. Отец послал ей на дорогу проклятие, а преследовать не заботился. В доме стало еще пустее. Во владельце стала заметнее обнаруживаться скупость, сверкнувшая в жестких волосах его седина, верная подруга ее, помогла ей еще более развиться; учитель-француз был отпущен, потому что сыну пришла пора на службу; мадам была прогнана, потому что оказалась не безгрешною в похищении Александры Степановны; сын, будучи отправлен в губернский город, с тем чтобы узнать в палате, по мнению отца, службу существенную, определился вместо того в полк и написал к отцу уже по своем определении, прося денег на обмундировку; весьма естественно, что он получил на это то, что называется в простонародии шиш. Наконец последняя дочь, остававшаяся с ним в доме, умерла, и старик очутился один сторожем, хранителем и владетелем своих богатств. Одинокая жизнь дала сытную пищу скупости, которая, как известно, имеет волчий голод и чем более пожирает, тем становится ненасытнее; человеческие чувства, которые и без того не были в нем глубоки, мелели ежеминутно, и каждый день что-нибудь утрачивалось в этой изношенной развалине. Случись же под такую минуту, как будто нарочно в подтверждение его мнения о военных, что сын его проигрался в карты; он послал ему от души свое отцовское проклятие и никогда уже не интересовался знать, существует ли он на свете или нет. С каждым годом притворялись окна в его доме, наконец остались только два, из которых одно, как уже видел читатель, было заклеено бумагою; с каждым годом уходили из вида более и более главные части хозяйства, и мелкий взгляд его обращался к бумажкам и перышкам, которые он собирал в своей комнате; неуступчивее становился он к покупщикам, которые приезжали забирать у него хозяйственные произведения; покупщики торговались, торговались и наконец бросили его вовсе, сказавши, что это бес, а не человек; сено и хлеб гнили, клади и стоги обращались в чистый навоз, хоть разводи на них капусту, мука в подвалах превратилась в камень, и нужно было ее рубить, к сукнам, холстам и домашним материям страшно было притронуться: они обращались в пыль. Он уже позабывал сам, сколько у него было чего, и помнил только, в каком месте стоял у него в шкафу графинчик с остатком какой-нибудь настойки, на котором он сам сделал наметку, чтобы никто воровским образом ее не выпил, да где лежало перышко или сургучик. А между тем в хозяйстве доход собирался по-прежнему: столько же оброку должен был принесть мужик, таким же приносом орехов обложена была всякая баба; столько же поставов холста должна была наткать ткачиха, – все это сваливалось в кладовые, и все становилось гниль и прореха, и сам он обратился наконец в какую-то прореху на человечестве. Александра Степановна как-то приезжала раза два с маленьким сынком, пытаясь, нельзя ли чего-нибудь получить; видно, походная жизнь с штабс-ротмистром не была так привлекательна, какою казалась до свадьбы. Плюшкин, однако же, ее простил и даже дал маленькому внучку поиграть какую-то пуговицу, лежавшую на столе, но денег ничего не дал. В другой раз Александра Степановна приехала с двумя малютками и привезла ему кулич к чаю и новый халат, потому что у батюшки был такой халат, на который глядеть не только было совестно, но даже стыдно. Плюшкин приласкал обоих внуков и, посадивши их к себе одного на правое колено, а другого на левое, покачал их совершенно таким образом, как будто они ехали на лошадях, кулич и халат взял, но дочери решительно ничего не дал; с тем и уехала Александра Степановна.
Итак, вот какого рода помещик стоял перед Чичиковым! Должно сказать, что подобное явление редко попадается на Руси, где все любит скорее развернуться, нежели съежиться, и тем поразительнее бывает оно, что тут же в соседстве подвернется помещик, кутящий во всю ширину русской удали и барства, прожигающий, как говорится, насквозь жизнь. Небывалый проезжий остановится с изумлением при виде его жилища, недоумевая, какой владетельный принц очутился внезапно среди маленьких, темных владельцев: дворцами глядят его белые каменные домы с бесчисленным множеством труб, бельведеров, флюгеров, окруженные стадом флигелей и всякими помещеньями для приезжих гостей. Чего нет у него? Театры, балы; всю ночь сияет убранный огнями и плошками, оглашенный громом музыки сад. Полгубернии разодето и весело гуляет под деревьями, и никому не является дикое и грозящее в сем насильственном освещении, когда театрально выскакивает из древесной гущи озаренная поддельным светом ветвь, лишенная своей яркой зелени, а вверху темнее, и суровее, и в двадцать раз грознее является чрез то ночное небо и, далеко трепеща листьями в вышине, уходя глубже в непробудный мрак, негодуют суровые вершины дерев на сей мишурный блеск, осветивший снизу их корни.
Уже несколько минут стоял Плюшкин, не говоря ни слова, а Чичиков все еще не мог начать разговора, развлеченный как видом самого хозяина, так и всего того, что было в его комнате. Долго не мог он придумать, в каких бы словах изъяснить причину своего посещения. Он уже хотел было выразиться в таком духе, что, наслышась о добродетели и редких свойствах души его, почел долгом принести лично дань уважения, но спохватился и почувствовал, что это слишком. Искоса бросив еще один взгляд на все, что было в комнате, он почувствовал, что слово «добродетель» и «редкие свойства души» можно с успехом заменить словами «экономия» и «порядок»; и потому, преобразивши таким образом речь, он сказал, что, наслышась об экономии его и редком управлении имениями, он почел за долг познакомиться и принести лично свое почтение. Конечно, можно бы было привести иную, лучшую причину, но ничего иного не взбрело тогда на ум.
На это Плюшкин что-то пробормотал сквозь губы, ибо зубов не было, что именно, неизвестно, но, вероятно, смысл был таков: «А побрал бы тебя черт с твоим почтением!» Но так как гостеприимство у нас в таком ходу, что и скряга не в силах преступить его законов, то он прибавил тут же несколько внятнее: «Прошу покорнейше садиться!»
– Я давненько не вижу гостей, – сказал он, – да, признаться сказать, в них мало вижу проку. Завели пренеприличный обычай ездить друг к другу, а в хозяйстве-то упущения… да и лошадей их корми сеном! Я давно уж отобедал, а кухня у меня низкая, прескверная, и труба-то совсем развалилась: начнешь топить, еще пожару наделаешь.
«Вон оно как! – подумал про себя Чичиков. – Хорошо же, что я у Собакевича перехватил ватрушку да ломоть бараньего бока».
– И такой скверный анекдот, что сена хоть бы клок в целом хозяйстве! – продолжал Плюшкин. – Да и в самом деле, как прибережешь его? землишка маленькая, мужик ленив, работать не любит, думает, как бы в кабак… того и гляди, пойдешь на старости лет по миру!
– Мне, однако же, сказывали, – скромно заметил Чичиков, – что у вас более тысячи душ.
– А кто это сказывал? А вы бы, батюшка, наплевали в глаза тому, который это сказывал! Он, пересмешник, видно, хотел пошутить над вами. Вот, бают, тысячи душ, а поди-тка сосчитай, а и ничего не начтешь! Последние три года проклятая горячка выморила у меня здоровенный куш мужиков.
– Скажите! и много выморила? – воскликнул Чичиков с участием.
– Да, снесли многих.
– А позвольте узнать: сколько числом?
– Душ восемьдесят.
– Не стану лгать, батюшка.
– Позвольте еще спросить: ведь эти души, я полагаю, вы считаете со дня подачи последней ревизии?
– Это бы еще слава богу, – сказал Плюшкин, – да лих-то, что с того времени до ста двадцати наберется.
– Вправду? Целых сто двадцать? – воскликнул Чичиков и даже разинул несколько рот от изумления.
– Стар я, батюшка, чтобы лгать: седьмой десяток живу! – сказал Плюшкин. Он, казалось, обиделся таким почти радостным восклицанием. Чичиков заметил, что в самом деле неприлично подобное безучастие к чужому горю, и потому вздохнул тут же и сказал, что соболезнует.
– Да ведь соболезнование в карман не положишь, – сказал Плюшкин. – Вот возле меня живет капитан; черт знает его, откуда взялся, говорит – родственник: «Дядюшка, дядюшка!» – и в руку целует, а как начнет соболезновать, вой такой подымет, что уши береги. С лица весь красный: пеннику, чай, насмерть придерживается. Верно, спустил денежки, служа в офицерах, или театральная актриса выманила, так вот он теперь и соболезнует!
Чичиков постарался объяснить, что его соболезнование совсем не такого рода, как капитанское, и что он не пустыми словами, а делом готов доказать его и, не откладывая дела далее, без всяких обиняков, тут же изъявил готовность принять на себя обязанность платить подати за всех крестьян, умерших такими несчастными случаями. Предложение, казалось, совершенно изумило Плюшкина. Он, вытаращив глаза, долго смотрел на него и наконец спросил:
– Да вы, батюшка, не служили ли в военной службе?
– Нет, – отвечал Чичиков довольно лукаво, – служил по статской.
– По статской? – повторил Плюшкин и стал жевать губами, как будто что-нибудь кушал. – Да ведь как же? Ведь это вам самим-то в убыток?
– Для удовольствия вашего готов и на убыток.
– Ах, батюшка! ах, благодетель мой! – вскрикнул Плюшкин, не замечая от радости, что у него из носа выглянул весьма некартинно табак, на образец густого кофия, и полы халата, раскрывшись, показали платье, не весьма приличное для рассматриванья. – Вот утешили старика! Ах, господи ты мой! ах, святители вы мои!.. – Далее Плюшкин и говорить не мог. Но не прошло и минуты, как эта радость, так мгновенно показавшаяся на деревянном лице его, так же мгновенно и прошла, будто ее вовсе не бывало, и лицо его вновь приняло заботливое выражение. Он даже утерся платком и, свернувши его в комок, стал им возить себя по верхней губе.
– Как же, с позволения вашего, чтобы не рассердить вас, вы за всякий год беретесь платить за них подать? и деньги будете выдавать мне или в казну?
– Да мы вот как сделаем: мы совершим на них купчую крепость, как бы они были живые и как бы вы их мне продали.
– Да, купчую крепость… – сказал Плюшкин, задумался и стал опять кушать губами. – Ведь вот купчую крепость – всё издержки. Приказные такие бессовестные! Прежде, бывало, полтиной меди отделаешься да мешком муки, а теперь пошли целую подводу круп, да и красную бумажку прибавь, такое сребролюбие! Я не знаю, как священники-то не обращают на это внимание; сказал бы какое-нибудь поучение: ведь что ни говори, а против слова-то Божия не устоишь.
«Ну, ты, я думаю, устоишь!» – подумал про себя Чичиков и произнес тут же, что, из уважения к нему, он готов принять даже издержки по купчей на свой счет.
Услыша, что даже издержки по купчей он принимает на себя, Плюшкин заключил, что гость должен быть совершенно глуп и только прикидывается, будто служил по статской, а, верно, был в офицерах и волочился за актерками. При всем том он, однако ж, не мог скрыть своей радости и пожелал всяких утешений не только ему, но даже и деткам его, не спросив, были ли они у него или нет. Подошед к окну, постучал он пальцами в стекло и закричал: «Эй, Прошка!» Чрез минуту было слышно, что кто-то вбежал впопыхах в сени, долго возился там и стучал сапогами, наконец дверь отворилась и вошел Прошка, мальчик лет тринадцати, в таких больших сапогах, что, ступая, едва не вынул из них ноги. Почему у Прошки были такие большие сапоги, это можно узнать сейчас же: у Плюшкина для всей дворни, сколько ни было ее в доме, были одни только сапоги, которые должны были всегда находиться в сенях. Всякий призываемый в барские покои обыкновенно отплясывал через весь двор босиком, но, входя в сени, надевал сапоги и таким уже образом являлся в комнату. Выходя из комнаты, он оставлял сапоги опять в сенях и отправлялся вновь на собственной подошве. Если бы кто взглянул из окошка в осеннее время и особенно когда по утрам начинаются маленькие изморози, то бы увидел, что вся дворня делала такие скачки, какие вряд ли удастся выделать на театрах самому бойкому танцовщику.
– Вот посмотрите, батюшка, какая рожа! – сказал Плюшкин Чичикову, указывая пальцем на лицо Прошки. – Глуп ведь как дерево, а попробуй что-нибудь положить, мигом украдет! Ну, чего ты пришел, дурак, скажи, чего? – Тут он произвел небольшое молчание, на которое Прошка отвечал тоже молчанием. – Поставь самовар, слышишь, да вот возьми ключ да отдай Мавре, чтобы пошла в кладовую: там на полке есть сухарь из кулича, который привезла Александра Степановна, чтобы подали его к чаю!.. Постой, куда же ты? Дурачина! эхва, дурачина! Бес у тебя в ногах, что ли, чешется?.. ты выслушай прежде: сухарь-то сверху, чай, поиспортился, так пусть соскоблит его ножом да крох не бросает, а снесет в курятник. Да смотри ты, ты не входи, брат, в кладовую, не то я тебя, знаешь! березовым-то веником, чтобы для вкуса-то! Вот у тебя теперь славный аппетит, так чтобы еще был получше! Вот попробуй-ка пойти в кладовую, а я тем временем из окна стану глядеть. Им ни в чем нельзя доверять, – продолжал он, обратившись к Чичикову, после того как Прошка убрался вместе с своими сапогами. Вслед за тем он начал и на Чичикова посматривать подозрительно. Черты такого необыкновенного великодушия стали ему казаться невероятными, и он подумал про себя: «Ведь черт его знает, может быть, он просто хвастун, как все эти мотишки; наврет, наврет, чтобы поговорить да напиться чаю, а потом и уедет!» А потому из предосторожности и вместе желая несколько поиспытать его, сказал он, что недурно бы совершить купчую поскорее, потому что-де в человеке не уверен: сегодня жив, а завтра и бог весть.
Чичиков изъявил готовность совершить ее хоть сию же минуту и потребовал только списка всем крестьянам.
Это успокоило Плюшкина. Заметно было, что он придумывал что-то сделать, и точно, взявши ключи, приблизился к шкафу и, отперши дверцу, рылся долго между стаканами и чашками и наконец произнес:
– Ведь вот не сыщешь, а у меня был славный ликерчик, если только не выпили! народ такие воры! А вот разве не это ли он? – Чичиков увидел в руках его графинчик, который был весь в пыли, как в фуфайке. – Еще покойница делала, – продолжал Плюшкин, – мошенница ключница совсем было его забросила и даже не закупорила, каналья! Козявки и всякая дрянь было напичкались туда, но я весь сор-то повынул, и теперь вот чистенькая; я вам налью рюмочку.
Но Чичиков постарался отказаться от такого ликерчика, сказавши, что он уже и пил и ел.
– Пили уже и ели! – сказал Плюшкин. – Да, конечно, хорошего общества человека хоть где узнаешь: он не ест, а сыт; а как эдакой какой-нибудь воришка, да его сколько ни корми… Ведь вот капитан – приедет: «Дядюшка, говорит, дайте чего-нибудь поесть!» А я ему такой же дядюшка, как он мне дедушка. У себя дома есть, верно, нечего, так вот он и шатается! Да, ведь вам нужен реестрик всех этих тунеядцев? Как же, я, как знал, всех их списал на особую бумажку, чтобы при первой подаче ревизии всех их вычеркнуть.
Плюшкин надел очки и стал рыться в бумагах. Развязывая всякие связки, он попотчевал своего гостя такою пылью, что тот чихнул. Наконец вытащил бумажку, всю исписанную кругом. Крестьянские имена усыпали ее тесно, как мошки. Были там всякие: и Парамонов, и Пименов, и Пантелеймонов, и даже выглянул какой-то Григорий Доезжай-не-доедешь; всех было сто двадцать с лишком. Чичиков улыбнулся при виде такой многочисленности. Спрятав ее в карман, он заметил Плюшкину, что ему нужно будет для совершения крепости приехать в город.
– В город? Да как же?.. а дом-то как оставить? Ведь у меня народ или вор, или мошенник: в день так оберут, что и кафтана не на чем будет повесить.
– Так не имеете ли кого-нибудь знакомого?
– Да кого же знакомого? Все мои знакомые перемерли или раззнакомились. Ах, батюшка! как не иметь, имею! – вскричал он. – Ведь знаком сам председатель, езжал даже в старые годы ко мне, как не знать! однокорытниками были, вместе по заборам лазили! как не знакомый? уж такой знакомый! так уж не к нему ли написать?
– И, конечно, к нему.
– Как же, уж такой знакомый! в школе были приятели.
И на этом деревянном лице вдруг скользнул какой-то теплый луч, выразилось не чувство, а какое-то бледное отражение чувства, явление, подобное неожиданному появлению на поверхности вод утопающего, произведшему радостный крик в толпе, обступившей берег. Но напрасно обрадовавшиеся братья и сестры кидают с берега веревку и ждут, не мелькнет ли вновь спина или утомленные бореньем руки, – появление было последнее. Глухо все, и еще страшнее и пустыннее становится после того затихнувшая поверхность безответной стихии. Так и лицо Плюшкина вслед за мгновенно скользнувшим на нем чувством стало еще бесчувственней и еще пошлее.
– Лежала на столе четвертка чистой бумаги, – сказал он, – да не знаю, куда запропастилась: люди у меня такие негодные! – Тут стал он заглядывать и под стол и на стол, шарил везде и наконец закричал: – Мавра! а Мавра!
На зов явилась женщина с тарелкой в руках, на которой лежал сухарь, уже знакомый читателю. И между ними произошел такой разговор:
– Куда ты дела, разбойница, бумагу?
– Ей-богу, барин, не видывала, опричь небольшого лоскутка, которым изволили прикрыть рюмку.
– А вот я по глазам вижу, что подтибрила.
– Да на что ж бы я подтибрила? Ведь мне проку с ней никакого; я грамоте не знаю.
– Врешь, ты снесла пономаренку: он маракует, так ты ему и снесла.
– Да пономаренок, если захочет, так достанет себе бумаги. Не видал он вашего лоскутка!
– Вот погоди-ка: на Страшном суде черти припекут тебя за это железными рогатками! вот посмотришь, как припекут!
– Да за что же припекут, коли я не брала и в руки четвертки? Уж скорее другой какой бабьей слабостью, а воровством меня еще никто не попрекал.
– А вот черти-то тебя и припекут! скажут: «А вот тебе, мошенница, за то, что барина-то обманывала!», да горячими-то тебя и припекут!
– А я скажу: «Не за что! ей-богу, не за что, не брала я…» Да вон она лежит на столе. Всегда понапраслиной попрекаете!
Плюшкин увидел, точно, четвертку и на минуту остановился, пожевал губами и произнес:
– Ну, что ж ты расходилась так? Экая занозистая! Ей скажи только одно слово, а она уж в ответ десяток! Поди-ка принеси огоньку запечатать письмо. Да стой, ты схватишь сальную свечу, сало дело топкое: сгорит – да и нет, только убыток, а ты принеси-ка мне лучинку!
Мавра ушла, а Плюшкин, севши в кресла и взявши в руку перо, долго еще ворочал на все стороны четвертку, придумывая: нельзя ли отделить от нее еще осьмушку, но наконец убедился, что никак нельзя; всунул перо в чернильницу с какою-то заплесневшею жидкостью и множеством мух на дне и стал писать, выставляя буквы, похожие на музыкальные ноты, придерживая поминутно прыть руки, которая расскакивалась по всей бумаге, лепя скупо строка на строку и не без сожаления подумывая о том, что все еще останется много чистого пробела.
И до такой ничтожности, мелочности, гадости мог снизойти человек! мог так измениться! И похоже это на правду? Все похоже на правду, все может статься с человеком. Нынешний же пламенный юноша отскочил бы с ужасом, если бы показали ему его же портрет в старости. Забирайте же с собою в путь, выходя из мягких юношеских лет в суровое ожесточающее мужество, забирайте с собою все человеческие движения, не оставляйте их на дороге, не подымете потом! Грозна, страшна грядущая впереди старость, и ничего не отдает назад и обратно! Могила милосерднее ее, на могиле напишется: «Здесь погребен человек!», но ничего не прочитаешь в хладных, бесчувственных чертах бесчеловечной старости.
– А не знаете ли вы какого-нибудь вашего приятеля, – сказал Плюшкин, складывая письмо, – которому бы понадобились беглые души?
– А у вас есть и беглые? – быстро спросил Чичиков, очнувшись.
– В том-то и дело, что есть. Зять делал выправки: говорит, будто и след простыл, но ведь он человек военный: мастер притопывать шпорой, а если бы похлопотать по судам…
– А сколько их будет числом?
– Да десятков до семи тоже наберется.
– А ей-богу, так! Ведь у меня что год, то бегают. Народ-то больно прожорлив, от праздности завел привычку трескать, а у меня есть и самому нечего… А уж я бы за них что ни дай взял бы. Так посоветуйте вашему приятелю-то: отыщись ведь только десяток, так вот уж у него славная деньга. Ведь ревизская душа стоит в пятистах рублях.
«Нет, этого мы приятелю и понюхать не дадим», – сказал про себя Чичиков и потом объяснил, что такого приятеля никак не найдется, что одни издержки по этому делу будут стоить более, ибо от судов нужно отрезать полы собственного кафтана да уходить подалее; но что если он уже действительно так стиснут, то, будучи подвигнут участием, он готов дать… но что это такая безделица, о которой даже не стоит и говорить.
– А сколько бы вы дали? – спросил Плюшкин и сам ожидовел: руки его задрожали, как ртуть.
– Я бы дал по двадцати пяти копеек за душу.
– А как вы покупаете, на чистые?
– Да, сейчас деньги.
– Только, батюшка, ради нищеты-то моей, уже дали бы по сорока копеек.
– Почтеннейший! – сказал Чичиков, – не только по сорока копеек, по пятисот рублей заплатил бы! с удовольствием заплатил бы, потому что вижу – почтенный, добрый старик терпит по причине собственного добродушия.
– А ей-богу, так! ей-богу, правда! – сказал Плюшкин, свесив голову вниз и сокрушительно покачав ее. – Всё от добродушия.
– Ну, видите ли, я вдруг постигнул ваш характер. Итак, почему ж не дать бы мне по пятисот рублей за душу, но… состоянья нет; по пяти копеек, извольте, готов прибавить, чтобы каждая душа обошлась, таким образом, в тридцать копеек.
– Ну, батюшка, воля ваша, хоть по две копейки пристегните.
– По две копеечки пристегну, извольте. Сколько их у вас? Вы, кажется, говорили семьдесят?
– Нет. Всего наберется семьдесят восемь.
– Семьдесят восемь, семьдесят восемь, по тридцати копеек за душу, это будет… – здесь герой наш одну секунду, не более, подумал и сказал вдруг: – это будет двадцать четыре рубля девяносто шесть копеек! – он был в арифметике силен. Тут же заставил он Плюшкина написать расписку и выдал ему деньги, которые тот принял в обе руки и понес их к бюро с такою же осторожностью, как будто бы нес какую-нибудь жидкость, ежеминутно боясь расхлестать ее. Подошедши к бюро, он переглядел их еще раз и уложил, тоже чрезвычайно осторожно, в один из ящиков, где, верно, им суждено быть погребенными до тех пор, покамест отец Карп и отец Поликарп, два священника его деревни, не погребут его самого, к неописанной радости зятя и дочери, а может быть, и капитана, приписавшегося ему в родню. Спрятавши деньги, Плюшкин сел в кресла и уже, казалось, больше не мог найти материи, о чем говорить.
– А что, вы уж собираетесь ехать? – сказал он, заметив небольшое движение, которое сделал Чичиков для того только, чтобы достать из кармана платок.
Этот вопрос напомнил ему, что в самом деле незачем более мешкать.
– Да, мне пора! – произнес он, взявшись за шляпу.
– А чайку?
– Нет, уж чайку пусть лучше когда-нибудь в другое время.
– Как же, а я приказал самовар. Я, признаться сказать, не охотник до чаю: напиток дорогой, да и цена на сахар поднялась немилосердная. Прошка! не нужно самовара! Сухарь отнеси Мавре, слышишь: пусть его положит на то же место, или нет, подай его сюда, я ужо снесу его сам. Прощайте, батюшка, да благословит вас Бог, а письмо-то председателю вы отдайте. Да! пусть прочтет, он мой старый знакомый. Как же! были с ним однокорытниками!
Засим это странное явление, этот съежившийся старичишка проводил его со двора, после чего велел ворота тот же час запереть, потом обошел кладовые, с тем чтобы осмотреть, на своих ли местах сторожа, которые стояли на всех углах, колотя деревянными лопатками в пустой бочонок, наместо чугунной доски; после того заглянул в кухню, где под видом того чтобы попробовать, хорошо ли едят люди, наелся препорядочно щей с кашею и, выбранивши всех до последнего за воровство и дурное поведение, возвратился в свою комнату. Оставшись один, он даже подумал о том, как бы ему возблагодарить гостя за такое в самом деле беспримерное великодушие. «Я ему подарю, – подумал он про себя, – карманные часы: они ведь хорошие, серебряные часы, а не то чтобы какие-нибудь томпаковые или бронзовые; немножко поиспорчены, да ведь он себе переправит; он человек еще молодой, так ему нужны карманные часы, чтобы понравиться своей невесте! Или нет, – прибавил он после некоторого размышления, – лучше я оставлю их ему после моей смерти, в духовной, чтобы вспоминал обо мне».
Но герой наш и без часов был в самом веселом расположении духа. Такое неожиданное приобретение было сущий подарок. В самом деле, что ни говори, не только одни мертвые души, но еще и беглые, и всего двести с лишком человек! Конечно, еще подъезжая к деревне Плюшкина, он уже предчувствовал, что будет кое-какая пожива, но такой прибыточной никак не ожидал. Всю дорогу он был весел необыкновенно, посвистывал, наигрывал губами, приставивши ко рту кулак, как будто играл на трубе, и наконец затянул какую-то песню, до такой степени необыкновенную, что сам Селифан слушал, слушал и потом, покачав слегка головой, сказал: «Вишь ты, как барин поет!» Были уже густые сумерки, когда подъехали они к городу. Тень со светом перемешалась совершенно, и казалось, самые предметы перемешалися тоже. Пестрый шлагбаум принял какой-то неопределенный цвет; усы у стоявшего на часах солдата казались на лбу и гораздо выше глаз, а носа как будто не было вовсе. Гром и прыжки дали заметить, что бричка взъехала на мостовую. Фонари еще не зажигались, кое-где только начинались освещаться окна домов, а в переулках и закоулках происходили сцены и разговоры, неразлучные с этим временем во всех городах, где много солдат, извозчиков, работников и особенного рода существ, в виде дам в красных шалях и башмаках без чулок, которые, как летучие мыши, шныряют по перекресткам. Чичиков не замечал их и даже не заметил многих тоненьких чиновников с тросточками, которые, вероятно сделавши прогулку за городом, возвращались домой. Изредка доходили до слуха его какие-то, казалось, женские восклицания: «Врешь, пьяница! я никогда не позволяла ему такого грубиянства!» – или: «Ты не дерись, невежа, а ступай в часть, там я тебе докажу!..» Словом, те слова, которые вдруг обдадут, как варом, какого-нибудь замечтавшегося двадцатилетнего юношу, когда, возвращаясь из театра, несет он в голове испанскую улицу, ночь, чудный женский образ с гитарой и кудрями. Чего нет и что не грезится в голове его? он в небесах и к Шиллеру заехал в гости – и вдруг раздаются над ним, как гром, роковые слова, и видит он, что вновь очутился на земле, и даже на Сенной площади, и даже близ кабака, и вновь пошла по-будничному щеголять перед ним жизнь.
Наконец бричка, сделавши порядочный скачок, опустилась, как будто в яму, в ворота гостиницы, и Чичиков был встречен Петрушкою, который одною рукою придерживал полу своего сюртука, ибо не любил, чтобы расходились полы, а другою стал помогать ему вылезать из брички. Половой тоже выбежал, со свечою в руке и салфеткою на плече. Обрадовался ли Петрушка приезду барина, неизвестно, по крайней мере, они перемигнулись с Селифаном, и обыкновенно суровая его наружность на этот раз как будто несколько прояснилась.
– Долго изволили погулять, – сказал половой, освещая лестницу.
– Да, – сказал Чичиков, когда взошел на лестницу. – Ну, а ты что?
– Слава богу, – отвечал половой, кланяясь. – Вчера приехал поручик какой-то военный, занял шестнадцатый номер.
– Поручик?
– Неизвестно какой, из Рязани, гнедые лошади.
– Хорошо, хорошо, веди себя и вперед хорошо! – сказал Чичиков и вошел в свою комнату. Проходя переднюю, он покрутил носом и сказал Петрушке: – Ты бы, по крайней мере, хоть окна отпер!
– «все, что подходит под губу, съедобное; всякая овощь, кроме хлеба и мяса». (Из записной книжки Н.В. Гоголя.)
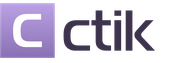










Как без труда сделать домашний йогурт в йогуртнице
Кексы рецепты самый. Рецепт теста для кексов
Язык ребенка примерз к железу - что делать?
Что значит Снег во сне в Семейном соннике?
Дыня: к чему снится сон. К чему снится Дыня