С того момента как лидеры этнических албанцев в Косово объявили в 2008 году о своей независимости от Сербии, эта территория продолжает оставаться спорным и лишь частично суверенным территориальным образованием. В настоящий момент Косово признали более 110 государств, в том числе такие разные по своей силе и влиянию страны как, с одной стороны, Соединенные Штаты, а, с другой стороны, Малави и Вануату. Однако суверенитет Косово продолжает существовать де-факто; этой стране еще только предстоит стать членом ООН, у нее лишь отдаленная перспектива вступления в Евросоюз, и она все еще в значительной мере зависит от дипломатического спонсорства со стороны государств-покровителей, выступающих в его защиту.
Сегодня против суверенитета Косово выступает Сербия, которая пользуется поддержкой двух членов Совета Безопасности ООН — России и Китая, пяти стран из Евросоюза, включая Испанию и Кипр, у которых есть свои собственные проблемы с сепаратистами, а также некоторого количества других стран, в том числе Индии, Бразилии и Индонезии. В результате Косово оказалось в состоянии замороженного конфликта, который напоминает другие территориальные конфликты: Северный Кипр, Нагорный Карабах, Приднестровье и Абхазию.
Все они, фактически, существуют в отрыве от того государства, от которого они отделились, однако никто из них не может получить независимость де-юре.
С 2011 года Европейский союз активно вовлечен в процесс «нормализации отношений» между Сербией и ее непокорной провинцией. Некоторые предложения направлены на то, чтобы обе стороны выработали своего рода временное соглашение, modus vivendi, которое может включать или не включать признание, однако все они призывают к созданию стабильного, демократического, интегрированного и мультиэтнического Косово с наделенным соответствующими правами сербским меньшинством, сохраняющим прочные институциональные связи со своим родственным государством. Проблема в том, что пока не заключено ни одного соглашения, а это означает, что членство в ООН или в Евросоюзе остается заблокированным на неопределенное время.
Одна из постоянно упоминаемых опций связана с разделом Косово по реке Ибар. Это означает присоединить вновь к собственно Сербии северную оконечность той территории, которая населена преимущественно этническими сербами и которая на самом деле не захотела быть интегрированной и подчиняться составленному из этнических албанцев правительству в Приштине, столице Косово. В ответ Сербия может рассмотреть остальную территорию как независимое государство. Официально против разделения выступают все стороны, включая Евросоюз, ООН и Соединенные Штаты, однако с подобным предложением часто выступают некоторые влиятельные политики и аналитики, которые воспринимают его как последнее средство для выхода из тупика. Совсем недавно официальные лица в администрации Трампа, включая советника по национальной безопасности Джона Болтона, стали говорить о том, что они больше не возражают против подобной идеи, если Белград и Приштина с ней согласятся.
Контекст
Bloomberg 30.03.2018Bloomberg: Сербия и Косово готовы к решению конфликта
Bloomberg 29.08.2018Печат: Как Вучич поступит с Косово?
Печат 11.09.2018Le Figaro: Солидарность с сербами - не преступление!
Le Figaro 18.09.2018 В настоящее время ведутся разговоры о разделе Косово параллельно с идеей о более крупном «обмене землями», в рамках которого территория с сербским большинством в северном Косово передается Сербии, тогда как Косово получает населенный преимущественно албанцами соседний сербский регион Прешевская долина. В результате Косово, как говорят, будет предоставлено место в ООН, тогда как Сербия получит пресловутый «зеленый свет» для вступления в Евросоюз. Источником этих слухов является сербский президент Александр Вучич, нарочито театральное поведение которого направлено на то, чтобы представить себя в качестве единственного человека, стоящего между Сербией и дипломатической катастрофой по поводу судьбы Косово. Хотя он не отрицал, но и не подтвердил проведение подобных дискуссий с Хашимом Тачи, своим косовским коллегой, подобные слухи привели к возобновлению напряженности между двумя общинами.Аргументы в пользу раздела Косово существуют с 1999 года, и вращаются они вокруг следующих пунктов.
Во-первых, северное Косово никогда не находилось под контролем Приштины — ни во время переходного периода после интервенции НАТО в 1999 году, ни после провозглашения независимости Косово в 2008 году. В этом смысле у Приштины нет ни власти, ни легитимности среди населения, подавляющее большинство которого считают себя гражданами Сербии, потому что — какими бы ни были намерения или цели — Сербия, по сути, никогда не переставала там функционировать. Идентификационные формуляры выдаются Белградом, товары покупаются на сербские динары, сербские избирательные плакаты располагаются на каждой стене и на каждой вывеске, а политики из Белграда регулярно посещают этот регион. Сербские теле- и радиостанции заполняют эфир, сербские энергетические и телекоммуникационные компании бесперебойно предоставляют свои услуги, а школы продолжают работать в соответствии с сербской программой образования.
Во-вторых, несмотря на официальные заявления лидеров косовских албанцев о территориальной целостности и нерушимости границ, все знают о том, что контролируемый сербами север никогда не будет полностью интегрированным. Реальная власть находится в руках туманного сочетания власти Белграда, местных политических боссов, а также сложно организованной криминальной сети, и именно таким образом осуществляется управление тремя муниципальными образованиями, а также центром города Митровица к северу от реки Ибар — отколовшимся регионом внутри сепаратистской территории.
В течение многих лет лидеры косовских албанцев обвиняли сербов в том, что они создают целый ряд «параллельных» политических, экономических и социальных систем с финансовой поддержкой из Белграда, и это странное утверждение, поскольку корни албанского сепаратизма в этом регионе начались с создания «параллельных» институтов и бойкота в отношении существовавшей в то время Югославии. В последнее время сербские параллельные институты превратились в признанные Конституцией политические партии и организации внутри Косово, однако они продолжают получать приказы, скорее, из Белграда, чем из Приштины.
Третий аргумент в поддержку разделения состоит в том, что нужно сделать какую-то «уступку» Сербии, если Косово получит независимость де-юре. Север никогда не будет интегрирован, и это единственная часть Косово, которую Сербия реально может защитить из-за ее географической близости.
С учетом существующей реальности, некоторые сербские официальные лица выступают в поддержку разделения для того, чтобы сохранить то, что еще можно сохранить до того, как все будет потеряно. Это может означать, что Сербия откажется от любых претензий на остальную часть Косово, а такой подход предусматривает также перемещение всех сербов, живущих к югу от реки Ибар. Кроме того, идея относительно обмена северного Косово на Прешевскую долину в некоторых албанских кругах обсуждается как компенсация за то, что они «уступают север». В обоих случаях это приведет к перемещению жителей, похожему на те события, которые происходили в конце XIX и начале XX веков и которым нет места в XXI веке — это тот процесс, который профессор Чарльз Купчан (Charles Kupchan) в своем недавнем комментарии в газете «Нью-Йорк таймс» назвал «мирной этнической чисткой». Эффектные, но одновременно тревожные слова.
Такого рода перемещение населения, если верить его сторонникам, является беспроигрышной (win-win) ситуацией, в которой обе стороны получают территории, населенные этнически родственными людьми в обмен на потерю предположительно нелояльного и непокорного этнического меньшинства.
Но они ошибаются. Разделение является как плохим, так и крайне опасным вариантом, — и его уже давно формально отвергают все стороны по многим причинам.
Для Сербии согласие на разделение фактически означает признание потери остальной части Косово, а это не только подрывает претензии Белграда относительно территориальной целостности, но и противоречит идее о том, что Косово является центром сербской исторической, культурной и религиозной идентичности. Более того, те части Косово, которые, на самом деле, являются значимыми для сербской идентичности и сербского наследия — средневековые монастыри и города, а также историческое Косово поле, место крупного сражения, — расположены преимущественно к югу от реки Ибар, и поэтому в случае раздела они будет потеряны.
Его центр, запущенный промышленный город Митровица, стал важным форпостом для Сербии, которая усилила свое влияние и позволила значительно обогатиться целому ряду местных чиновников. В случае возвращения этой территории в состав Сербии, влияние этих людей уменьшится, а северная часть Митровицы просто станет еще одним запущенным южным сербским городом под руководством Белграда. Местные сербы могут поддержать отделение, потому что это решает их насущные проблемы, однако того внимания, специального статуса и щедрого финансирования из Белграда, которыми пользуется эта северная территория с 1999 года, по сути, больше уже не будет.
Еще более важно то, что в таком случае больше всего рискуют потерять 60% косовских сербов, живущих к югу от реки Ибар, поскольку разделение приведет к тому, что они окажутся блокированными в оставшейся части Косово, а склонять к отъезду их будут как Белград, так и албанские сторонники жесткой линии в Приштине, которые в значительно меньшей мере будут чувствовать себя обязанными уважать права меньшинств. Помимо этих влиятельных сообществ есть еще Сербская православная церковь, монастыри которой, а также другие святые места с 1999 года часто подвергаются нападениям со стороны албанских экстремистов. Наиболее заметной и уважаемой во всем мире церковной фигурой является отец Сава Янич (Sava Janjic), настоятель невероятно важного монастыря Высокие Дечаны (Visoki Decani). Он в социальных сетях сообщил о крайне сложном положении Сербской церкви и ее общин в центральной части Косово, где разделение будет весьма разрушительным для их безопасности и защиты в будущем — особенно в том случае, если в результате возможного обмена территориями 70 тысяч сербов из северного Косово будут заменены почти 70 тысячами албанцев из Прешевой долины.
Албанцы тоже выступают против разделения, но по другим причинам. Приштина исходит из того, что границы Косово не могут быть поставлены под сомнение, а север остается неотъемлемой частью ее территории. В то время как многие простые албанцы, возможно, были бы рады избавиться от непокорного севера, официальные лица согласны с позицией многих западных влиятельных политиков относительно того, что подобный раздел серьезно подорвет будущие экономические выгоды Косово. На севере Косово находится горнодобывающий комплекс Трепча — по обеим сторонам реки Ибар, — а также дамба водохранилища Газиводе и гидроэлектростанция. Включение севера в Косово увеличивает возможность для сербов иметь большинство акций обоих предприятий, тогда как разделение территории приведет к переходу под контроль Сербии этих двух двигателей роста экономики. Получение Прешевской долины имеет мало значения для и без того рудиментарной экономики Косово.
Помимо Косово, разделение и обмен территориями ничего не принесет албанцам из Прешевской долины, которые в настоящее время получают выгоду от того, что являются гражданами международно признанного государства со всеми правами и выгодами, включая путешествия, доступ к международным организациям и поддерживаемые Евросоюзом стандарты в отношении прав меньшинств. В случае присоединения к Косово они станут частью спорной территории с ограниченным международным доступом и даже с меньшей международной мобильностью.
И, наконец, разделение сведет на нет годы работы Соединенных Штатов и ключевых западноевропейских государств, которые предоставили тщательно сконструированный имидж Косово как мультиэтнического общества, а также усилия, направленные на убеждение сербской и албанской общин в возможности совместной жизни. Поддержанные международным сообществом соглашения между Белградом и Приштиной об установлении автономии для косовских сербов перестанут действовать и растворятся в воздухе.
Помимо этого, будет поставлен под сомнение тщательно подготовленный Западом аргумент о том, что отделение Косово от Сербии было «единственным в своем роде» (sui generis), и что никакое другое изменение границ не допускается. Угроза проведения новых границ может открыть ящик Пандоры в этом регионе, а также будет подстрекать сербов в Боснии и албанцев в Македонии к тому, чтобы добиваться такого же отделения территории и объединения со своими этническими собратьями.
Если это произойдет, то международное сообщество будет вынуждено вмешаться на Балканах для сдерживания других этнонационалистических захватов земли.
Международные державы, много сделавшие для поиска устойчивого решения спорного статуса Косово, должны пресекать любые новые разговоры о разделе. Подобный эндшпиль не выгоден никому, кроме экстремистов и близоруких представителей элиты по обе стороны. «Бархатные разводы» или «появившиеся в результате переговоров» территориальные корректировки не являются частью истории этого региона, тогда как войны и этнические чистки, к сожалению, являются. Любые призывы к пересмотру границ и обмену территориями, скорее всего, приведут к той или иной форме насилия и к хаотичному обмену населением, которые существовали в этом регионе в 1990-е годы. Возращение такого рода войн на европейскую землю стало бы, по сути, отречением руководящего этим регионом центра.
Майкл Росси преподает политологию в Ратгерском университете (Rutgers University). В настоящее время он также принимает участие в совместном проекте в области сравнительного анализа спорных территорий по всему миру. Его статьи по вопросу о разрешении конфликтов печатаются в таких изданиях как Nationalities Papers, Transconflict, Balkan Insight, а также Лондонской школой экономики.
Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ИноСМИ.
События в Крыму напомнили многим наблюдателям случай с Косово. Одна из сторон в качестве обоснования выхода автономной республики из состава Украины официально сослалась на прецедент мятежного края, провозгласившего в одностороннем порядке независимость от Сербии. Насколько эти случаи сопоставимы?
Вовлеченные в крымский конфликт участники спорят по поводу законности референдума и его соответствия украинскому и международному праву, но юридические аргументы, звучащие с каждой стороны, неоднозначны и противоречивы. Условия, в которых провозглашается независимость новых государств, принципиально различны, а применяемые юридические нормы одинаковы, и это позволяет в случае непоследовательности позиций обвинять страны в двойных стандартах. Однако конфликты подобного рода обусловлены политическими предпосылками, и правовой статус того или иного государства и региона — лишь часть социально-политического контекста. Если абстрагироваться от юридической казуистики, можно найти как минимум 5 отличий, свидетельствующих о том, что апелляция к косовскому прецеденту несостоятельна.
Сецессия versus аннексия
В отличие от сецессии, которая имела место в случае Косова, отделение Крыма от Украины — беспрецедентная со времен Второй мировой войны аннексия на территории Европы.
В 2008 году парламент Косова провозгласил независимость края от Сербии. Белград это решение не принимает и считает Косово своей суверенной территорией, которую де-факто не контролирует с 1990-х. Курс на построение самостоятельного государства был взят косовскими албанцами еще в 1980-х. Решению парламента предшествовал многолетний период, на протяжении которого мировое сообщество вело многосторонние переговоры о статусе региона. Восемь лет территория находилась под управлением временной администрации ООН. Албания, заинтересованная в независимости Косово, активной стороной процесса к концу XX века не выступала. Вмешательство международных миротворческих сил (KFOR) в конфликт было необходимым, в случае Крыма такая необходимость неочевидна. НАТО и KFOR включились в активный вооруженный конфликт, РФ — такой конфликт провоцирует сама.
Парламент Автономной Республики Крым не только проголосовал за независимость, но и объявил о намерении войти в состав России. Референдум по статусу полуострова состоялся в условиях фактической оккупации государством, к которому предполагается присоединение. Плебисцит был организован в чрезвычайно сжатые сроки, которые не позволяли провести его в соответствии с международными демократическими стандартами. Хотя российское правительство опровергает ввод войск, мало кто сомневается, что находящиеся в Крыму вооруженные люди без опознавательных знаков являются российскими военными.
Участие России в процессе самоопределения Крыма — бесспорно. Внесение в Госдуму поддерживаемого всеми фракциями законопроекта об упрощении процедуры включения в состав РФ части иностранного государства, как и заявление о планируемом присоединении Крыма российскими официальными лицами, были сделаны еще до того, как об этих планах впервые объявили крымские власти. Пресса находит все новые доказательства причастности Кремля к организации митингов в Украине — участников пророссийских акций автобусами привозят из Ростовской области и других южных регионов РФ. Позиция России по референдуму как минимум идет вразрез с обязательствами, которые она взяла на себя по Будапештскому меморандуму 1994 года. В соответствии с этим договором, в обмен на отказ Киева от ядерного оружия, РФ, наряду с США и Великобританией, предоставила Украине гарантии сохранения территориальной целостности и существующих границ.
Повод для отделения: реальная война versus угроза ограничения прав
Право народа на самоопределение и принцип территориальной целостности в системе международного права равноценны, а само международное право не регламентирует, но и не запрещает провозглашение частью какого-либо государства собственной самостоятельности, что подтвердило решение Международного суда ООН по Косово в 2010 году. Вместе с тем, наряду с правом на самоопределение, в декларации ООН 1970 года «О принципах международного права, касающихся дружественных отношений и сотрудничества между государствами» одновременно подчеркивается: «ничто не должно истолковываться как санкционирующее или поощряющее любые действия, которые вели бы к расчленению или к частичному или полному нарушению территориальной целостности независимых государств».
Это противоречие не раз становилось камнем преткновения в вопросе о легитимности или нелегитимности сецессии. Самоопределение гарантируется, прежде всего, в рамках существующих государств путем предоставления особых прав и отдельного статуса территориям. Выход из состава государства — крайняя мера, обусловленная исключительными обстоятельствами в связи с невозможностью совместного проживания. Такие обстоятельства сложились в Косово к концу 1990-х — началу 2000-х.
Межнациональные конфликты в Косово между албанским и сербским населением происходили на протяжении всего XX века. В 1990-е конфликт достиг пика, принял вооруженную форму и сопровождался насилием в отношении гражданского населения и этнической сегрегацией с двух сторон. Жертвами этнических чисток как среди албанцев, так и среди сербов стали по меньшей мере несколько тысяч человек. 300 тыс. покинули свои дома и превратились в беженцев.
В Крыму не было ни кровавых конфликтов, ни беженцев, ни явного политического противостояния между автономной республикой и остальной Украиной. Единственные жертвы столкновений сторонников и противников Евромайдана — случайны (один человек погиб в давке, второй — от сердечного приступа). Официальный повод отделения от Украины — защита прав русскоязычного населения от угрозы (пока гипотетической) со стороны радикальных украинских националистов. Решение Совета Федерации РФ о вводе войск в Украину было принято с формулировкой «в связи с угрозой жизни граждан РФ». Валентина Матвиенко, комментируя итоги заседания, утверждала о погибших россиянах в ходе штурма здания МВД в Симферополе. Однако даже глава Верховного совета Крыма, занимающий пророссийские позиции, заявил , что ему ничего неизвестно ни о штурме МВД, ни о погибших или пострадавших гражданах России.
Субъект права на самоопределение
Принцип самоопределения может реализовать народ, компактно проживающий на определенной территории, на которой он является большинством, а в составе общего государства — меньшинством. Такой народ, как правило, должен иметь общую идентичность и осознавать себя самостоятельным субъектом политики. Не менее важна в его идентичности коллективная историческая связь с землей, на которой он проживает.
К началу процесса распада Югославии доля албанского населения Косова достигала 82%, доля сербов — 11%. К 1991 году албанцы, наряду с хорватами (90%) и словенцами (91%), составляли абсолютное большинство на территориях своего компактного проживания (боснийцы составляли 44% населения Боснии, македонцы в Македонии — 65%). Если с Косово здесь все предельно ясно, то кто является субъектом права на самоопределение в Крыму — вопрос весьма спорный.
Этническим большинством в Крыму до начала XX века были крымские татары. С XIX века число русских, украинцев и евреев на территории полуострова росло примерно в одинаковой пропорции. Абсолютным большинством (75%) на этой территории русские стали в результате полной депортации крымских татар Сталиным в 1944 году, когда их доля снизилась с 30% до 0%. С 70-х гг. крымские татары постепенно возвращаются на родину, и на сегодняшний момент составляют порядка 15% населения. Доля украинцев в Крыму за последние 50 лет возросла до 24%, доля русских наоборот снизилась до 58%. Основной язык, на котором говорят в республике, — русский, но им пользуется и больше половины населения Украины, а сам Крым окружают самые русскоговорящие украинские регионы. Столкновения между русским и украинским населением Крыма не происходили со времен Второй мировой войны, зато наблюдалась этническая напряженность между крымскотатарским и русским населением. При этом крымские татары референдум о присоединении к России не поддержали и высказывались за сохранение автономной республики в составе Украины.
Путь к независимости
Провозглашение самостоятельного косовского государства являлось частью процесса распада Социалистической федеративной республики Югославия и следствием длительного исторического пути. Политика Милошевича, основанная на сербском этническом национализме, попытка превратить многонациональное государство в этноцентричное привела к разрушительным межэтническим войнам с союзными республиками, в процессе которых Югославия распалась.
На протяжении многих веков Косово было ареной битв между Византией, Сербией, Болгарией и Османской империей. В XII-XIV вв. здесь находилось древнее сербское государство Неманичей, но в 1389 году территория была завоевана турками, и с тех пор в течение пяти веков находилась под контролем Османской империи. К концу XIX века албанское население вытеснило сербов и составляло большинство в крае. Только в 1912 году в результате Балканской войны Сербия вновь завоевала Косово.
Во время Второй мировой войны Косово было включено в состав государства Великая Албания, созданного при помощи итальянских фашистов. Албанцами были проведены этнические чистки сербского населения. По окончании войны значительное количество оставшихся сербов было переселено югославским правительством в другие республики, а Косово в 1963 году получило статус автономного края. Однако косовские албанцы продолжали борьбу за большую независимость и расширение статуса до уровня союзной республики, в результате которой в 1974 году Косово стало субъектом государственных отношений и получило конституционное право на самоопределение. После смерти Тито албанцы потребовали статус полноправной республики, в 1981 году произошли массовые беспорядки, в которых погибло несколько человек. С этого момента начинается косовская интифада, радикализация албанских сепаратистов, рост сербского национализма и антиалбанских настроений в Югославии.
В 1989 году Югославия приняла новую конституцию, существенно урезающую статус автономных краев. Парламент Косова был распущен, в крае введено чрезвычайное положение, многие жители были подвергнуты репрессиям. Косовские албанцы в свою очередь провели в 1991 году референдум о независимости и выбрали своего президента. При этом косовары бойкотировали все формы политического участия, организованного сербскими властями, и начали выстраивать параллельную систему албанских социальных и политических институтов. С 1996 года конфликт перерос в настоящую войну, которая закончилась массированными бомбардировками Югославии войсками НАТО. По решению Совета безопасности ООН Косово перешло под контроль временной гражданской администрации ООН и международного контингента миротворческих войск, которые, однако, так и не смогли предотвратить продолжающийся этнический конфликт. В 2007 состоялись досрочные выборы нового парламента, который на следующий год провозгласил независимость от Сербии.
На этом фоне крымский референдум о присоединении к России выглядит случайным и спонтанным событием. Исторически Крым не был территорией славянского расселения. До XIII века он находился под властью Византийской империи, а в 1239 году был завоеван монголами, став частью Золотой Орды. С 1441 по 1783 года здесь было Крымское ханство — государство оседлых татар, доля которых в структуре населения к концу XVIII века достигала более 90%. С 1478 года Крымское ханство было союзником Османской империи и находилось под ее протекторатом. В течение трех столетий крымские ханы устраивали набеги, вели небольшие войны с русским государством и иногда оказывали помощь украинским гетманам в борьбе с Польшей и Россией. В результате русско-турецких войн 1735-1939 и 1768-1774 гг., Крымское ханство пало. По Кючук-Кайнарджийскому договору, Крым объявлялся независимым как от Османской империи, так и от России, однако в 1778 году Российская империя аннексировала полуостров, нарушив договор.
После революции 1917 года крымские татары при поддержке местных украинцев объявили о создании Крымской народной республики. В гражданскую войну власть в Крыму несколько раз менялась. За время красного террора 1920-1921 гг. в Крыму было расстреляно до 52 тысяч человек. Наступивший вслед за террором голод унес жизни еще 100 тыс. человек, 2/3 из которых являлись крымскими татарами. В 1921 году была образована Крымская автономная советская социалистическая республика в составе РСФСР, просуществовавшая до 1946 года. После депортации татар, власти СССР создали Крымскую область, которую в 1954 году передали в состав Украинской ССР.
Автономная республика Крым в составе Украинской ССР была воссоздана на референдуме в 1991. На всеукраинском референдуме в том же году больше половины жителей Крыма проголосовало за независимость Украины от СССР. Позже Верховный Совет Крыма принял Декларацию о государственном суверенитете, в которой было заявлено о стремлении создать правовое демократическое государство в составе Украины.
В 1992 году Крымская АССР была переименована в Республику Крым, в которой через два года состоялись выборы президента. Победу на них одержал лидер блока «Россия» Юрий Мешков. Его программа предусматривала введение на территории республики российского рубля и заключение союза с РФ, однако сближения с Россией реализовать не удалось, если не считать таковым назначение на правительственные должности граждан РФ. Против политики Мешкова выступал как официальный Киев, так и крымская оппозиция. В 1995 году Верховный Совет Украины отменил конституцию Крыма, упразднил должность президента и снова переименовал Республику Крым в автономную.
В последующие два десятилетия сепаратистских настроений Крым не демонстрировал. Жители не только участвовали во всех общеукраинских выборах, но и охотно отдавали голоса политикам, выступающим за независимую Украину: на президентских выборах 2010 года Тимошенко получила поддержку 17,3% крымчан; на парламентских выборах 2012 года совокупная доля голосов, поданных за «Батькивщину», «Удар», «Свободу» и «Нашу Украину», составила 21,62%. Согласно исследованию, проведенному Киевским международным институтом социологии совместно с российским «Левада-центром», только 36% жителей Крыма в 2013 году хотели присоединения к России.
Все основные албанские партии выступали за независимость Косово и в сумме набирали на парламентских выборах не менее 80%. Партия «Русское единство», ставшая основным действующим лицом в процессе провозглашения независимости Крыма и его присоединения к России, получила на местных выборах лишь 4%.
Легитимность
В современном мире насчитывается порядка двух десятков непризнанных или частично признанных государств, обладающих разным уровнем легитимности. В рассматриваемом контексте международная легитимность — это неоспариваемое другими международными акторами право на самостоятельность и независимость государства, служащее гарантией неприкосновенности его границ.
Плохо это или хорошо, но международная легитимность сегодня слабо зависит от правовых факторов и рассматривается большинством государств через призму всего комплекса контекстуальных рамок.
Эти рамки позволили Косово быстро стать субъектом международных отношений. Статус Косова носит хоть и ограниченный, но легитимный характер. Независимость государства признается более чем половиной стран — членов ООН. Республика Косово является членом множества международных организаций — от спортивных федераций до глобальных финансовых институтов, таких как Всемирный банк и МВФ.
Очевидно, что Крымская республика не будет признана мировым сообществом ни в качестве самостоятельного государства, ни в качестве субъекта Российской Федерации. И дело здесь не в том, что по украинскому законодательству Крым не имел право проводить референдум о независимости. А в том, что сама необходимость на такое самоопределение подвергается серьезному сомнению. А значит, Крым обрекает себя на положение, весьма схожее с другими непризнанными республиками на постсоветском пространстве — Абхазией, Южной Осетией, Приднестровьем и др.
В случае принятия Федеральным собранием РФ решения о присоединении Республики Крым (в чем, похоже, никто не сомневается), переговорный процесс с Украиной сильно осложнится, а число стран с нелегитимными границами пополнит и Россия.
Сербия ищет у России поддержки в косовском конфликте. Однако нынешние сербские власти сложно назвать пророссийскими
На минувшей неделе началось очередное обострение конфликта вокруг сербского края Косово, много лет неподконтрольного Белграду. Президент Сербии Александр Вучич привел армию страны в состояние полной боевой готовности после того, как спецназ косовских албанцев подходы к самой крупной на Балканах ГЭС «Газиводе». Она находится на севере Косово, однако контролируется энергокомпанией Сербии.
Вучич сразу же после инцидента заявил, что собирается просить поддержки у Путина , и уже 2 октября президент Сербии провёл в Москве переговоры со своим российским коллегой. Они обсудили ситуацию на Балканах и экономическое сотрудничество. «Все, что мы искали, мы получили. Мы обо всем договорились», — сказал Александр Вучич по итогам переговоров, добавив, что не может публично раскрыть подробности, однако выразил надежду, что Владимир Путин посетит Белград до конца года.
Предыдущая встреча Путина и Вучичасостоялась 8 мая этого года, причём президент Сербии был первым главой иностранного государства, с которым президент РФ встретился после инаугурации главы российского государства. На переговорах тогда обсуждались российско-сербские отношения, поставки военной техники, а также проблема Косова.
Почему Косово так важно для Сербии
Помимо значительной сербской общины и ряда предприятий, главная ценность края Косово для сербского народа — духовная. В XII — XIII веках край стал религиозным, культурным и политическим центром Сербии, в конце XIII века резиденция митрополита Сербской православной церкви была перенесена в косовский город Печ. Однако постоянные войны, которые вели между собой местные правители, существенно ослабили Сербию в условиях нарастающей угрозы со стороны Османской империи. В 1389 году на Косовом поле (рядом с Приштиной) объединённая сербская армия князя Лазаря была разбита численно превосходящими войсками султана Мурада I , а сам князь убит. Сербия признала сюзеренитет Османской империи, и хотя окончательная потеря сербской государственности произошла через несколько десятилетий, именно битва на Косовом поле стала важнейшим историческим событием, которое ярче других врезалось в народное сознание. День этой битвы, Видовдан (28 июня), стал главным национальным праздником Сербии, в который не принято петь и веселиться.
История Косовского конфликта
Хотя на протяжении веков турецкого владычества из Косова изгоняли сербов и заселяли туда мусульман, в первую очередь албанцев, по состоянию на 1920 год албанцы составляли лишь 49,5% населения края. В годы II мировой войны территория Косова была оккупирована Италией и включена в состав Албании, албанскими националистами были убиты тысячи сербов. От 100 до 200 тысяч сербов покинули эти земли, на их место из Албании переселились от 70 до 100 тысяч албанцев.
После освобождения края в 1944 году Народно-освободительная армия Югославии столкнулась с серьезным сопротивлением косовских албанцев, только к июлю 1945 года их отряды были разгромлены или вытеснены в соседние страны. Стремясь успокоить местных албанцев, недовольных возвращением Косова в состав Сербии, глава югославских коммунистов Иосиф Броз Тито запретил изгнанным сербам возвращаться в Косово и пообещал рассмотреть вопрос о возможном объединении Югославии с Албанией. Именно с этой целью территория Косово была выделена в автономную область в составе Сербии в рамках Федеративной Народной Республики Югославии в 1945 году.
Принятие новой Конституции СФРЮ в 1974 году увеличило степень автономности краев, будучи в составе Сербии, они имели почти те же права, что и сама Сербия в рамках Югославии. Косово и Воеводина могли блокировать любое решение Сербии, в то время как республика не могла влиять на решения своих автономий. Руководящие органы Косово подчинялись республиканским властям только в том случае, если считали это выгодным для себя. В крае фактически дискриминировались сербы и постоянно росло количество албанцев: в 1971-м они составляли уже 71,8% населения края, а в 1991-м — вообще 86,9%.
В 1990-м был принят новый основной закон Сербии, восстановивший верховенство республиканских законов над краевыми на всей территории республики. Косово была оставлена лишь территориальная и культурная автономия. Косовские албанцы не признали новую конституцию и стали создавать параллельные албанские структуры власти. В 1991 году в крае был проведен нелегальный референдум, одобривший независимость Косово. Косовские националисты провозгласили непризнанную «Республику Косово», избрали президентом Ибрагима Ругову. Для борьбы за независимость в 1996 году была создана «Освободительная армия Косово».
В 1998 году межэтнический конфликт перерос в кровопролитные вооруженные столкновения. 24 марта 1999 года без санкции ООН началась военная операция НАТО против Югославии, продолжавшаяся до 20 июня 1999-го, когда из Косово был завершен вывод югославских войск. После этого в край были введены миротворцы ООН (формально, реально — войска стран НАТО). В августе 1999 на границе Косово и Македонии было начато строительство одной из самых больших в Европе военных баз США Camp Bondsteel (открыта летом 2000 года). Несмотря на наличие западных военных и полиции, с 1999 года на почве этнических конфликтов Косово покинуло более 200 тысяч сербов.
Косовский прецедент
17 февраля 2008 года состоящий исключительно из албанцев «парламент Косово» принял декларацию о независимости края. Это создало прецедент насильственного передела границ в Европе, ведь в июле 2010 года Международный суд ООН решил, что провозглашение независимости Косово от Сербии не противоречит нормам международного права. К настоящему времени Косово признают 110 из 193 стран-членов ООН. Не признают Косово, помимо Сербии, в частности, Россия, Китай, Индия, а также Грузия, Молдова и Украина. Кроме того, Косово не признали и несколько стран ЕС: Греция, Испания, Кипр, Румыния и Словакия.
Москва, несмотря на то, что до сих пор официально считает Косово частью Сербии, применила «косовский прецедент» на Кавказе, признав независимость Абхазии и Южной Осетии, а также для обоснования воссоединения Крыма с Россией.
«На небе Бог, на земле Россия!»
Именно эту сербскую пословицу вспомнил в 2009-м предшественник Вучича на посту президента Сербии, Борис Тадич , благодаря Москву за поддержку Белграда в косовском конфликте. Однако нынешний сербский лидер в начале июня этого года в интервью французской газете Le Monde: «Мы не признали Крым частью России. Если бы мы это сделали, это означало бы, что мы поддержим независимость Косово».
Логика небезупречная, но не заявит же президент Сербии прямо, что его страна не может признать Крым российским, поскольку может лишиться статуса кандидата в члены ЕС. Однако Вучич так и не выполнил своих обещаний предоставить дипломатический статус персоналу Российско-сербского гуманитарного центра в Нише, созданному для реагирования на чрезвычайные ситуации в Сербии и других странах Балканского региона. При этом ещё в феврале 2016-го, когда Вучич был премьером Сербии, её парламент ратифицировал соглашение с НАТО, предоставляющее персоналу альянса свободу передвижения по сербской территории, доступ ко всем объектам, а главное — дипломатический иммунитет, в том числе для грузов. А когда в 2017-м Вучич был избран президентом Сербии, на место премьера он предложил Ану Брнабич , которая ранее 9 лет работала в USAID.
17 февраля 2008 года парламент Автономного края Косово и Метохия в одностороннем порядке объявил о независимости от Сербии и о формировании суверенного государства Республика Косово.
Это уже не первое одностороннее провозглашение независимости краем. В 1991 году местные сепаратисты уже объявляли Косово независимой республикой. Однако тогда их поддержала только соседняя Албания, и признания нового государства не получилось.
С июня 1999 года Косово и Метохия находится под протекторатом Миссии ООН по делам временной администрации в Косово (МООНК) и Сил для Косово (KFOR).
В мае 2001 года глава МООНК утвердил «Конституционные рамки временного самоуправления в Косово», в которых закреплен порядок формирования общекраевых структур власти. В соответствии с этим документом 17 ноября 2001 года состоялись первые выборы в Ассамблею (парламент) Косово.
24 октября 2005 года Совет Безопасности ООН в форме заявления его председателя дал «зеленый свет» процессу определения будущего статуса Косово. Спецпосланником Генерального секретаря ООН по статусному процессу стал Мартти Ахтисаари (Финляндия).
"План Ахтисаари", отвергнутый Сербией и Россией, предусматривает так называемую «подконтрольную независимость». Согласно плану, Косово будет государственным образованием, оставаясь под широким международным наблюдением. В крае по‑прежнему будут войска НАТО, сохранится присутствие администрации ООН, а впоследствии ЕС.
15 февраля 2008 года парламент Косово принял резолюцию, позволяющую принять весь пакет законов, воплощающий в жизнь так называемый "план Ахтисаари". Согласно этому документу, край получает независимость под международным контролем, а сербскому меньшинству Косово предоставляется широкая автономия.
В тот же день на экстренном заседании Совета безопасности ООН пять государств (США и Европейского Союза) из 15 членов Совбеза высказались за предоставление независимости Косово.
17 февраля состоялась пресс-конференция премьер-министра края Хашима Тачи, на которой он объявил о том, что независимость Косово - это решенный вопрос, после чего направился на созванное им заседание правительства края. Там он представил подготовленный проект декларации о независимости, согласно которому Косово провозглашается республикой, светским государством.
В этот же день декларация о независимости Косово была принята единогласно на заседании парламента. Депутаты также утвердили флаг и герб будущего государства.
Руководство Сербии после подписания декларации о независимости выступило с обращением к нации. Премьер‑министр Воислав Коштуница охарактеризовал действия властей Косово как "противоправные". Парламент Сербии принял единогласное решение об аннулировании решения краевого парламента Косово. Республика Косово была названа «фальшивым государством на территории Сербии», а на лидеров республики были заведены уголовные дела. Сербия также отозвала послов из США, Германии и Великобритании. В Белграде и Нови Саде начались массовые выступления противников независимости Косово.
18 февраля 2008 года ряд государств первыми признали независимость Косово. Первой из европейских стран такое решение приняла Франция, а затем к ней присоединились Великобритания и Италия. В тот же день независимость Косова признали США. 20 февраля 2008 года Германия также признала суверенитет края.
В то же время против признания независимости края выступила Испания, а также Кипр, Греция, Индия, Словакия, Румыния, Китай и Россия и другие. Президент РФ Владимир Путин заявил, что одностороннее объявление независимости Косова является нарушением принципов международного права.
На текущий момент независимость Косова признали более 40 государств из 192, входящих в состав ООН.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
О корнях главной сербской проблемы
Политический процесс в современной Сербии по-прежнему формируется вокруг основной темы – судьбы Косово и Метохии. Существует и распространяется убеждение в том, что если Сербия войдет в состав ЕС, куда войдут и Косово, и Албания, то и проблема будет снята этой новой гражданско-политической идентичностью. При этом та власть, которая осуществит вхождение в ЕС, якобы, будет избавлена от позорного и политически фатального клейма – предателя сербской истории и сербской нации. Так ли это? О жизненноважной роли Косово и политике сербской элиты размышляет историк Никита Бондарев - руководитель центра Балканских исследований РИСИ.
17 февраля 2008 г. парламент автономного края Косово, с июня 1999 г. находившегося под управлением администрации ООН, в одностороннем порядке заявил об отделении от Сербии и создании независимого государства «Республика Косова» (в албанском произношении - с ударением на второй слог и конечной «а»). Уже на следующий день независимость Косово признали Франция, Великобритания, Италия и США, а также Афганистан и Тайвань. На данный момент независимость Косово официально признана 76 государствами.
При этом Сербия, Россия, Китай, Индия, Греция, Испания, Румыния, Словакия и ряд других государств отказываются признавать новопровозглашенное государство, поскольку его создание юридически не легитимно. Объявление властями Косово независимости в одностороннем порядке противоречит как конституции Сербии, так и резолюции Совета Безопасности ООН № 1244 от 1999 г. То есть, с точки зрения международных правовых норм, провозглашение независимости Косово не является легитимным, что, однако, не повлияло на позицию правительств 76 государств, в том числе ведущих западных демократий. С чисто исторической точки зрения объявление независимости Косово стало триумфом реверсивного, телеологического восприятия национальной истории, что само по себе является чрезвычайно опасным для всего региона симптомом.
Любой исследователь, приступающий к изучению ситуации в Косово, уже на начальном этапе сталкивается с множественностью интерпретаций собственно косовского конфликта и его предыстории. Общепринятым как среди сербов, так и среди албанцев является концепция «историзма», причем у сербов свое видение истории региона, у албанцев свое. Международные же институты выработали сугубо негативистское понимание онтологии кризиса, базирующееся на концепции «instant history».
В качестве альтернативы и «вульгарному историзму», и западному прагматизму нами рассматривается интерпретация Косово как сакральной для сербов территории, «сербской Святой Земли», «сербского Иерусалима».
В наиболее лапидарном изложении «исторические» аргументы сербской стороны таковы: албанцы являются захватчиками, вторгшимися в колыбель сербской культуры и государственности, то есть Косово. Албанцы вытеснили сербов, освоились на исконно сербской территории и, в конечном итоге, добились отделения от Сербии. Однако независимость Косова от Сербии это цель промежуточная, а главная цель косовских сепаратистов - присоединиться к Албании, создав, таким образом, региональную сверхдержаву-гегемон. Эта позиция имеет вполне наукообразную аргументацию, в подтверждение ее приводятся различные сербские и зарубежные источники.
Само возникновение албанского народа, в рамках сербского видения истории региона, является следствием переселенческой политики Османской империи. Вырезав большую часть населения Косово, турки стали заселять его мигрантами: из Малой Азии – этническими турками; с Кавказа - черкесами и лезгинами; с Ближнего Востока – арабами и другими семитскими народами; из труднодоступных горных районов современной Албании – потомками дославянского автохтонного народа иллирийцев, не подвергшимися культурному влиянию Византии. Из всех этих составляющих, по мнению сербских ученых, на территории Косово и прилегающей северной Албании в конце XV века и возникла албанская нация в ее современном виде. Этот сложный и запутанный этногенез для Балкан не является чем-то исключительным, происхождение болгарского народа, например, не менее запутано.
Возникшие как народ в результате переселенческой политики османской Турции, албанцы какое-то время не доставляли особых неудобств коренному населению региона, то есть сербам. Но с конца XIX века албанцы решили окончательно очистить от сербов Косовский вилайет, с этой целью в косовском городе Призрене была в 1878 г. создана так называемая «Призренская лига», с которой начинается история всей современной албанской государственности. Пользуясь покровительством Стамбула, албанцы вытесняли и уничтожали сербов до 1912 года, когда по итогам Первой балканской войны косовская часть «турецкого наследства» отошла Сербии. С массовыми антисербскими акциями албанцам пришлось повременить, но столкновения на национальной почве имели место на протяжении всех 20-30-х гг.
После начала Второй мировой войны Косово вошло в состав профашистской Великой Албании. С 1941 по 1945 г. албанцы устроили косовским сербам локальный геноцид, по данным сербских ученых, более десяти тысяч человек было убито, около ста тысяч изгнано. В рамках сербоцентричной версии событий, именно «драма изгнания» сербов из края во время Второй мировой войны лежит в основе их современного плачевного положения в Косово.
После окончания Второй мировой войны и создания социалистической Югославии, сербским беженцам из Косово было запрещено возвращаться в родные места, албанцы же получили всевозможные свободы. В 1945 г. Косово было провозглашено автономной областью, в 1963 г. автономным краем, в 1974 г. край был практически уравнен в правах с союзными республиками. Это краткое изложение видения истории албанского присутсвия в Косово в рамках просербской исторической парадигмы.
У албанцев свое, столь же этноцентричное, понимание проблемы Косово, основанное на реверсивном восприятии истории и наукообразной аргументации их «права первенства» на Косово. В рамках албанской интерпретации истории края именно они являются коренным населением Косово, а сербы – захватчиками.
Согласно албанской концепции истории, именно они являются коренным населением Косово, а сербы – захватчиками.
Главный албанский тезис состоит в том, что предки современных албанцев жили на Балканах всегда, в отличие от славян, которые пришли сюда лишь в VI веке, вместе с вестготами и гуннами, разрушая все на своем пути. Захватчики, впрочем, довольно быстро восприняли от коренного населения римско-византийскую культуру, носителями которой были предки современных албанцев, затем приняли христианство и признали власть Константинополя.
Принципиально важен для албанского утверждения права на Косово тот факт, что в битве на Косовом поле в 1389 г. албанцы встали против турецких захватчиков бок о бок с сербами. А после Косовской битвы, когда раздираемая междоусобной розней Сербия разваливалась, постепенно сдавая свою территорию османам, во главе сопротивления туркам оказался албанец – Георгий Кастриоти, вошедший в историю как Скандербег. Если исходить из албанской концепции истории Косово, одного этого факта было бы достаточно, чтобы дезавуировать сербские попытки представить турок и албанцев союзниками и единомышленниками.
Простое сравнение основных положений албанского и сербского видения истории косовского кризиса выявляет удивительное совпадение основных идейных акцентов обеих теорий. Видный российский балканист А.А. Улунян в этой связи выдвигает тезис о «блоковой структуре национального вопроса на Балканах» и вычленяет несколько идейных модулей, характерных для идеологических интерпретаций своей национальной истории всеми балканскими народами. Идеологическое обоснование необходимости обретения государственности или расширения границ существующего государства также базируется на нескольких блоках или тропах, идентичных для всех балканских народов.
Это идея «исторического права» (реальной или мнимой принадлежности той или иной территории тому или иному народу), идея «сохранения/возвращения исторического наследия», идея «собирания земель» населенных соплеменниками, идея «равноправия различных балканских народов» (в данном контексте – уравнительный дележ имперского наследства, право всех народов на плодородные земли и выход к морю). Цель и смысл всех этих модулей – «мобилизация общества для реализации геополитической идеи» и «формирование концепции национального интереса и национальной безопасности».
Таким образом, исторические параллели, аберрации и вообще реверсивное восприятие истории не являются отражением осознанной диффамации исторической науки и исторической памяти в балканском регионе. Скорее здесь можно говорить об актуализации истории – в моменты кризисов для балканских народов история перестает быть «учительницей жизни» (historia est magistra vitae), а буквально становится содержанием жизни. Перед нами не «конец истории», о котором писал американский философ Ф. Фукуяма, а, наоборот, перетекание истории в повседневность, тотальная история.
Ключевым для интерпретации Западом балканских исторических парадигм стало понятие «instant history», буквально «быстрорастворимая история».
Эта концепция, в значительной степени базирующаяся на идеях Фукуямы, была заявлена в качестве единственно возможной интерпретации исторического аспекта идеологических построений балканских народов в статье «Instant history: как правильно понимать войны на территории бывшей Югославии», опубликованной в 1996 г. в академическом издании «Slavic Review». Авторами этой эпохальной статьи стали четверо видных специалистов по истории Балкан – Г. Стокс, Дж. Лампе, Д. Русинов и Д. Мостоу. В этой статье видные ученые призвали научное сообщество и политических аналитиков априорно игнорировать любые исторические реминисценции, встречающиеся в идеологических концепциях балканских политиков, любые призывы к «исторической справедливости», упоминания «исторических границ» и «исторического достояния». Авторы статьи убеждают читателя, что на Балканах историческая наука является не более чем совокупностью исторических анекдотов и казусов, которые можно легко приспособить к потребностям сегодняшнего дня. У каждого из народов бывшей Югославии есть свой компендиум таких исторических анекдотов, из которого можно до бесконечности черпать реминисценции, подходящие для любого случая. Также у каждой из конфликтующих сторон для каждого такого «исторического анекдота» (битва на Косовом поле, например) имеется целая система наукообразных доказательств, опровергнуть которые в рамках цивилизованной дискуссии практически невозможно. Излишне говорить, что «быстрорастворимая история сербов» существует лишь затем, чтобы противоречить «быстрорастворимой истории албанцев», и наоборот.
Порочный круг бесконечных исторических реминисценций должен быть разорван путем их абсолютного игнорирования – таков вывод, предлагаемый авторами статьи. Призывы к «исторической справедливости», соблюдению «исторических границ», уважению «исторического права» можно и должно пропускать мимо ушей. Как и все интеллектуальные стратегии, основывающиеся на упрощенчестве, идея «instant history» применительно к косовскому кризису быстро снискала себе многих сторонников, а для американской внешней политики стала и вовсе основополагающей.
Убежденной приверженкой концепции «быстрорастворимой истории» была, в частности, госсекретарь США (1997-2001 гг.) Мадлен Олбрайт, при активнейшем участии которой Косово было де-факто отторгнуто от Сербии после войсковых операций 1999 г. В своих мемуарах она так описывает процесс переговоров по Косово:
«Сербы читают нам лекции, из которых следует, что Косово – неотъемлемая часть Сербии. Затем албанцы рассказывают нам об албанской истории Косово. Мы соглашаемся и с теми, и с другими… Мы говорим каждой из сторон то, что им хочется услышать, и советуем не верить тому, что он узнает от кого-либо другого. И эта тактика отлично действует!».
Очевидно, что М. Олбрайт, в силу неких сугубо личных качеств, которые мы не считаем уместным обсуждать, восприняла концепцию «быстрорастворимой истории» прежде всего как право не обращать внимания на доводы вовлеченных в конфликт сторон, не интересоваться истоками конфликта, а руководствоваться исключительно своим собственным пониманием текущего момента. Но также и как своеобразную индульгенцию, позволяющую ей откровенно лгать, если собеседник прибегает к исторической аргументации.
В мемуарах М. Олбрайт есть описание чрезвычайно показательной в данном контексте встречи с сербским епископом Артемием (Радосавлевичем) в косовском монастыре Грачаница, по окончании военной кампании 1999 г. Владыка показывает главе американского внешнеполитического ведомства фотографии разрушенных православных храмов и выражает опасение, что всем сербам вскоре, видимо, придется покинуть Косово. «Я заверила его, - пишет г-жа Олбрайт, - что миротворческие силы НАТО и ООН сделают все, чтобы его народ чувствовал себя в безопасности». Госсекретарь гарантировала епископу сохранность сербских святынь в Косово и пообещала, что косовские сербы не будут отделены от Сербии. Своим читателям М. Олбрайт объясняет – это была вынужденная ложь, потому что иначе разговаривать с человеком, постоянно апеллирующим к древней истории, используя при этом авторитет своего сана, было просто невозможно. На самом же деле у сербов в Косово нет никакого будущего - «Косово, которое многие сербы почитают за сердце своей нации, давно уже вросло в чужое тело».
Признание косовской независимости основными акторами международной политической жизни можно расценивать как логичный, закономерный итог триумфа концепции «быстрорастворимой истории», и логически из нее вытекающего «прагматизма», над базовыми принципами международной безопасности и здравым смыслом.
Фатальной ошибки мирового масштаба, каковой является признание независимости Косово, можно было избежать, если бы международное сообщество не отгораживалось от сложной и неоднозначной истории края жупелом «instant history». К сожалению, в случае Косово политика Запада становится не только предвзятой и необъективной, но и все более и более «прагматичной», то есть упрощенческой.
Причем упрощенчеством грешат не только американские либеральные демократы («лебдемы») в лице Олбрайт, г-на Клинтона и г-жи Клинтон, но и американские неоконсерваторы («неоконы»), в лице, например, Дика Чейни. Применительно к вопросу Косово между двумя этими лагерями вообще не прослеживается сколько-то существенной разницы. Упрощенчество и стремление к деисторизации косовского конфликта свойственно и независимым американским политическим мыслителям консервативного толка, например, очень популярному в определенных политических кругах в России Эдварду Люттваку. В четвертом номере журнала “Foreign affairs” за 1999 год, профессор Люттвак опубликовал манифест «неопрагматического» подхода к решению косовского кризиса, названый “Give war a chance”, буквально - «дайте войне шанс», на грамотном русском – «пусть будет война».
«Неприятная правда состоит в том, - пишет Люттвак, - что хотя война и является величайшим злом, она обладает одним важным положительным качеством: война способна решать политические конфликты и приводить к стабильному миру. Но это ее свойство может реализоваться либо, когда воющие стороны израсходуют все имеющиеся у них военные и людские запасы, либо, когда одной из сторон удастся одержать решительную победу. Увы, но в наши дни небольшие страны вынуждены соглашаться на прекращение боевых действий… Это ведет к тому, что каждый раз, когда в том или ином регионе начинается война, ее прерывают и тем самым не дают ей превратиться в прочный мир». Далее выраженно антисербски настроенный профессор Люттвак размышляет о том, насколько дешевле и практичней для США было бы не лезть самим в Косово, а предоставить албанцам разобраться с этой ужасной «интервенционистской сербской военщиной» с Милошевичем во главе.
Таким образом, мы видим, что идеологическое обоснование права на Косово при помощи «реверсивного историзма», свойственного как сербам, так и албанцам, во внешнеполитическом контексте просто не работает; сербский и албанский «историзмы», будучи сопоставлены, девальвируют и обессмысливают друг друга. Логичным выходом из «тупика историзма» для западной дипломатии стали концепции «быстрорастворимой истории», «прагматизма» (Олбрайт) и «нео-прагматизма» (Люттвак). При этом, для внутреннего употребления (как среди сербов, так и среди косовских албанцев) «реверсивный историзм» продолжает работать, являясь и по сей день сильнейшим мобилизационным фактором.
Корень проблемы в том, что для Сербии «историзм» восприятия Косово является не более чем материалистической, атеистической производной от сакрального восприятия Косово, которое было свойственно сербам вплоть до середины XX в. В социалистические времена стараниями таких авторов, как писатель и академик Добрица Чосич, была произведена «секуляризация» восприятия святой для сербов косовской земли. Тот факт, что Косово стало местом, где сербы обрели христову веру, колыбелью христианства в Сербии и местонахождением предстоятеля Сербской православной церкви (с 1219 по 1766 гг.), в секулярной версии заменяется тезисом об «огромном культурном значении» косовских средневековых церквей и монастырей. Отдается должное косовскому эпосу и подвигу сербского народа в битве на Косовом поле (1389 г.), но умалчивается о том, что для средневековых сербских господарей противостояние «нечестивым агарянам» имело прежде всего религиозный характер. Сербия на Косовом поле встала на пути не просто очередных агрессивных захватчиков, а на пути силы, которая ставила под вопрос само существование европейской культуры, то есть христианской культуры (где те счастливые до-либеральные времена, когда эти понятия были тождественны!). Подвиг сербского народа на Косовом поле – это акт именно религиозный. Как и шестисотлетняя история сербского мученичества на Косово от рук турок и албанцев это, прежде всего, история страдания за православную веру. И, конечно, неслучайно сербские просветители XVIII-XIX вв. Вук Караджич и Дмитрий (в монашестве Досифей) Обрадович называли Косово сербским Иерусалимом.
Огромная трагедия режима Слободана Милошевича состоит именно в том, что сам он, его соратники и его супруга Мира Маркович, имевшая на Милошевича огромное влияние, будучи сербскими патриотами, оставались при этом атеистами.
А, стало быть, неизбежно являлись заложниками «вульгарного историзма», не способными воспринять и осмыслить сакральное значение Косово, его важность не только для Сербии, но и для христианства в целом. Это тем более прискорбно, что в годы правления Милошевича предстоятелем Сербской православной церкви был святейший Патриарх Павел (Стойчевич). Патриарх Павел являл собою удивительный пример подлинно христианской жизни, смирения и аскезы, любви и всепрощения, и при этом – последовательной борьбы за сохранение Косово в лоне православной церкви.
Еще будучи епископом рашско-призренским, владыка Павел делал всё от него зависящее для сохранения христианства на Косово, не боялся даже вступать в прямую полемику с атеистическим режимом Тито. Не так давно в Сербии была опубликована его переписка с властями Югославии и патриархом Германом по поводу положения православных верующих и христианской церкви на Косово. Это поразительная по своей силе хроника последовательного разрушения албанцами православных святынь и христианского уклада жизни сербов на Косово, при попустительстве гражданских властей, в том числе этнических сербов-коммунистов. «Народ здесь как овцы без пастыря предоставлен сам себе, так что неудивительно, что люди ошеломлены и пошатнулись в своей вере под натиском всех возможных бед, которые сильно ударяют по ним. В основном, я призвал бы их сохранить самое главное – свою душу и честь своего народа, то общее благо, которое унаследовали мы от наших святых предков…» - пишет епископ Павел о положении на Косово в 60-е гг. Из писем будущего патриарха становится абсолютно очевидна первичность религиозной составляющей в трагедии сербов на Косово – сохранение православной веры было не только главным стержнем сербской жизни в этом крае, но и целью и смыслом самого возвращения этих земель в состав сербского государства в 1912 г. Начав гонения на православие, режим Тито обессмыслил и обескровил идею сербского Косово. Потеряв связь со своими парохиями, вообще с церковной жизнью, сербы начали в массовом порядке переселяться из внутренних районов Косово и Метохии на индустриально развитый север края, бросая омытые кровью отцов и дедов святыни на произвол судьбы. Таким образом, подлинная трагедия косовских сербов, предопределившая изгнание сербов из края и, в конечном итоге, его отделение от Сербии – в отказе местного населения от христианской веры. Непонимание этого факта, в свою очередь, предопределило безрезультатность косовской политики Милошевича.
Будем, однако, справедливы к замученному в Гаагском трибунале сербскому лидеру. Натовские бомбардировки Югославии весной 1999 г. заставили его в значительно степени пересмотреть свою картину мира.
В сентябре 1999 г. в Белграде под патронажем Сербской православной церкви проходит чрезвычайно масштабная выставка «Распятое Косово», а затем издается одноименная книга, деньги на печать которой выделены из личных фондов Милошевича. Именно эта книга впервые увязывает воедино все страдания, которые сербский народ претерпел на Косово, от турецких поработителей до натовских бомб, и ставит их в религиозный, сакральный контекст. Идея сакрального, а не сугубо исторического, значения Косово для Сербии (и всего христианства) получает свое развитие в правление Воислава Коштуницы, декларировавшего себя сербским националистом и, в отличие от Милошевича, не связанного догмами коммунистической идеологии.
В контексте отхода от «вульгарного историзма», возвращения от телеологии к теологии, если угодно, принципиально важна деятельность владыки Йована (Чулибрка), епископа Липлялнского в 2011-2014 гг., с 2014 г. – епископа Славонского. Опыт владыки Йована доказывает, что сакральное восприятие Косово может быть понято и принято не только сербами, но в принципе любыми верующими людьми, причем не обязательно даже христианами. Владыка Йован защитил докторскую диссертацию в Израиле, в мемориальном центе Яд ва-Шем, посвящена она была геноциду сербов в годы Второй мировой войны со стороны хорватских усташей. Как рассказывает владыка, в Израиле мало кто, в том числе люди ученые, знал о зверствах усташей в годы Второй мировой, несмотря на то что жертвами хорватских фашистов стали и несколько десятков тысяч местных евреев. За ряд публикаций на эту тему в израильских научных изданиях, равно как и проведенные в Сербии и Израиле научные конференции, сербский владыка был удостоен премии Голды Меир.
«И тогда я замахнулся на цель, казавшуюся мне изначально недостижимой» - вспоминает владыка Йован. «Если я смог расположить израильтян к сербам, проведя параллель между страданиями сербов и евреев во Вторую мировую войну, то почему бы не попробовать объяснить им, чем для сербов является Косово. Это ведь не просто какая-то территория, это наша Святая Земля». Задумка владыки Йована оказалась более чем успешной. В 2012 г. в Печской патриархии, главном центре православия на Косово, состоялась международная конференция «Балканы и Ближний Восток: общее и особенности», в которой участвовали сербские, израильские и европейские ученые. Главная цель конференции – показать, что ни конфликт на Косово, ни конфликты на Ближнем Востоке нельзя не только решить, но и хоть сколько-то минимизировать, если мы выводим за скобки фактор особенного, сакрального значения Косова (для сербов, православия, христианства в целом) и Святой Земли (для трех мировых религий).
«Без понимания сакрального значения этих территорий, довольно незначительный эффект переговоров в Рамбуйе и соглашений, подписанных в Осло, становится еще более незначительным и сомнительным, а будущее – непредсказуемым…» - заключает свое выступление владыка Йован.
К этой оценке присоединяются и другие участники конференции, например профессор Иерусалимского университета Мартин ван Кревелд.
Пример владыки Йована доказывает, что возвращение к сакральному восприятию косовского конфликта - это не шаг назад, как утверждают некоторые либеральные публицисты, а шаг вперед. Это, помимо прочего, возможность донести суть событий, происходящих на Косово, до значительного числа людей, не утративших веру, но одурманенных и оболваненных западной антиисторической пропагандой.
Специально для Столетия


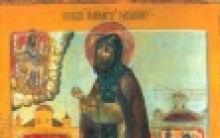



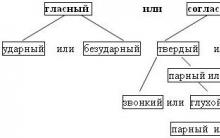




Условные графические обозначения
Проблема наличия нефтепродуктов в воде и как с ней бороться Смотреть что такое "ПНД Ф" в других словарях
О шестидневной рабочей неделе При 6 дневной
Кто такой социальный работник?
Коренная пустынь в Курской области: история чуда Коренная пустынь молебен о недужных