Скоро после свадьбы Остен-Сакен уехал с молодой женой в свое большое остзейское имение, и там все больше и больше стала проявляться его душевная болезнь, выражавшаяся сначала только очень заметной беспричинной ревностью. На первом же году своей женить бы, когда тетушка была уже на сносях беременна, болезнь эта так усилилась, что на него стали находить минуты полного сумасшествия, во время которых ему казалось, что враги его, желающие отнять у него его жену, окружают его, и единственное спасение для него состоит в том, чтобы бежать от них. Это было летом. Вставши рано утром, он объявил жене, что единственное средство спасения состоит в том, чтобы бежать, что он велел закладывать коляску и они сейчас едут, чтобы она готовилась.
Действительно, подали коляску, он посадил в нее тетушку и велел ехать как можно скорее. На пути он достал из ящика два пистолета, взвел курок. и, дав один тетушке, сказал ей, что, если только враги узнают про его побег, они догонят его, и тогда они погибли, и единственное, что им остается сделать, это убить друг друга. Испуганная, ошеломленная тетушка взяла пистолет и хотела уговорить мужа, но он не слушал ее и только поворачивался назад, ожидая погони, и гнал кучера.
На беду на проселочной дороге, выходившей на большую, показался экипаж, и он вскрикнул, что все погибло, и велел ей стрелять в себя, и сам выстрелил в упор в грудь тетушки. Должно быть, увидев, что он сделал, и то, что напугавший его экипаж проехал в другую сторону, он остановился, вынес раненую, окровавленную тетушку из экипажа, положил на дорогу и ускакал. На счастье тетки скоро на нее наехали крестьяне, подняли ее в свезли к пастору, который, как умея, перевязал ей рану и послал за доктором. Рана была в правой стороне груди навылет (тетушка показывала мне оставшийся след) и была не тяжелая. В то время как она, выздоравливая, все еще беременная, лежала у пастора, муж ее, опомнившийся, приезжал к ней и, рассказав пастору историю о том, как она нечаянно была ранена, попросил свидания с ней.
Свидание это было ужасно; он, хитрый, как все душевнобольные, притворился раскаивающимся в своем поступке и только озабоченным ее здоровьем. Посидев с ней довольно долго, совершенно разумно обо всем разговаривая, он воспользовался той минутой, когда они остались одни, чтобы попытаться исполнить свое намерение.
Как бы заботясь об ее здоровье, он "попросил ее показать ему язык, и когда она высунула его, схватился одной рукой за язык, а другой выхватил приготовленную бритву с намерением отрезать его. Произошла борьба, она вырвалась от него, закричала, вбежали люди, остановили и увели его. С тех пор сумасшествие его совершенно определилось, и он долго жил в каком-то заведении для душевнобольных, не имея никаких сношений с тетушкой.
Вскоре после этого тетушку перевезли в родительский дом в Петербург, и там, она родила уже мертвого ребенка. Боясь последствий огорчения от смерти ребенка, ей сказали, что ребенок ее жив, и взяли родившуюся в то же время у знакомой прислуги, жены придворного повара, девочку. Эта девочка - Пашенька, которая жила у нас и была уже взрослой девушкой, когда я стал помнить себя. Не знаю, когда была открыта Пашеньке история ее рождения, но, когда я знал ее, она уже знала, что она не была дочь тетушки.
Тетушка Александра Ильинична после случившегося с нею жила у своих родителей, потом у моего отца и потом после смерти отца была нашей опекуншей, а когда мне было 12 лет, умерла в Оптиной пустыни. Тетушка эта была истинно религиозная женщина. Любимые ее занятия были чтения житий святых, беседы с странниками, юродивыми, монахами и монашенками, из которых некоторые жили всегда в нашем доме, а некоторые только посещали тетушку. В числе почти постоянно живших у нас была монахиня Марья Герасимовна, крестная мать моей сестры, ходившая в молодости странствовать под видом юродивого Иванушки. Крестною матерью сестры Марья Герасимовна была потому, что мать обещала ей взять ее кумой, если она вымолит у Бога дочь, которую матери очень хотелось иметь после четырех сыновей. Дочь родилась, и Марья Герасимовна была ее крестной матерью и жила частью в тульском женском монастыре, частью у нас в доме. Тетушка Александра Ильинична не только была внешне религиозна, соблюдала посты, много молилась, общалась с людьми святой жизни, каков был в ее время старец Леонид в Оптиной пустыни, но сама жила истинно христианской жизнью, стараясь не только избегать всякой роскоши и услуги, но Стараясь, сколько возможно, служить другим.
Денег у нее никогда не было, потому что она раздавала просящим все, что у нее было. Горничная Гаша, после смерти бабушки перешедшая к ней, рассказывала мне, как она во время московской жизни, идя к заутрене, старательно на цыпочках проходила мимо спящей горничной и сама делала все то, что по принятому обычаю обычно делалось горничной. В пище, одежде она была так проста и нетребовательна, как только можно себе представить... Третье и самое важное [лицо] в смысле влияния на мою жизнь была тетенька, как мы называли ее, Татьяна Александровна Ергольская. Она была очень дальняя по Горчаковым родственница бабушке. Она и сестра ее Лиза, вышедшая потом за графа Петра Ивановича Толстого, остались маленькими девочками, бедными сиротками от умерших родителей. Было еще несколько братьев, которых родные кое-как пристроили, девочек же решили взять на воспитание знаменитая в своем кругу в Чернском уезде и в свое время властная и важная Тат.
Сем. Скуратова и моя бабушка. Свернули билетики, положили под образа, помолившись, вынули, и Лизанька досталась Татьяне Семеновне, а черненькая - бабушке. Таненька, как ее звали у нас, была одних лет с отцом, родилась в 1795 году, воспитывалась совершенно наравне с моими тетками и была всеми нежно любима, как и нельзя было не любить ее за ее твердый, решительный, энергичный и вместе с тем самоотверженный характер. Очень рисует ее характер событие с линейкой, про которое она рассказывала нам, показывая большой, чуть не в ладонь, след обжога на руке между локтем и кистью. Они детьми читали историю Муция Сцеволы и заспорили о том, что никто из них не решился бы сделать того же.
«Я сделаю», - сказала она. «Не сделаешь», - сказал Языков, мой крестный отец, и, что тоже характерно для него, разжег на свечке линейку так, что она обуглилась и вся дымилась. «Вот приложи это к руке», - сказал он. Она вытянула белую руку, - тогда девочки ходили всегда декольте - и Языков приложил обугленную линейку. Она нахмурилась, но не отдернула руки. Застонала она только тогда, когда линейка с кожей отодралась от руки. Когда же большие увидали ее рану и стали спрашивать, как это сделалось, она сказала, что сама сделала это, хотела испытать то, что испытал Муций Сцевола.
Такая она была во всем решительная и самоотверженная. Должно быть, она была очень привлекательная с своей жесткой черной курчавой, огромной косой и агатово-черными глазами и оживленным, энергическим выражением.
Юшков, муж тетки Пелагеи Ильиничны, большой волокита, часто уже стариком, с тем чувством, с которым говорят влюбленные про прежний предмет любви, вспоминал про нее: «Toinette, oh, elle etait charmante». Когда я стал помнить ее, ей было уже за сорок, и я никогда не думал о том, красива или некрасива она. Я просто любил ее, любил ее глаза, улыбку, смуглую, широкую, маленькую руку с энергической поперечной жилкой. Должно быть, она любила отца, и отец любил ее, но она не пошла за него в молодости для того, чтобы он мог жениться на богатой моей матери, впоследствии же она не пошла за него потому, что не хотела портить своих чистых, поэтических отношений с ним и с нами. Я сказал, что тетенька Татьяна Александровна имела самое большое влияние на мою жизнь. Влияние это было, во-первых, в том, что еще в детстве она научила меня духовному наслаждению любви. Она не словами учила меня этому, а всем своим существом заражала меня любовью.
Я видел, чувствовал, как хорошо ей было любить, и понял счастье любви... Она делала внутреннее дело любви, и потому ей не нужно было никуда торопиться.
И эти два свойства - любовность и неторопливость - незаметно влекли в близость к ней и давали особенную прелесть в этой близости. От этого, как я не знаю случая, чтобы она обидела кого, я и не знаю никого, кто бы не любил ее. Никогда она не говорила про себя, никогда о религии, о том, как надо верить, о том, как она верит и молится. Она верила во все, не отвергала только один догмат - вечных мучений...
Немца нашего учителя Фед. Ив. Рёсселя я описал, как умел подробно, в «Детстве» под именем Карла Ивановича. И его история; и его фигура, и его наивные счеты - все это действительно так было...
Леванова Л. Н. Воспоминания // Дважды первый директор: Воспоминания о Д. Е. Васильеве. - 2012. - С. 49-52.
ВОСПОМИНАНИЯ Л. Н. ЛЕВАНОВОЙ12
Молодую семью по путевке Свердловского обкома партии направили в Свердловск-45, который еще не был городом и состоял из бараков, до которых добирались по колено в грязи. Тысячи заключенных строили завод и будущий город. Лия с мужем получили комнату одиннадцати метров в финском доме. Домики эти считались временным жильем и были без отопления и безо всякой воды. Только в 1955 году семья получила благоустроенную квартиру. А в пятидесятом году ничего словно и не было вообще. Заводоуправление располагалось в большом двухэтажном деревянном здании. Находилось оно в городе. Завод еще не работал, цеха только строили заключенные.
Лия Николаевна стала работать техником-хронометристом в отделе труда и заработной платы, возглавлял который В. А. Шипулин. Шипулиных Лия уже знала - Виктор Александрович с женой Анастасией Степановной ехали с ними из Тагила в одном вагоне. С Анастасией Степановной ее не раз еще сведет судьба. Лия с удовольствием будет показывать подпись Анастасии Степановны на документах, подтверждающих высокий профессионализм Левановой.
У Шипулина Лия Николаевна проработала год, контактировала с начальниками цехов, знала всех инженеров-экономистов, и не мудрено - почти все работники будущего комбината были тогда сосредоточены в заводоуправлении, ютились в небольших комнатах по шесть и восемь человек. Почти все они были специалистами из Москвы, после ЛИПАНа (Лаборатория измерительных приборов Академии наук).
С отчетами Лия Николаевна ходила к самому Дмитрию Ефимовичу Васильеву - первому директору предприятия. Он нравился, пожалуй, всем женщинам. Они находили его неповторимым и очень интересным, от него всегда пахло духами. Он был высок, обаятелен и весьма обходителен. Когда он входил, Лия терялась.
Секретарем его была Адель Максимовна Зайкова. Она имела высшее образование, замуж не выходила; в дальнейшем работала в институте и всю жизнь посвятила учебе и работе. Однажды она сказала Лии, когда та принесла очередные отчеты: «Лия Николаевна, я вот поеду в отпуск, а вы вместо меня поработаете». Но Лия не придала этому значения.
Через некоторое время ее вдруг вызвал сам Дмитрий Ефимович. «Не напорола ли я в отчете?..» - с ужасом думала Лия. Васильев усадил ее в красное кожаное кресло, сам сел в другое - напротив:
Надо поработать, Лия. У вас получится.
Лия думала об одном: только бы не расплакаться в кабинете. Совсем недавно у нее родился сын. Грудной ребенок требовал ухода и всем понятных забот, и все это казалось Лии несовместимым с ответственной работой технического секретаря директора. Лия отказывалась: детских садов и ясель еще не существовало, холодный финский домик, промерзающий насквозь, ломота в руках после утреннего полоскания пеленок в ледяной проруби, растопка печи, режим кормления, который приходилось выдерживать - об этом не принято было говорить, все подчинялось только работе. Компромиссов не существовало. Дмитрий Ефимович понимал, как трудно сейчас Лие. Он и сам жил с женой, Александрой Аркадьевной, «на финском поселке» с приемной дочерью Долли (Долорес).
Мы вам поможем. Будете пользоваться директорской машиной в часы кормления. Решайтесь.
Но Лия никак не могла согласиться. Из кабинета вышла в тревоге и смятении. В тот же день от переживания пропало в груди молоко.
Времена были безжалостными. На следующий день Лию Николаевну ознакомили с приказом, и она приступила к работе в новой должности. Из Вологды приехала тетя - нянчиться с малышом.
Лие было только 24 года. У нее был крошечный сын и ответственная работа, на которой еще всему предстояло научиться. Лия легко собрала совещание в первый же день работы, благо, будучи хронометристом, познакомилась со всеми начальниками цехов. До начала совещания Васильев показал на аппарат ВЧ:
Все, что там будет, запишите.
Нужно было срочно учиться печатать на машинке и стенографировать. В кабинете стояла чехословацкая «Оптима». Лия вставала в пять утра и шла на работу, чтобы самостоятельно освоить искусство машинописи. Неделю спустя Васильев ее хвалил - такими очевидными были успехи. Чем дальше, тем больше восхищался директор новым секретарем. Лия обладала исключительной памятью и редким трудолюбием. Дмитрий Ефимович, очаровательный, интеллигентный, умел, не повышая голоса, подчинить делу все, что его окружало. Его присутствие воодушевляло, хотелось сделать все возможное и даже невозможное. Лия Николаевна, с ее кипучей энергией, молодостью и желанием работать, была наконец на том месте, где все ее способности оказались востребованными. Когда из Ленинграда приехал А. И. Ильин, Лия Николаевна подобрала для него литературу - 300 книг по технологии производства. Ильин нашел подборку
профессиональной. Дальнейшая совместная работа (а было время, когда Лия Николаевна была секретарем сразу у троих - Васильева, Ильина и академика Арцимовича) была непростой.
Слаженно работали, - говорит Лия Николаевна. - По трое суток не выходили, денно и нощно, вот как работали. Бывало, утром прихожу, а Ильин - за рабочим столом и удивленно так: «Уже утро?»
В 1953 году в Свердловск-45 приехал Берия. Лия узнала об этом накануне и всю ночь не спала: Лаврентий Павлович был лидером весьма почитаемым. У Лии на стене висел его портрет. Подчас мудрые глаза давали силы жить - они выражали совесть эпохи, с ними было легче принять правильное решение, ошибаться было нельзя.
Берия приехал под чужой фамилией, в обстановке строжайшей секретности. Лия знала о планируемом приезде из ВЧ-граммы. Посвященных было очень немного - боялись шпионов.
Его встречали на ГРЭС, куда он прибыл своим вагоном, окруженный многочисленной свитой. Лия Николаевна вспоминает: Когда зашли в приемную, он так запечатлился… Я узнала его сразу, по портрету. Он был высокий, в пальто с широкими плечами, мода на такие плечи только-только возникала. Пальто было коричневое, в полоску трех тонов, коричневая фетровая шляпа и золотое пенсне. Он поздоровался и прошел в кабинет директора, за ним следовала свита - нескончаемо. Идут и идут… После совещания он уехал и нигде больше не был.
Лев Андреевич Арцимович был невысокий, коренастый и рыжий. Он обладал замечательным умом, за который ему платили оклад 25 тысяч. Три адъютанта-полковника верно ему служили, меняя обязанности: пока один отдыхал, второй готовил обед, а третий «выкладывался» на работе.
Потом они менялись. Лев Андреевич говаривал: «Вот такая моя жизнь, все под пистолетом, даже любовницу не завести», - и смеялся собственной шутке… После девяти месяцев работы в Свердловске-45 Арцимович уехал в Красноярск-26.
В этот период обустройства объекта, который люди, движимые желанием построить новый город, склонны оценивать как «гимн труду», не все было безоблачно. Однажды «перестарался» первый отдел. Это случилось еще до приезда Берии. Лия Николаевна вела журнал - на миллиметровке, более метра шириной, с грифом секретности «Особой важности». Александра Аркадьевна, жена Дмитрия Ефимовича, приносила Лии данные по ЦЗЛ, а с пультов первого цеха поступали данные, по которым Лия Николаевна делала диаграммы для оперативки. Журнал убирала в сейф, когда уходила из кабинета.
Однажды двум работникам первого отдела не понравилась одна из ситуаций в кабинете: они возникли неожиданно и так трактовали ситуацию по-своему:
Обозреваете совершенно секретные результаты?!
Лию тотчас вызвали в первый отдел, закрыли двери на ключ и начали «прорабатывать». Лия не помнила, как дошла до приемной. Александра Аркадьевна, которая как раз принесла ей данные для журнала, ахнула:
Что-то с сыном, с мужем?.. - Лия не могла говорить, Александра Аркадьевна обняла ее…
«Шпиономаны» из первого отдела подготовили материалы, связанные с «утечкой информации», подготовили приказ и передали все директору. Дмитрий Ефимович пригласил Лию Николаевну в кабинет, порвал при них приказ и выбросил в урну. Потом твердо сказал:
Если такое повторится, я вас обоих уволю. Лии Николаевне я доверяю больше, чем вам.
Первое здание управления
Он сумел ее защитить на все последующие годы совместной работы. Более нападок на нее не было.
Потом Дмитрий Ефимович уехал в Челябинск-70, - вспоминает Лия Николаевна, - наладил производство здесь, а потом был послан туда. Снова - с нуля. Огромный труд, нечеловеческий. Два инфаркта перенес. Потом уж, после большой работы там, во время своего нездоровья, не смог не поздравить женщин с праздником. Сел за руль своей машины и всего двести метров не доехал до Дома культуры - сердце отказало, руки так и остались на руле. Я знала о нем - переговаривалась с его секретарем по ВЧ. Делегация от нашего комбината ездила на его похороны.
Когда после перевода Васильева в Челябинск-70 появился Мальский, я не знала, как мы сработаемся. Он приехал в военной форме, в папахе, с размаху открыл дверь - хозяином положения. После интеллигентного, очаровательного Васильева он производил совсем иное впечатление, но был человеком требовательным и незлопамятным. Работали мы с ним уважительно и слаженно…
Первые воспоминания
Лев Николаевич по-разному вспоминал об отце и о матери, хотя любил их как будто равно; взвешивая любовь свою на весах, он окружал поэтическим ореолом мать, которую почти не знал и не видел.
Лев Николаевич писал: «Впрочем, не только моя мать, но и все окружавшие мое детство лица – от отца до кучеров – представляются мне исключительно хорошими людьми. Вероятно, мое чистое детское любовное чувство, как яркий луч, открывало мне в людях (они всегда есть) лучшие их свойства, и то, что все люди эти казались мне исключительно хорошими, было гораздо больше правда, чем то, когда я видел одни их недостатки».
Так писал Лев Николаевич в 1903 году в своих воспоминаниях. Он начинал их несколько раз и бросал, так и не закончив.
Люди как будто противоречили сами себе, воспоминания спорили, потому что они жили в настоящем.
Воспоминания обращались угрызениями совести. Но Толстой любил стихотворение Пушкина «Воспоминание»:
И с отвращением читая жизнь мою,
Я трепещу и проклинаю,
И горько жалуюсь, и горько слезы лью,
Но строк печальных не смываю.
«В последней строке, – пишет он, – я бы только изменил бы так: вместо «строк печальных… » поставил бы: «строк постыдных не смываю».
Он хотел каяться и каялся в честолюбии, в грубой распущенности; в юности он прославлял свое детство. Он говорил, что восемнадцатилетний период от женитьбы до духовного рождения можно бы назвать с мирской точки зрения нравственным. Но тут же, говоря о честной семейной жизни, кается в эгоистических заботах о семье и об увеличении состояния.
Как трудно знать, о чем надо плакать, как трудно знать, в чем себя надо упрекать!
Толстой обладал беспощадной, всевосстанавливающей памятью; помнил то, что никто из нас вспомнить не может.
Он начинал свои воспоминания так:
«Вот первые мои воспоминания, такие, которые я не умею поставить по порядку, не зная, что было прежде, что после. О некоторых даже не знаю, было ли то во сне или наяву. Вот они. Я связан, мне хочется выпростать руки, и я не могу этого сделать. Я кричу и плачу, и мне самому неприятен мой крик, но я не могу остановиться. Надо мною стоят, нагнувшись, кто-то, я не помню кто, и все это в полутьме, но я помню, что двое, и крик мой действует на них: они тревожатся от моего крика, но не развязывают меня, чего я хочу, и я кричу еще громче. Им кажется, что это нужно (то есть то, чтобы я был связан), тогда как я знаю, что это не нужно, в хочу доказать им это, и я заливаюсь криком, противным для самого меня, но неудержимым. Я чувствую несправедливость и жестокость не людей, потому что они жалеют меня, но судьбы и жалость над самим собою. Я не знаю и никогда не узнаю, что такое это было: пеленали ли меня, когда я был грудной, и я выдирал руки, или это пеленали меня, уже когда мне было больше года, чтобы я не расчесывал лишаи; собрал ли я в одно это воспоминание, как это бывает во сне, много впечатлений, но верно то, что это было первое и самое сильное мое впечатление жизни. И памятно мне не крик мой, не страдания, но сложность, противуречивость впечатления. Мне хочется свободы, она никому не мешает, и меня мучают. Им меня жалко, и они завязывают меня. И я, кому всё нужно, я слаб, а они сильны».
В старой жизни человечества, в долгом его предутреннем сне, люди связывали друг друга собственностью, заборами, купчими, наследствами и свивальниками.
Толстой всю жизнь хотел освободиться; ему нужна была свобода.
Люди, которые его любили – жена, сыновья, другие родственники, знакомые, близкие, спеленывали его.
Он выкручивался из свивальников.
Люди жалели Толстого, чтили его, но не освобождали. Они были сильны, как прошлое, а он стремился к будущему.
Сейчас уже забывают, как выглядел прежде грудной младенец, обвитый свивальником, как мумия насмоленной пеленой.
Теперешний грудной младенец с поднятыми вверх согнутыми ножками – это другая судьба младенца.
Воспоминание о напрасном лишении свободы – первое воспоминание Толстого.
Другое воспоминание – радостное.
«Я сижу в корыте, и меня окружает странный, новый, не неприятный кислый запах какого-то вещества, которым трут мое голенькое тельце. Вероятно, это были отруби, и, вероятно, в воде и корыте меня мыли каждый день, но новизна впечатления отрубей разбудила меня, и я в первый раз заметил и полюбил мое тельце с видными мне ребрами на груди, и гладкое темное корыто, и засученные руки няни, и теплую парную стращенную воду, и звук ее, и в особенности ощущение гладкости мокрых краев корыта, когда я водил по ним ручонками».
Воспоминания о купании – след первого наслаждения.
Эти два воспоминания – начало человеческого расчленения мира.
Толстой отмечает, что первые годы он «жил, и блаженно жил», но мир вокруг него не расчленен, а потому нет и воспоминаний. Толстой пишет: «Мало того, что пространство, и время, и причина суть формы мышления и что сущность жизни вне этих форм, но вся жизнь наша есть большее и большее подчинение себя этим формам и потом опять освобождение от них».
Вне формы нет воспоминания. Оформляется то, к чему можно прикоснуться: «Все, что я помню, все происходит в постельке, в горнице, ни травы, ни листьев, ни неба, ни солнца не существует для меня».
Это не вспоминается – природы как бы нет. «Вероятно, надо уйти от нее, чтобы видеть ее, а я был природа».
Важно не только то, что окружает человека, но и то, что и как он выделяет из окружающего.
Часто то, чего человек как бы не замечает, на самом деле определяет его сознание.
Когда же мы интересуемся творчеством писателя, то нам важен способ, которым он выделял части из общего, для того, чтобы мы потом могли воспринять это общее заново.
Толстой всю жизнь занимался выделением из общего потока того, что входило в его систему миропонимания; изменял методы выбора, тем самым изменяя и то, что выбирал.
Посмотрим на законы расчленения.
Мальчика переводят вниз к Федору Ивановичу – к братьям.
Ребенок покидает то, что Толстой называет «привычное от вечности». Только что началась жизнь, и так как другой вечности нет, то пережитое вечно.
Мальчик расстается с первичной осязаемой вечностью – «не столько с людьми, с сестрой, с няней, с теткой, сколько с кроваткой, с положком, с подушкой…».
Тетка названа, но еще живет не в расчлененном мире.
Мальчика берут от нее. На него надевают халат с подтяжкой, пришитой к спине, – это как будто отрезает его «навсегда от верха».
«И я тут в первый раз заметил не всех тех, с кем я жил наверху, но главное лицо, с которым я жил и которое я не помнил прежде. Это была тетенька Татьяна Александровна».
У тетки появляется имя, отчество, потом она описана как невысокая, плотная, черноволосая.
Начинается жизнь – как трудное дело, а не игрушка.
«Первые воспоминания» были начаты 5 мая 1878 года и оставлены. В 1903 году Толстой, помогая Бирюкову, который взялся написать его биографию для французского издания сочинений, снова пишет воспоминания детства. Они начинаются с разговора о раскаянии и с рассказа о предках и братьях.
Лев Николаевич, возвращаясь в детство, теперь анализирует не только появление сознания, но и трудность повествования.
«Чем дальше я подвигаюсь в своих воспоминаниях, тем нерешительнее я становлюсь о том, как писать их. Связно описывать события и свои душевные состояния я не могу, потому что не помню этой связи и последовательности душевных состояний».
Из книги Моя война автора Портянский АндрейВОЙНА. ПЕРВЫЕ МГНОВЕНИЯ. ПЕРВЫЕ ДНИ Итак, возвращаюсь к незабываемому....Раннее утро 22 июня 1941 года. Точнее, утро еще не наступило. Была ночь. И только-только начал брезжить рассвет.Мы еще спим сладким сном после трудного вчерашнего многокилометрового похода (мы шли уже
Из книги Цицерон автора Грималь ПьерГлава III ПЕРВЫЕ ПРОЦЕССЫ. ПЕРВЫЕ ПРОИСКИ ВРАГОВ В течение лет, предшествовавших его появлению на форуме, юный Цицерон, как видим, переходил от правоведов к философам, от философов к риторам и поэтам, пытаясь побольше узнать у каждого, подражать каждому, не полагая своей
Из книги Воспоминания детства автора Ковалевская Софья ВасильевнаI. Первые воспоминания Хотелось бы мне знать, может ли кто-нибудь определить точно тот момент своего существования, когда в первый раз возникло в нем отчетливое представление о своем собственном я, - первый проблеск сознательной жизни. Когда я начинаю перебирать и
Из книги Взлет и падение «Свенцового дирижабля» автора Кормильцев Илья ВалерьевичГлава 11 ПЕРВЫЕ БЕДЫ И ПЕРВЫЕ ПОРАЖЕНИЯ В начале лета Роберт и Джимми отправляются с семьями на отдых в уже полюбившееся Марокко. В голове зреют пока еще смутные планы работы с восточными музыкантами где-нибудь в Каире или Дели (как мы знаем теперь, воплотить эти планы в
Из книги О себе… автора Мень Александр Из книги Истории давние и недавние автора Арнольд Владимир ИгоревичПервые воспоминания Первые мои воспоминания - село Редькино под Востряковым; думаю, июнь 1941 года. Солнце играет на внутренности сруба, смолятся сосновые бревна; на речке Рожайке - песок, перекат, синие стрекозы; у меня была деревянная лошадка «Зорька» и разрешалось мне
Из книги Победа над Эверестом автора Кононов Юрий ВячеславовичПервые научные воспоминания Быть может, наибольшее научное влияние оказали на меня из числа моих родственников двое моих дядьёв: Николай Борисович Житков (сын брата моей бабушки писателя Бориса Житкова, инженер-буровик) за полчаса объяснил двенадцатилетнему подростку
Из книги Микола Лысенко автора Лысенко Остап НиколаевичОбработка маршрута началась. Первые победы, первые потери На сложном скальном маршруте выше лагеря 3 идет М. Туркевич А до вершины еще больше километра по вертикали Лагерь 2. На скалах выложены упаковки с кислородными баллонами. На заднем плане хорошо видна складчатая
Из книги Оно того стоило. Моя настоящая и невероятная история. Часть I. Две жизни автора Ардеева Беата Из книги Мир, которого не стало автора Динур Бен-ЦионПервые воспоминания «И снова здравствуйте»… Я очнулась после того, как меня с большими сложностями привезли в Москву. После 33 дней в коме я плохо ориентировалась, с трудом пыталась говорить, никого не узнавала. Потом стала узнавать и даже общаться с друзьями и
Из книги Изольда Извицкая. Родовое проклятие автора Тендора Наталья ЯрославовнаГлава 1. Первые воспоминания Наш дом – с голубыми ставнями. Я стою у ворот, больших деревянных ворот. Они закрыты на длинный деревянный засов. В воротах – маленькая калитка, она сломана, болтается на петле и скрипит. Я поднимаю голову и вижу ставни – голубые ставни нашего
Из книги Записки о жизни Николая Васильевича Гоголя. Том 1 автора Кулиш Пантелеймон АлександровичПервые роли, первые разочарования Сниматься в кино Извицкая начала за год до окончания института - в 1954 году, правда, пока только в эпизодах: в приключенческой ленте «Богатырь» идет в Марто», в оптимистической драме «Тревожная молодость». В них Извицкой ничего играть и не
Из книги Шаги по земле автора Овсянникова Любовь БорисовнаI. Предки Гоголя. - Первые поэтические личности, напечатлевшиеся в душе его. - Характерические черты и литературные способности его отца. - Первые влияния, которым подвергались способности Гоголя. - Отрывки из комедий его отца. - Воспоминания его матери В малороссийских
Из книги автораII. Пребывание Гоголя в Гимназии высших наук Князя Безбородко. - Детские проказы его. - Первые признаки литературных способностей и сатирического склада ума его. - Воспоминания самого Гоголя о его школьных литературных опытах. - Школьная журналистика. - Сценические
Из книги автораVI. Воспоминания Н.Д. Белозерского. - Служба в Патриотическом институте и в С.-Петербургском Университете. - Воспоминания г. Иваницкого о лекциях Гоголя. - Рассказ товарища по службе. - Переписка с А.С. Данилевским и М.А. Максимовичем: о "Вечерах на хуторе"; - о Пушкине и
Из книги автораПервые воспоминания Вспомнить самое раннее, конкретно что-то или кого-то, немыслимо. Все, существующее раньше стойкой памяти, мелькает отдельными деталями, эпизодами, словно ты летишь на карусели, словно смотришь в окуляр калейдоскопа - а там мелькание, сверкание,
Maman уже не было, а жизнь наша шла все тем же чередом: мы ложились и вставали в те же часы и в тех же комнатах; утренний, вечерний чай, обед, ужин — все было в обыкновенное время; столы, стулья стояли на тех же местах; ничего в доме и в нашем образе жизни не переменилось; только ее не было... Мне казалось, что после такого несчастия все должно бы было измениться; наш обыкновенный образ жизни казался мне оскорблением ее памяти и слишком живо напоминал ее отсутствие. Накануне погребения, после обеда, мне захотелось спать, и я пошел в комнату Натальи Савишны, рассчитывая поместиться на ее постели, на мягком пуховике, под теплым стеганым одеялом. Когда я вошел, Наталья Савишна лежала на своей постели и, должно быть, спала; услыхав шум моих шагов, она приподнялась, откинула шерстяной платок, которым от мух была покрыта ее голова, и, поправляя чепец, уселась на край кровати. Так как еще прежде довольно часто случалось, что после обеда я приходил спать в ее комнату, она догадалась, зачем я пришел, и сказала мне, приподнимаясь с постели: — Что? верно, отдохнуть пришли, мой голубчик? ложитесь. — Что вы, Наталья Савишна? — сказал я, удерживая ее за руку, я совсем не за этим... я так пришел... да вы и сами устали: лучше ложитесь вы. — Нет, батюшка, я уж выспалась, — сказала она мне (я знал, что она не спала трое суток), — Да и не до сна теперь, — прибавила она с глубоким вздохом. Мне хотелось поговорить с Натальей Савишной о нашем несчастии; я знал ее искренность и любовь, и потому поплакать с нею было для меня отрадой. — Наталья Савишна, — сказал я, помолчав немного и усаживаясь на постель, — ожидали ли вы этого? Старушка посмотрела на меня с недоумением и любопытством, должно быть, не понимая, для чего я спрашиваю у нее это. — Кто мог ожидать этого? — повторил я. — Ах, мой батюшка, — сказала она, кинув на меня взгляд самого нежного сострадания, — не то, чтобы ожидать, а я и теперь подумать-то не могу. Ну уж мне, старухе, давно бы пора сложить старые кости на покой; а то вот до чего довелось дожить: старого барина — вашего дедушку, вечная память, князя Николая Михайловича, двух братьев, сестру Аннушку, всех схоронила, и все моложе меня были, мой батюшка, а вот теперь, видно, за грехи мои, и ее пришлось пережить. Его святая воля! Он затем и взял ее, что она достойна была, а Ему добрых и там нужно. Эта простая мысль отрадно поразила меня, и я ближе придвинулся к Наталье Савишне. Она сложила руки на груди и взглянула кверху; впалые влажные глаза ее выражали великую, но спокойную печаль. Она твердо надеялась, что Бог ненадолго разлучил ее с тою, на которой столько лет была сосредоточена вся сила ее любви. — Да, мой батюшка, давно ли, кажется, я ее еще нянчила, пеленала и она меня Нашей называла. Бывало, прибежит ко мне, обхватит ручонками и начнет целовать и приговаривать: — Нашик мой, красавчик мой, индюшечка ты моя. А я, бывало, пошучу — говорю: — Неправда, матушка, вы меня не любите; вот дай только вырастете большие, выдете замуж и Нашу свою забудете. Она, бывало, задумается. «Нет, говорит, я лучше замуж не пойду, если нельзя Нашу с собой взять; я Нашу никогда не покину». А вот покинула же и не дождалась. И любила же она меня, покойница! Да кого она и не любила, правду сказать! Да, батюшка, вашу маменьку вам забывать нельзя; это не человек был, а ангел небесный. Когда ее душа будет в царствии небесном, она и там будет вас любить и там будет на вас радоваться. — Отчего же вы говорите, Наталья Савишна, когда будет в царствии небесном? — спросил я, — ведь она, я думаю, и теперь уже там. — Нет, батюшка, — сказала Наталья Савишна, понизив голос и усаживаясь ближе ко мне на постели, — теперь ее душа здесь. И она указывала вверх. Она говорила почти шепотом и с таким чувством и убеждением, что я невольно поднял глаза кверху, смотрел на карнизы и искал чего-то. — Прежде чем душа праведника в рай идет — она еще сорок мытарств проходит, мой батюшка, сорок дней, и может еще в своем доме быть... Долго еще говорила она в том же роде, и говорила с такою простотою и уверенностью, как будто рассказывала вещи самые обыкновенные, которые сама видала и насчет которых никому в голову не могло прийти ни малейшего сомнения. Я слушал ее, притаив дыхание, и, хотя не понимал хорошенько того, что она говорила, верил ей совершенно. — Да, батюшка, теперь она здесь, смотрит на нас, слушает, может быть, что мы говорим, — заключила Наталья Савишна. И, опустив голову, замолчала. Ей понадобился платок, чтобы отереть падавшие слезы; она встала, взглянула мне прямо в лицо и сказала дрожащим от волнения голосом: — На много ступеней подвинул меня этим к себе Господь. Что мне теперь здесь осталось? для кого мне жить? кого любить? — А нас разве вы не любите? — сказал я с упреком и едва удерживаясь от слез. — Богу известно, как я вас люблю, моих голубчиков, но уж так любить, как я ее любила, никого не любила, да и не могу любить. Она не могла больше говорить, отвернулась от меня и громко зарыдала. Я не думал уже спать; мы молча сидели друг против друга и плакали. В комнату вошел Фока; заметив наше положение и, должно быть, не желая тревожить нас, он, молча и робко поглядывая, остановился у дверей. — Зачем ты, Фокаша? — спросила Наталья Савишна, утираясь платком. — Изюму полтора, сахара четыре фунта и сарачинского пшена три фунта для кутьи-с. — Сейчас, сейчас, батюшка, — сказала Наталья Савишна, торопливо понюхала табаку и скорыми шажками пошла к сундуку. Последние следы печали, произведенной нашим разговором, исчезли, когда она принялась за свою обязанность, которую считала весьма важною. — На что четыре фунта? — говорила она ворчливо, доставая и отвешивая сахар на безмене, — и три с половиною довольно будет. И она сняла с весов несколько кусочков. — А это на что похоже, что вчера только восемь фунтов пшена отпустила, опять спрашивают; ты как хочешь, Фока Демидыч, а я пшена не отпущу. Этот Ванька рад, что теперь суматоха в доме: он думает, авось не заметят. Нет, я потачки за барское добро не дам. Ну виданное ли это дело — восемь фунтов? — Как же быть-с? он говорит, все вышло. — Ну, на, возьми, на! пусть возьмет! Меня поразил тогда этот переход от трогательного чувства, с которым она со мной говорила, к ворчливости и мелочным расчетам. Рассуждая об этом впоследствии, я понял, что, несмотря на то, что у нее делалось в душе, у нее доставало довольно присутствия духа, чтобы заниматься своим делом, а сила привычки тянула ее к обыкновенным занятиям. Горе так сильно подействовало на нее, что она не находила нужным скрывать, что может заниматься посторонними предметами; она даже и не поняла бы, как может прийти такая мысль. Тщеславие есть чувство самое несообразное с истинною горестью, и вместе с тем чувство это так крепко привито к натуре человека, что очень редко даже самое сильное горе изгоняет его. Тщеславие в горести выражается желанием казаться или огорченным, или несчастным, или твердым; и эти низкие желания, в которых мы не признаемся, но которые почти никогда — даже в самой сильной печали — не оставляют нас, лишают ее силы, достоинства и искренности. Наталья же Савишна была так глубоко поражена своим несчастием, что в душе ее не оставалось ни одного желания, и она жила только по привычке. Выдав Фоке требуемую провизию и напомнив ему о пироге, который надо бы приготовить для угощения причта, она отпустила его, взяла чулок и опять села подле меня. Разговор начался про то же, и мы еще раз поплакали и еще раз утерли слезы. Беседы с Натальей Савишной повторялись каждый день; ее тихие слезы и спокойные набожные речи доставляли мне отраду и облегчение. Но скоро нас разлучили; через три дня после похорон мы всем домом приехали в Москву, и мне суждено было никогда больше не видать ее. Бабушка получила ужасную весть только с нашим приездом, и горесть ее была необыкновенна. Нас не пускали к ней, потому что она целую неделю была в беспамятстве, доктора боялись за ее жизнь, тем более что она не только не хотела принимать никакого лекарства, но ни с кем не говорила, не спала и не принимала никакой пищи. Иногда, сидя одна в комнате, на своем кресле, она вдруг начинала смеяться, потом рыдать без слез, с ней делались конвульсии, и она кричала неистовым голосом бессмысленные или ужасные слова. Это было первое сильное горе, которое поразило ее, и это горе привело ее в отчаяние. Ей нужно было обвинять кого-нибудь в своем несчастии, и она говорила страшные слова, грозила кому-то с необыкновенной силой, вскакивала с кресел, скорыми, большими шагами ходила по комнате и потом падала без чувств. Один раз я вошел в ее комнату: она сидела, по обыкновению, на своем кресле и, казалось, была спокойна; но меня поразил ее взгляд. Глаза ее были очень открыты, но взор неопределенен и туп; она смотрела прямо на меня, но, должно быть, не видала. Губы ее начали медленно улыбаться, и она заговорила трогательным, нежным голосом: «Поди сюда, мой дружок, подойди, мой ангел». Я думал, что она обращается ко мне, и подошел ближе, но она смотрела не на меня. «Ах, коли бы ты знала, душа моя, как я мучилась и как теперь рада, что ты приехала...» Я понял, что она воображала видеть maman и остановился. «А мне сказали, что тебя нет, — продолжала она, нахмурившись, — вот вздор! Разве ты можешь умереть прежде меня?» — и она захохотала страшным истерическим хохотом. Только люди, способные сильно любить, могут испытывать и сильные огорчения; но та же потребность любить служит для них противодействием горести и исцеляет их. От этого моральная природа человека еще живучее природы физической. Горе никогда не убивает. Через неделю бабушка могла плакать, и ей стало лучше. Первою мыслию ее, когда она пришла в себя, были мы, и любовь ее к нам увеличилась. Мы не отходили от ее кресла; она тихо плакала, говорила про maman и нежно ласкала нас. В голову никому не могло прийти, глядя на печаль бабушки, чтобы она преувеличивала ее, и выражения этой печали были сильны и трогательны; но не знаю почему, я больше сочувствовал Наталье Савишне и до сих пор убежден, что никто так искренно и чисто не любил и не сожалел о maman, как это простодушное и любящее созданье. Со смертью матери окончилась для меня счастливая пора детства и началась новая эпоха — эпоха отрочества; но так как воспоминания о Наталье Савишне, которую я больше не видал и которая имела такое сильное и благое влияние на мое направление и развитие чувствительности, принадлежат к первой эпохе, скажу еще несколько слов о ней и ее смерти. После нашего отъезда, как мне потом рассказывали люди, оставшиеся в деревне, она очень скучала от безделья. Хотя все сундуки были еще на ее руках и она не переставала рыться в них, перекладывать, развешивать, раскладывать, но ей недоставало шуму и суетливости барского, обитаемого господами, деревенского дома, к которым она с детства привыкла. Горе, перемена образа жизни и отсутствие хлопот скоро развили в ней старческую болезнь, к которой она имела склонность. Ровно через год после кончины матушки у нее открылась водяная, и она слегла в постель. Тяжело, я думаю, было Наталье Савишне жить и еще тяжелее умирать одной, в большом пустом петровском доме, без родных, без друзей. Все в доме любили и уважали Наталью Савишну; но она ни с кем не имела дружбы и гордилась этим. Она полагала, что в ее положении — экономки, пользующейся доверенностью своих господ и имеющей на руках столько сундуков со всяким добром, дружба с кем-нибудь непременно повела бы ее к лицеприятию и преступной снисходительности; поэтому, или, может быть, потому, что не имела ничего общего с другими слугами, она удалялась всех и говорила, что у нее в доме нет ни кумовьев, ни сватов и что за барское добро она никому потачки не дает. Поверяя Богу в теплой молитве свои чувства, она искала и находила утешение; но иногда, в минуты слабости, которым мы все подвержены, когда лучшее утешение для человека доставляют слезы и участие живого существа, она клала себе на постель свою собачонку моську (которая лизала ее руки, уставив на нее свои желтые глаза), говорила с ней и тихо плакала, лаская ее. Когда моська начинала жалобно выть, она старалась успокоить ее и говорила; «Полно, я и без тебя знаю, что скоро умру». За месяц до своей смерти она достала из своего сундука белого коленкору, белой кисеи и розовых лент; с помощью своей девушки сшила себе белое платье, чепчик и до малейших подробностей распорядилась всем, что нужно было для ее похорон. Она тоже разобрала барские сундуки и с величайшей отчетливостью, по описи, передала их приказчице; потом достала два шелковые платья, старинную шаль, подаренные ей когда-то бабушкой, дедушкин военный мундир, шитый золотом, тоже отданный в ее полную собственность. Благодаря ее заботливости шитье и галуны на мундире были совершенно свежи и сукно не тропу-то молью. Перед кончиной она изъявила желание, чтобы одно из этих платий — розовое — было отдано Володе на халат или бешмет, другое — пюсовое, в клетках — мне, для того же употребления; а шаль — Любочке. Мундир она завещала тому из нас, кто прежде будет офицером. Все остальное свое имущество и деньги, исключая сорока рублей, которые она отложила на погребенье и поминанье, она предоставила получить своему брату. Брат ее, еще давно отпущенный на волю, проживал в какой-то дальней губернии и вел жизнь самую распутную; поэтому при жизни своей она не имела с ним никаких сношений. Когда брат Натальи Савишны явился для получения наследства и всего имущества покойной оказалось на двадцать пять рублей ассигнациями, он не хотел верить этому и говорил, что не может быть, чтобы старуха, которая шестьдесят лет жила в богатом доме, все на руках имела, весь свой век жила скупо и над всякой тряпкой тряслась, чтобы она ничего не оставила. Но это действительно было так. Наталья Савишна два месяца страдала от своей болезни и переносила страдания с истинно христианским терпением: не ворчала, не жаловалась, а только, по своей привычке, беспрестанно поминала Бога. За час перед смертью она с тихою радостью исповедалась, причастилась и соборовалась маслом. У всех домашних она просила прощенья за обиды, которые могла причинить им, и просила духовника своего, отца Василья, передать всем нам, что не знает, как благодарить нас за наши милости, и просит нас простить ее, если по глупости своей огорчила кого-нибудь, «но воровкой никогда не была, и могу сказать, что барской ниткой не поживилась». Это было одно качество, которое она ценила в себе. Надев приготовленный капот и чепчик и облокотившись на подушки, она до самого конца не переставала разговаривать с священником, вспомнила, что ничего не оставила бедным, достала десять рублей и просила его раздать их в приходе, потом перекрестилась, легла и в последний раз вздохнула, с радостной улыбкой произнося имя Божие. Она оставляла жизнь без сожаления, не боялась смерти и приняла ее как благо. Часто это говорят, но как редко действительно бывает! Наталья Савишна могла не бояться смерти, потому что она умирала с непоколебимою верою и исполнив закон Евангелия. Вся жизнь ее была чистая, бескорыстная любовь и самоотвержение. Что ж! ежели ее верования могли бы быть возвышеннее, ее жизнь направлена к более высокой цели, разве эта чистая душа от этого меньше достойна любви и удивления? Она совершила лучшее и величайшее дело в этой жизни — умерла без сожаления и страха. Ее похоронили, по ее желанию, недалеко от часовни, которая стоит на могиле матушки. Заросший крапивой и репейником бугорок, под которым она лежит, огорожен черною решеткою, и я никогда не забываю из часовни подойти к этой решетке и положить земной поклон. Иногда я молча останавливаюсь между часовней и черной решеткой. В душе моей вдруг пробуждаются тяжелые воспоминания. Мне приходит мысль; неужели провидение для того только соединило меня с этими двумя существами, чтобы вечно заставить сожалеть о них?.. 1852Друг мой П[авел] И[ванович] Б[ирюков], взявшийся писать мою биографию для французского издания полного сочинения, просил меня сообщить ему некоторые биографические сведения.
Мне очень хотелось исполнить его желание, и я стал в воображении составлять свою биографию. Сначала я незаметно для себя самым естественным образом стал вспоминать только одно хорошее моей жизни, только как тени на картине присоединяя к этому хорошему мрачные, дурные стороны, поступки моей жизни. Но, вдумываясь более серьезно в события моей жизни, я увидал, что такая биография была бы хотя и не прямая ложь, но ложь, вследствие неверного освещения и выставления хорошего и умолчания или сглаживания всего дурного. Когда я подумал о том, чтобы написать всю истинную правду, не скрывая ничего дурного моей жизни, я ужаснулся перед тем впечатлением, которое должна была бы произвести такая биография.
В это время я заболел. И во время невольной праздности болезни мысль моя все время обращалась к воспоминаниям, и эти воспоминания были ужасны. Я с величайшей силой испытал то, что говорит Пушкин в своем стихотворении:
ВОСПОМИНАНИЕ
Когда для смертного умолкнет шумный день
И на немые стогны града
Полупрозрачная наляжет ночи тень
И сон, дневных трудов награда,
В то время для меня влачатся в тишине
Часы томительного бденья:
В бездействии ночном живей горят во мне
Змеи сердечной угрызенья;
Мечты кипят; в уме, подавленном тоской,
Теснится тяжких дум избыток;
Воспоминание безмолвно предо мной
Свой длинный развивает свиток:
И, с отвращением читая жизнь мою,
Я трепещу, и проклинаю,
И горько жалуюсь, и горько слезы лью,
Но строк печальных не смываю.
В последней строке я только изменил бы так, вместо: строк печальных... поставил бы: строк постыдных не смываю.
Под этим впечатлением я написал у себя в дневнике следующее:
Я теперь испытываю муки ада: вспоминаю всю мерзость своей прежней жизни, и воспоминания эти не оставляют меня и отравляют жизнь. Обыкновенно жалеют о том, что личность не удерживает воспоминания после смерти. Какое счастие, что этого нет. Какое бы было мучение, если бы я в этой жизни помнил все дурное, мучительное для совести, что я совершил в предшествующей жизни. А если помнить хорошее, то надо помнить и все дурное. Какое счастие, что воспоминание исчезает со смертью и остается одно сознание, - сознание, которое представляет как бы общий вывод из хорошего и дурного, как бы сложное уравнение, сведенное к самому простому его выражению: х = положительной или отрицательной, большой или малой величине. Да, великое счастие - уничтожение воспоминания, с ним нельзя бы жить радостно. Теперь же, с уничтожением воспоминания, мы вступаем в жизнь с чистой, белой страницей, на которой можно писать вновь хорошее и дурное".
Правда, что не вся моя жизнь была так ужасно дурна, - таким был только один 20-летний период ее; правда и то, что и в этот период жизнь моя не была сплошным злом, каким она представлялась мне во время болезни, и что и в этот период во мне пробуждались порывы к добру, хотя и недолго продолжавшиеся и скоро заглушаемые ничем не сдерживаемыми страстями. Но все-таки эта моя работа мысли, особенно во время болезни, ясно показала мне, что моя биография, как пишут обыкновенно биографии, с умолчанием о всей гадости и преступности моей жизни, была бы ложь, и что если писать биографию, то надо писать всю настоящую правду. Только такая биография, как ни стыдно мне будет писать ее, может иметь настоящий и плодотворный интерес для читателей. Вспоминая так свою жизнь, то есть рассматривая ее с точки зрения добра и зла, которые я делал, я увидал, что моя жизнь распадается на четыре периода: 1) тот чудный, в особенности в сравнении с последующим, невинный, радостный, поэтический период детства до 14 лет; потом второй, ужасный 20-летний период грубой распущенности, служения честолюбию, тщеславию и, главное, - похоти; потом третий, 18-летний период от женитьбы до моего духовного рождения, который, с мирской точки зрения, можно бы назвать нравственным, так как в эти 18 лет я жил правильной, честной семейной жизнью, не предаваясь никаким осуждаемым общественным мнением порокам, но все интересы которого ограничивались эгоистическими заботами о семье, об увеличении состояния, о приобретении литературного успеха и всякого рода удовольствиями.
И, наконец, четвертый, 20-летний период, в котором я живу теперь и в котором надеюсь умереть и с точки зрения которого я вижу все значение прошедшей жизни и которого я ни в чем не желал бы изменить, кроме как в тех привычках зла, которые усвоены мною в прошедшие периоды.
Такую историю жизни всех этих четырех периодов, совсем, совсем правдивую, я хотел бы написать, если бог даст мне силы и жизни. Я думаю, что такая написанная мною биография, хотя бы и с большими недостатками, будет полезнее для людей, чем вся та художественная болтовня, которой наполнены мои 12 томов сочинений и которым люди нашего времени приписывают незаслуженное ими значение.
Теперь я и хочу сделать это. Расскажу сначала первый радостный период детства, который особенно сильно манит меня; потом, как мне ни стыдно это будет, расскажу, не утаив ничего, и ужасные 20 лет следующего периода. Потом и третий период, который менее всех может быть интересен, в, наконец, последний период моего пробуждения к истине, давшего мне высшее благо жизни и радостное спокойствие в виду приближающейся смерти.
Для того, чтобы не повторяться в описании детства, я перечел мое писание под этим заглавием и пожалел о том, что написал это: так это нехорошо, литературно, неискренно написано. Оно и не могло быть иначе: во-первых, потому, что замысел мой был описать историю не свою, а моих приятелей детства, и оттого вышло нескладное смешение событий их и моего детства, а во-вторых, потому, что во время писания этого я был далеко не самостоятелен в формах выражения, а находился под влиянием сильно подействовавших на меня тогда двух писателей Stern"a (его "Sentimental journey") и Topfer"a ("Bibliotheque de mon oncle") [Стерна ("Сентиментальное путешествие") и Тёпфера ("Библиотека моего дяди") (англ. и франц.)].
В особенности же не понравились мне теперь последние две части: отрочество и юность, в которых, кроме нескладного смешения правды с выдумкой, есть в неискренность: желание выставить как хорошее и важное то, что я не считал тогда хорошим и важным, - мое демократическое направление. Надеюсь, что то, что я напишу теперь, будет лучше, главное - полезнее другим людям.
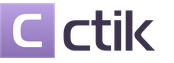










Условные графические обозначения
Проблема наличия нефтепродуктов в воде и как с ней бороться Смотреть что такое "ПНД Ф" в других словарях
О шестидневной рабочей неделе При 6 дневной
Кто такой социальный работник?
Коренная пустынь в Курской области: история чуда Коренная пустынь молебен о недужных