Нине Николаевне Грин
подносит и посвящает
Автор
I
Предсказание
Лонгрен, матрос «Ориона», крепкого трехсоттонного брига, на котором он прослужил десять лет и к которому был привязан сильнее, чем иной сын к родной матери, должен был наконец покинуть эту службу.
Это произошло так. В одно из его редких возвращений домой, он не увидел, как всегда еще издали, на пороге дома свою жену Мери, всплескивающую руками, а затем бегущую навстречу до потери дыхания. Вместо нее, у детской кроватки — нового предмета в маленьком доме Лонгрена — стояла взволнованная соседка.
— Три месяца я ходила за нею, старик, — сказала она, — посмотри на свою дочь.
Мертвея, Лонгрен наклонился и увидел восьмимесячное существо, сосредоточенно взиравшее на его длинную бороду, затем сел, потупился и стал крутить ус. Ус был мокрый, как от дождя.
— Когда умерла Мери? — спросил он.
Женщина рассказала печальную историю, перебивая рассказ умильным гульканием девочке и уверениями, что Мери в раю. Когда Лонгрен узнал подробности, рай показался ему немного светлее дровяного сарая, и он подумал, что огонь простой лампы — будь теперь они все вместе, втроем — был бы для ушедшей в неведомую страну женщины незаменимой отрадой.
Месяца три назад хозяйственные дела молодой матери были совсем плохи. Из денег, оставленных Лонгреном, добрая половина ушла на лечение после трудных родов, на заботы о здоровье новорожденной; наконец, потеря небольшой, но необходимой для жизни суммы, заставила Мери попросить в долг денег у Меннерса. Меннерс держал трактир, лавку и считался состоятельным человеком.
Мери пошла к нему в шесть часов вечера. Около семи рассказчица встретила ее на дороге к Лиссу. Заплаканная и расстроенная Мери сказала, что идет в город заложить обручальное кольцо. Она прибавила, что Меннерс соглашался дать денег, но требовал за это любви. Мери ничего не добилась.
— У нас в доме нет даже крошки съестного, — сказала она соседке. — Я схожу в город, и мы с девочкой перебьемся как-нибудь до возвращения мужа.
В этот вечер была холодная, ветреная погода; рассказчица напрасно уговаривала молодую женщину не ходить в Лисс к ночи. «Ты промокнешь, Мери, накрапывает дождь, а ветер, того и гляди, принесет ливень».
Взад и вперед от приморской деревни в город составляло не менее трех часов скорой ходьбы, но Мери не послушалась советов рассказчицы. «Довольно мне колоть вам глаза, — сказала она, — и так уж нет почти ни одной семьи, где я не взяла бы в долг хлеба, чаю или муки. Заложу колечко, и кончено». Она сходила, вернулась, а на другой день слегла в жару и бреду; непогода и вечерняя изморось сразила ее двухсторонним воспалением легких, как сказал городской врач, вызванный добросердной рассказчицей. Через неделю на двуспальной кровати Лонгрена осталось пустое место, а соседка переселилась в его дом нянчить и кормить девочку. Ей, одинокой вдове, это было не трудно. К тому же, — прибавила она, — без такого несмышленыша скучно.
Лонгрен поехал в город, взял расчет, простился с товарищами и стал растить маленькую Ассоль. Пока девочка не научилась твердо ходить, вдова жила у матроса, заменяя сиротке мать, но лишь только Ассоль перестала падать, занося ножку через порог, Лонгрен решительно объявил, что теперь он будет сам все делать для девочки, и, поблагодарив вдову за деятельное сочувствие, зажил одинокой жизнью вдовца, сосредоточив все помыслы, надежды, любовь и воспоминания на маленьком существе.
Десять лет скитальческой жизни оставили в его руках очень немного денег. Он стал работать. Скоро в городских магазинах появились его игрушки — искусно сделанные маленькие модели лодок, катеров, однопалубных и двухпалубных парусников, крейсеров, пароходов — словом, того, что он близко знал, что, в силу характера работы, отчасти заменяло ему грохот портовой жизни и живописный труд плаваний. Этим способом Лонгрен добывал столько, чтобы жить в рамках умеренной экономии. Малообщительный по натуре, он, после смерти жены, стал еще замкнутее и нелюдимее. По праздникам его иногда видели в трактире, но он никогда не присаживался, а торопливо выпивал за стойкой стакан водки и уходил, коротко бросая по сторонам: «да», «нет», «здравствуйте», «прощай», «помаленьку» — на все обращения и кивки соседей. Гостей он не выносил, тихо спроваживая их не силой, но такими намеками и вымышленными обстоятельствами, что посетителю не оставалось ничего иного, как выдумать причину, не позволяющую сидеть дольше.
Сам он тоже не посещал никого; таким образом меж ним и земляками легло холодное отчуждение, и будь работа Лонгрена — игрушки — менее независима от дел деревни, ему пришлось бы ощутительнее испытать на себе последствия таких отношений. Товары и съестные припасы он закупал в городе — Меннерс не мог бы похвастаться даже коробкой спичек, купленной у него Лонгреном. Он делал также сам всю домашнюю работу и терпеливо проходил несвойственное мужчине сложное искусство ращения девочки.
Ассоль было уже пять лет, и отец начинал все мягче и мягче улыбаться, посматривая на ее нервное, доброе личико, когда, сидя у него на коленях, она трудилась над тайной застегнутого жилета или забавно напевала матросские песни — дикие ревостишия. В передаче детским голосом и не везде с буквой «р» эти песенки производили впечатление танцующего медведя, украшенного голубой ленточкой. В это время произошло событие, тень которого, павшая на отца, укрыла и дочь.
Была весна, ранняя и суровая, как зима, но в другом роде. Недели на три припал к холодной земле резкий береговой норд.
Рыбачьи лодки, повытащенные на берег, образовали на белом песке длинный ряд темных килей, напоминающих хребты громадных рыб. Никто не отваживался заняться промыслом в такую погоду. На единственной улице деревушки редко можно было увидеть человека, покинувшего дом; холодный вихрь, несшийся с береговых холмов в пустоту горизонта, делал «открытый воздух» суровой пыткой. Все трубы Каперны дымились с утра до вечера, трепля дым по крутым крышам.
Но эти дни норда выманивали Лонгрена из его маленького теплого дома чаще, чем солнце, забрасывающее в ясную погоду море и Каперну покрывалами воздушного золота. Лонгрен выходил на мостик, настланный по длинным рядам свай, где, на самом конце этого досчатого мола, подолгу курил раздуваемую ветром трубку, смотря, как обнаженное у берегов дно дымилось седой пеной, еле поспевающей за валами, грохочущий бег которых к черному, штормовому горизонту наполнял пространство стадами фантастических гривастых существ, несущихся в разнузданном свирепом отчаянии к далекому утешению. Стоны и шумы, завывающая пальба огромных взлетов воды и, казалось, видимая струя ветра, полосующего окрестность, — так силен был его ровный пробег, — давали измученной душе Лонгрена ту притупленность, оглушенность, которая, низводя горе к смутной печали, равна действием глубокому сну.
В один из таких дней, двенадцатилетний сын Меннерса, Хин, заметив, что отцовская лодка бьется под мостками о сваи, ломая борта, пошел и сказал об этом отцу. Шторм начался недавно; Меннерс забыл вывести лодку на песок. Он немедленно отправился к воде, где увидел на конце мола, спиной к нему стоявшего, куря, Лонгрена. На берегу, кроме их двух, никого более не было. Меннерс прошел по мосткам до середины, спустился в бешено-плещущую воду и отвязал шкот; стоя в лодке, он стал пробираться к берегу, хватаясь руками за сваи. Весла он не взял, и в тот момент, когда, пошатнувшись, упустил схватиться за очередную сваю, сильный удар ветра швырнул нос лодки от мостков в сторону океана. Теперь даже всей длиной тела Меннерс не мог бы достичь самой ближайшей сваи. Ветер и волны, раскачивая, несли лодку в гибельный простор. Сознав положение, Меннерс хотел броситься в воду, чтобы плыть к берегу, но решение его запоздало, так как лодка вертелась уже недалеко от конца мола, где значительная глубина воды и ярость валов обещали верную смерть. Меж Лонгреном и Меннерсом, увлекаемым в штормовую даль, было не больше десяти сажен еще спасительного расстояния, так как на мостках под рукой у Лонгрена висел сверток каната с вплетенным в один его конец грузом. Канат этот висел на случай причала в бурную погоду и бросался с мостков.
— Лонгрен! — закричал смертельно перепуганный Меннерс. — Что же ты стал, как пень? Видишь, меня уносит; брось причал!
Лонгрен молчал, спокойно смотря на метавшегося в лодке Меннерса, только его трубка задымила сильнее, и он, помедлив, вынул ее из рта, чтобы лучше видеть происходящее.
— Лонгрен! — взывал Меннерс, — ты ведь слышишь меня, я погибаю, спаси!
Но Лонгрен не сказал ему ни одного слова; казалось, он не слышал отчаянного вопля. Пока не отнесло лодку так далеко, что еле долетали слова-крики Меннерса, он не переступил даже с ноги на ногу. Меннерс рыдал от ужаса, заклинал матроса бежать к рыбакам, позвать помощь, обещал деньги, угрожал и сыпал проклятиями, но Лонгрен только подошел ближе к самому краю мола, чтобы не сразу потерять из вида метания и скачки лодки. «Лонгрен, — донеслось к нему глухо, как с крыши — сидящему внутри дома, — спаси!» Тогда, набрав воздуха и глубоко вздохнув, чтобы не потерялось в ветре ни одного слова, Лонгрен крикнул:
— Она так же просила тебя! Думай об этом, пока еще жив, Меннерс, и не забудь!
Тогда крики умолкли, и Лонгрен пошел домой. Ассоль, проснувшись, увидела, что отец сидит пред угасающей лампой в глубокой задумчивости. Услышав голос девочки, звавшей его, он подошел к ней, крепко поцеловал и прикрыл сбившимся одеялом.
— Спи, милая, — сказал он, — до утра еще далеко.
— Что ты делаешь?
— Черную игрушку я сделал, Ассоль, — спи!
На другой день только и разговоров было у жителей Каперны, что о пропавшем Меннерсе, а на шестой день привезли его самого, умирающего и злобного. Его рассказ быстро облетел окрестные деревушки. До вечера носило Меннерса; разбитый сотрясениями о борта и дно лодки, за время страшной борьбы с свирепостью волн, грозивших, не уставая, выбросить в море обезумевшего лавочника, он был подобран пароходом «Лукреция», шедшим в Кассет. Простуда и потрясение ужаса прикончили дни Меннерса. Он прожил немного менее сорока восьми часов, призывая на Лонгрена все бедствия, возможные на земле и в воображении. Рассказ Меннерса, как матрос следил за его гибелью, отказав в помощи, красноречивый тем более, что умирающий дышал с трудом и стонал, поразил жителей Каперны. Не говоря уже о том, что редкий из них способен был помнить оскорбление и более тяжкое, чем перенесенное Лонгреном, и горевать так сильно, как горевал он до конца жизни о Мери, — им было отвратительно, непонятно, поражало их, что Лонгрен молчал
. Молча
, до своих последних слов, посланных вдогонку Меннерсу, Лонгрен стоял
; стоял неподвижно, строго и тихо, как судья
, выказав глубокое презрение к Меннерсу — большее, чем ненависть, было в его молчании, и это все чувствовали. Если бы он кричал, выражая жестами или суетливостью злорадства, или еще чем иным свое торжество при виде отчаяния Меннерса, рыбаки поняли бы его, но он поступил иначе, чем поступали они, — поступил внушительно
, непонятно
и этим поставил себя выше других, словом, сделал то, чего не прощают. Никто более не кланялся ему, не протягивал руки, не бросал узнающего, здоровающегося взгляда. Совершенно навсегда остался он в стороне от деревенских дел; мальчишки, завидев его, кричали вдогонку: «Лонгрен утопил Меннерса!» Он не обращал на это внимания. Так же, казалось, он не замечал и того, что в трактире или на берегу, среди лодок, рыбаки умолкали в его присутствии, отходя в сторону, как от зачумленного. Случай с Меннерсом закрепил ранее неполное отчуждение. Став полным, оно вызвало прочную взаимную ненависть, тень которой пала и на Ассоль.
Девочка росла без подруг. Два — три десятка детей ее возраста, живших в Каперне, пропитанной, как губка водой, грубым семейным началом, основой которого служил непоколебимый авторитет матери и отца, переимчивые, как все дети в мире, вычеркнули раз-навсегда маленькую Ассоль из сферы своего покровительства и внимания. Совершилось это, разумеется, постепенно, путем внушения и окриков взрослых приобрело характер страшного запрета, а затем, усиленное пересудами и кривотолками, разрослось в детских умах страхом к дому матроса.
К тому же замкнутый образ жизни Лонгрена освободил теперь истерический язык сплетни; про матроса говаривали, что он где-то кого-то убил, оттого, мол, его больше не берут служить на суда, а сам он мрачен и нелюдим, потому что «терзается угрызениями преступной совести». Играя, дети гнали Ассоль, если она приближалась к ним, швыряли грязью и дразнили тем, что будто отец ее ел человеческое мясо, а теперь делает фальшивые деньги. Одна за другой, наивные ее попытки к сближению оканчивались горьким плачем, синяками, царапинами и другими проявлениями общественного мнения
; она перестала, наконец, оскорбляться, но все еще иногда спрашивала отца: — «Скажи, почему нас не любят?» — «Э, Ассоль, — говорил Лонгрен, — разве они умеют любить? Надо уметь любить, а этого-то они не могут». — «Как это — уметь
?» — «А вот так!» Он брал девочку на руки и крепко целовал грустные глаза, жмурившиеся от нежного удовольствия.
Любимым развлечением Ассоль было по вечерам или в праздник, когда отец, отставив банки с клейстером, инструменты и неоконченную работу, садился, сняв передник, отдохнуть, с трубкой в зубах, — забраться к нему на колени и, вертясь в бережном кольце отцовской руки, трогать различные части игрушек, расспрашивая об их назначении. Так начиналась своеобразная фантастическая лекция о жизни и людях — лекция, в которой, благодаря прежнему образу жизни Лонгрена, случайностям, случаю вообще, — диковинным, поразительным и необыкновенным событиям отводилось главное место. Лонгрен, называя девочке имена снастей, парусов, предметов морского обихода, постепенно увлекался, переходя от объяснений к различным эпизодам, в которых играли роль то брашпиль, то рулевое колесо, то мачта или какой-нибудь тип лодки и т. п., а от отдельных иллюстраций этих переходил к широким картинам морских скитаний, вплетая суеверия в действительность, а действительность — в образы своей фантазии. Тут появлялась и тигровая кошка
, вестница кораблекрушения, и говорящая летучая рыба, не послушаться приказаний которой значило сбиться с курса, и Летучий Голландец с неистовым своим экипажем; приметы, привидения, русалки, пираты — словом, все басни, коротающие досуг моряка в штиле или излюбленном кабаке. Рассказывал Лонгрен также о потерпевших крушение, об одичавших и разучившихся говорить людях, о таинственных кладах, бунтах каторжников и многом другом, что выслушивалось девочкой внимательнее, чем может быть слушался в первый раз рассказ Колумба о новом материке. — «Ну, говори еще», — просила Ассоль, когда Лонгрен, задумавшись, умолкал, и засыпала на его груди с головой полной чудесных снов.
Также служило ей большим, всегда материально существенным удовольствием появление приказчика городской игрушечной лавки, охотно покупавшей работу Лонгрена. Чтобы задобрить отца и выторговать лишнее, приказчик захватывал с собой для девочки пару яблок, сладкий пирожок, горсть орехов. Лонгрен обыкновенно просил настоящую стоимость из нелюбви к торгу, а приказчик сбавлял. — «Эх, вы, — говорил Лонгрен, — да я неделю сидел над этим ботом. — Бот был пятивершковый. — Посмотри, что за прочность, — а осадка, а доброта? Бот этот пятнадцать человек выдержит в любую погоду». Кончалось тем, что тихая возня девочки, мурлыкавшей над своим яблоком, лишала Лонгрена стойкости и охоты спорить; он уступал, а приказчик, набив корзину превосходными, прочными игрушками, уходил, посмеиваясь в усы.
Всю домовую работу Лонгрен исполнял сам: колол дрова, носил воду, топил печь, стряпал, стирал, гладил белье и, кроме всего этого, успевал работать для денег. Когда Ассоль исполнилось восемь лет, отец выучил ее читать и писать. Он стал изредка брать ее с собой в город, а затем посылать даже одну, если была надобность перехватить денег в магазине или снести товар. Это случалось не часто, хотя Лисс лежал всего в четырех верстах от Каперны, но дорога к нему шла лесом, а в лесу многое может напугать детей, помимо физической опасности, которую, правда, трудно встретить на таком близком расстоянии от города, но все-таки не мешает иметь в виду. Поэтому только в хорошие дни, утром, когда окружающая дорогу чаща полна солнечным ливнем, цветами и тишиной, так что впечатлительности Ассоль не грозили фантомы воображения, Лонгрен отпускал ее в город.
Однажды, в середине такого путешествия к городу, девочка присела у дороги съесть кусок пирога, положенного в корзинку на завтрак. Закусывая, она перебирала игрушки; из них две-три оказались новинкой для нее: Лонгрен сделал их ночью. Одна такая новинка была миниатюрной гоночной яхтой; белое суденышко это несло алые паруса, сделанные из обрезков шелка, употреблявшегося Лонгреном для оклейки пароходных кают — игрушек богатого покупателя. Здесь, видимо, сделав яхту, он не нашел подходящего материала на паруса, употребив что было — лоскутки алого шелка. Ассоль пришла в восхищение. Пламенный веселый цвет так ярко горел в ее руке, как-будто она держала огонь. Дорогу пересекал ручей, с переброшенным через него жердяным мостиком; ручей справа и слева уходил в лес. «Если я спущу ее на воду поплавать немного, — размышляла Ассоль, — она ведь не промокнет, я ее потом вытру». Отойдя в лес за мостик, по течению ручья, девочка осторожно спустила на воду у самого берега пленившее ее судно; паруса тотчас сверкнули алым отражением в прозрачной воде; свет, пронизывая материю, лег дрожащим розовым излучением на белых камнях дна. — «Ты откуда приехал, капитан? — важно спросила Ассоль воображенное лицо и, отвечая сама себе, сказала: — Я приехал... приехал... приехал я из Китая. — А что ты привез? — Что привез, о том не скажу. — Ах, ты так, капитан! Ну, тогда я тебя посажу обратно в корзину». Только что капитан приготовился смиренно ответить, что он пошутил и что готов показать слона, как вдруг тихий отбег береговой струи повернул яхту носом к середине ручья, и, как настоящая, полным ходом покинув берег, она ровно поплыла вниз. Мгновенно изменился масштаб видимого: ручей казался девочке огромной рекой, а яхта — далеким, большим судном, к которому, едва не падая в воду, испуганная и оторопевшая, протягивала она руки. «Капитан испугался», — подумала она и побежала за уплывающей игрушкой, надеясь, что ее где-нибудь прибьет к берегу. Поспешно таща не тяжелую, но мешающую корзинку, Ассоль твердила: — «Ах, господи! Ведь случись же...» — Она старалась не терять из вида красивый, плавно убегающий треугольник парусов, спотыкалась, падала и снова бежала.
Ассоль никогда не бывала так глубоко в лесу, как теперь. Ей, поглощенной нетерпеливым желанием поймать игрушку, не смотрелось по сторонам; возле берега, где она суетилась, было довольно препятствий, занимавших внимание. Мшистые стволы упавших деревьев, ямы, высокий папоротник, шиповник, жасмин и орешник мешали ей на каждом шагу; одолевая их, она постепенно теряла силы, останавливаясь все чаще и чаще, чтобы передохнуть или смахнуть с лица липкую паутину. Когда потянулись, в более широких местах, осоковые и тростниковые заросли, Ассоль совсем было потеряла из вида алое сверкание парусов, но, обежав излучину течения, снова увидела их, степенно и неуклонно бегущих прочь. Раз она оглянулась, и лесная громада с ее пестротой, переходящей от дымных столбов света в листве к темным расселинам дремучего сумрака, глубоко поразила девочку. На мгновение оробев, она вспомнила вновь об игрушке и, несколько раз выпустив глубокое «ф-фу-у-у», побежала изо всех сил.
В такой безуспешной и тревожной погоне прошло около часу, когда с удивлением, но и с облегчением Ассоль увидела, что деревья впереди свободно раздвинулись, пропустив синий разлив моря, облака и край желтого песчаного обрыва, на который она выбежала, почти падая от усталости. Здесь было устье ручья; разлившись нешироко и мелко, так что виднелась струящаяся голубизна камней, он пропадал в встречной морской волне. С невысокого, изрытого корнями обрыва Ассоль увидела, что у ручья, на плоском большом камне, спиной к ней, сидит человек, держа в руках сбежавшую яхту, и всесторонне рассматривает ее с любопытством слона, поймавшего бабочку. Отчасти успокоенная тем, что игрушка цела, Ассоль сползла по обрыву и, близко подойдя к незнакомцу, воззрилась на него изучающим взглядом, ожидая, когда он подымет голову. Но неизвестный так погрузился в созерцание лесного сюрприза, что девочка успела рассмотреть его с головы до ног, установив, что людей, подобных этому незнакомцу, ей видеть еще ни разу не приходилось.
Но перед ней был не кто иной, как путешествующий пешком Эгль, известный собиратель песен, легенд, преданий и сказок. Седые кудри складками выпадали из-под его соломенной шляпы; серая блуза, заправленная в синие брюки, и высокие сапоги придавали ему вид охотника; белый воротничок, галстук, пояс, унизанный серебром блях, трость и сумка с новеньким никелевым замочком — выказывали горожанина. Его лицо, если можно назвать лицом нос, губы и глаза, выглядывавшие из бурно разросшейся лучистой бороды и пышных, свирепо взрогаченных вверх усов, казалось бы вяло-прозрачным, если бы не глаза, серые как песок и блестящие как чистая сталь, с взглядом смелым и сильным.
— Теперь отдай мне, — несмело сказала девочка. — Ты уже поиграл. Ты как поймал ее?
Эгль поднял голову, уронив яхту, — так неожиданно прозвучал взволнованный голосок Ассоль. Старик с минуту разглядывал ее, улыбаясь и медленно пропуская бороду в большой, жилистой горсти. Стиранное много раз ситцевое платье едва прикрывало до колен худенькие, загорелые ноги девочки. Ее темные густые волосы, забранные в кружевную косынку, сбились, касаясь плеч. Каждая черта Ассоль была выразительно легка и чиста, как полет ласточки. Темные, с оттенком грустного вопроса глаза казались несколько старше лица; его неправильный мягкий овал был овеян того рода прелестным загаром, какой присущ здоровой белизне кожи. Полураскрытый маленький рот блестел кроткой улыбкой.
— Клянусь Гриммами, Эзопом и Андерсеном, — сказал Эгль, посматривая то на девочку, то на яхту. — Это что-то особенное. Слушай-ка ты, растение! Это твоя штука?
— Да, я за ней бежала по всему ручью; я думала, что умру. Она была тут?
— У самых моих ног. Кораблекрушение причиной того, что я, в качестве берегового пирата, могу вручить тебе этот приз. Яхта, покинутая экипажем, была выброшена на песок трехвершковым валом — между моей левой пяткой и оконечностью палки. — Он стукнул тростью. — Как зовут тебя, крошка?
— Ассоль, — сказала девочка, пряча в корзину поданную Эглем игрушку.
— Хорошо, — продолжал непонятную речь старик, не сводя глаз, в глубине которых поблескивала усмешка дружелюбного расположения духа. — Мне, собственно, не надо было спрашивать твое имя. Хорошо, что оно так странно, так однотонно, музыкально, как свист стрелы или шум морской раковины; что бы я стал делать, называйся ты одним из тех благозвучных, но нестерпимо привычных имен, которые чужды Прекрасной Неизвестности? Тем более я не желаю знать, кто ты, кто твои родители и как ты живешь. К чему нарушать очарование? Я занимался, сидя на этом камне, сравнительным изучением финских и японских сюжетов... как вдруг ручей выплеснул эту яхту, а затем появилась ты... Такая как есть. Я, милая, поэт в душе — хоть никогда не сочинял сам. Что у тебя в корзинке?
— Лодочки, — сказала Ассоль, встряхивая корзинкой, — потом пароход да еще три таких домика с флагами. Там солдаты живут.
— Отлично. Тебя послали продать. По дороге ты занялась игрой. Ты пустила яхту поплавать, а она сбежала — ведь так?
— Ты разве видел? — с сомнением спросила Ассоль, стараясь вспомнить, не рассказала ли она это сама. — Тебе кто-то сказал? Или ты угадал?
— Я это знал.
— А как же?
— Потому что я — самый главный волшебник.
Ассоль смутилась; ее напряжение при этих словах Эгля переступило границу испуга. Пустынный морской берег, тишина, томительное приключение с яхтой, непонятная речь старика с сверкающими глазами, величественность его бороды и волос стали казаться девочке смешением сверхъестественного с действительностью. Сострой теперь Эгль гримасу или закричи что-нибудь — девочка помчалась бы прочь, заплакав и изнемогая от страха. Но Эгль, заметив, как широко раскрылись ее глаза, сделал крутой вольт.
— Тебе нечего бояться меня, — серьезно сказал он. — Напротив, мне хочется поговорить с тобой по душе. — Тут только он уяснил себе, что́ в лице девочки было так пристально отмечено его впечатлением. «Невольное ожидание прекрасного, блаженной судьбы, — решил он. — Ах, почему я не родился писателем? Какой славный сюжет». — Ну-ка, — продолжал Эгль, стараясь закруглить оригинальное положение (склонность к мифотворчеству — следствие всегдашней работы — было сильнее, чем опасение бросить на неизвестную почву семена крупной мечты), — ну-ка, Ассоль, слушай меня внимательно. Я был в той деревне, откуда ты, должно быть, идешь; словом, в Каперне. Я люблю сказки и песни, и просидел я в деревне той целый день, стараясь услышать что-нибудь никем не слышанное. Но у вас не рассказывают сказок. У вас не поют песен. А если рассказывают и поют, то, знаешь, эти истории о хитрых мужиках и солдатах, с вечным восхвалением жульничества, эти грязные, как немытые ноги, грубые, как урчание в животе, коротенькие четверостишия с ужасным мотивом... Стой, я сбился. Я заговорю снова.
Подумав, он продолжал так:
— Не знаю, сколько пройдет лет, — только в Каперне расцветет одна сказка, памятная надолго. Ты будешь большой, Ассоль. Однажды утром в морской дали под солнцем сверкнет алый парус. Сияющая громада алых парусов белого корабля двинется, рассекая волны, прямо к тебе. Тихо будет плыть этот чудесный корабль, без криков и выстрелов; на берегу много соберется народу, удивляясь и ахая; и ты будешь стоять там. Корабль подойдет величественно к самому берегу под звуки прекрасной музыки; нарядная, в коврах, в золоте и цветах, поплывет от него быстрая лодка. — «Зачем вы приехали? Кого вы ищете?» — спросят люди на берегу. Тогда ты увидишь храброго красивого принца; он будет стоять и протягивать к тебе руки. — «Здравствуй, Ассоль! — скажет он. — Далеко-далеко отсюда я увидел тебя во сне и приехал, чтобы увезти тебя навсегда в свое царство. Ты будешь там жить со мной в розовой глубокой долине. У тебя будет все, что только ты пожелаешь; жить с тобой мы станем так дружно и весело, что никогда твоя душа не узнает слез и печали». Он посадит тебя в лодку, привезет на корабль, и ты уедешь навсегда в блистательную страну, где всходит солнце и где звезды спустятся с неба, чтобы поздравить тебя с приездом.
— Это все мне? — тихо спросила девочка. Ее серьезные глаза, повеселев, просияли доверием. Опасный волшебник, разумеется, не стал бы говорить так; она подошла ближе. — Может быть, он уже пришел... тот корабль?
— Не так скоро, — возразил Эгль, — сначала, как я сказал, ты вырастешь. Потом... Что говорить? — это будет
, и кончено. Что бы ты тогда сделала?
— Я? — Она посмотрела в корзину, но, видимо, не нашла там ничего достойного служить веским вознаграждением. — Я бы его любила, — поспешно сказала она, и не совсем твердо прибавила: — если он не дерется.
— Нет, не будет драться, — сказал волшебник, таинственно подмигнув, — не будет, я ручаюсь за это. Иди, девочка, и не забудь того, что сказал тебе я меж двумя глотками ароматической водки и размышлением о песнях каторжников. Иди. Да будет мир пушистой твоей голове!
Лонгрен работал в своем маленьком огороде, окапывая картофельные кусты. Подняв голову, он увидел Ассоль, стремглав бежавшую к нему с радостным и нетерпеливым лицом.
— Ну, вот... — сказала она, силясь овладеть дыханием, и ухватилась обеими руками за передник отца. — Слушай, что я тебе расскажу... На берегу, там, далеко, сидит волшебник...
Она начала с волшебника и его интересного предсказания. Горячка мыслей мешала ей плавно передать происшествие. Далее шло описание наружности волшебника и — в обратном порядке — погоня за упущенной яхтой.
Лонгрен выслушал девочку, не перебивая, без улыбки, и, когда она кончила, воображение быстро нарисовало ему неизвестного старика с ароматической водкой в одной руке и игрушкой в другой. Он отвернулся, но, вспомнив, что в великих случаях детской жизни подобает быть человеку серьезным и удивленным, торжественно закивал головой, приговаривая:
— Так, так; по всем приметам, некому иначе и быть, как волшебнику. Хотел бы я на него посмотреть... Но ты, когда пойдешь снова, не сворачивай в сторону; заблудиться в лесу нетрудно.
Бросив лопату, он сел к низкому хворостяному забору и посадил девочку на колени. Страшно усталая, она пыталась еще прибавить кое-какие подробности, но жара, волнение и слабость клонили ее в сон. Глаза ее слипались, голова опустилась на твердое отцовское плечо, мгновение — и она унеслась бы в страну сновидений, как вдруг, обеспокоенная внезапным сомнением, Ассоль села прямо, с закрытыми глазами и, упираясь кулачками в жилет Лонгрена, громко сказала:
— Ты как думаешь, придет волшебниковый корабль за мной или нет?
— Придет, — спокойно ответил матрос, — раз тебе это сказали, значит все верно.
«Вырастет, забудет, — подумал он, — а пока... не стоит отнимать у тебя такую
игрушку. Много ведь придется в будущем увидеть тебе не алых, а грязных и хищных парусов; издали — нарядных и белых, вблизи — рваных и наглых. Проезжий человек пошутил с моей девочкой. Что ж?! Добрая шутка! Ничего — шутка! Смотри, как сморило тебя, — полдня в лесу, в чаще. А насчет алых парусов думай, как я: будут тебе алые паруса».
Ассоль спала. Лонгрен, достав свободной рукой трубку, закурил, и ветер пронес дым сквозь плетень в куст, росший с внешней стороны огорода. У куста, спиной к забору, прожевывая пирог, сидел молодой нищий. Разговор отца с дочерью привел его в веселое настроение, а запах хорошего табаку настроил добычливо.
— Дай, хозяин, покурить бедному человеку, — сказал он сквозь прутья. — Мой табак против твоего не табак, а, можно сказать, отрава.
— Я бы дал, — вполголоса ответил Лонгрен, — но табак у меня в том кармане. Мне, видишь, не хочется будить дочку.
— Вот беда! Проснется, опять уснет, а прохожий человек взял да и покурил.
— Ну, — возразил Лонгрен, — ты не без табаку все-таки, а ребенок устал. Зайди, если хочешь, попозже.
Нищий презрительно сплюнул, вздел на палку мешок и съязвил:
— Принцесса, ясное дело. Вбил ты ей в голову эти заморские корабли! Эх ты, чудак-чудаковский, а еще хозяин!
— Слушай-ка, — шепнул Лонгрен, — я, пожалуй, разбужу ее, но только за тем, чтобы намылить твою здоровенную шею. Пошел вон!
Через полчаса нищий сидел в трактире за столом с дюжиной рыбаков. Сзади их, то дергая мужей за рукав, то снимая через их плечо стакан с водкой, — для себя, разумеется, — сидели рослые женщины с густыми бровями и руками круглыми, как булыжник. Нищий, вскипая обидой, повествовал:
— И не дал мне табаку. — «Тебе, — говорит, — исполнится совершеннолетний год, а тогда, — говорит, — специальный красный корабль... За тобой. Так как твоя участь выйти за принца. И тому, — говорит, — волшебнику — верь». Но я говорю: — «Буди, буди, мол, табаку-то достать». Так ведь он за мной полдороги бежал.
— Кто? Что? О чем толкует? — слышались любопытные голоса женщин. Рыбаки, еле поворачивая головы, растолковывали с усмешкой:
— Лонгрен с дочерью одичали, а может, повредились в рассудке; вот человек рассказывает. Колдун был у них, так понимать надо. Они ждут — тетки, вам бы не прозевать! — заморского принца, да еще под красными парусами!
Через три дня, возвращаясь из городской лавки, Ассоль услышала в первый раз:
— Эй, висельница! Ассоль! Посмотри-ка сюда! Красные паруса плывут!
Девочка, вздрогнув, невольно взглянула из-под руки на разлив моря. Затем обернулась в сторону восклицаний; там, в двадцати шагах от нее, стояла кучка ребят; они гримасничали, высовывая языки. Вздохнув, девочка побежала домой.
Предистория. Друзья, если помните я освещал уже тему Фрези Грант. Бегущая по волнам, дошла очередь и моя рука и до Алых Парусов, помню, были и стихи у меня и около 15 песен собрано на эту тему и эскизов и картин, также в 2014 году мама моя была в Питере и привезла календарики, так вот 1 из них мне дал толчок вернуться к этой теме боле расширено, фрегат с Алыми Парусами, он со мной «Праздник Алые Паруса на Неве», в добрый путь!
АЛЫЕ ПАРУСА ГРИНА. Ассоль.
Любимым развлечением маленькой Ассоль было, по вечерам или в праздник, когда отец, оставив банки с клейстером, инструменты и неоконченную работу, садился, сняв передник, отдохнуть, – забраться к нему на колени и, вертясь в бережном кольце отцовской руки, трогать различные части игрушек, расспрашивая об их назначении. Так начиналась своебразная фантастическая лекция о жизни и людях – лекция, в которой благодаря прежнему образу жизни Лоэнгрена, когда то он был матросом «ОРИОНА», крепкого трёхсоттонного брига, на котором он прослужил десять лет. В его живом рассказе же случайностям и случаю вообще диковинным, поразительным и необыкновенным событиям отводилось главное место.
Лонгрен, называя девочке имена снастей, парусов, предметов морского обихода, постепенно увлекался, переходя от объяснений к различным эпизодам, в которых играли роль то брашпиль, то рулевое колесо, то мачта или какой-нибудь тип лодки и тому подобное, а от отдельных иллюстраций этих переходил к широким картинам морских скитаний, вплетая суеверия в действительность, а действительность – в образы своей фантазии. Тут появлялась и тигровая кошка, вестница кораблекрушения, и говорящая летучая рыба, не послушаться приказаний которой значило сбиться с курса, и Летучий Голландец с неистовым своим экипажем, приметы приведения, русалки, пираты – словом, все басни, коротающие досуг моряка в штиле или излюбленном кабаке. Рассказывал Лонгрен также о потерпевших крушения, об одичавших и разучившихся говорить людях, о таинственных морских кладах, бунтах каторжников и многом другом, что выслушивалось девочкой внимательнее, чем, может быть, слушался в первый раз рассказ Колумба о новом материке.
«Ну, говори ещё», – просила Ассоль, когда Лоэнгрен, задумавшись, умолкал, и засыпала на его груди с головой, полной чудесных снов.
Также служило ей большим, всегда материально существенным удовольствием появление приказчика городской игрушечной лавки, охотно покупавшей работу Лоэнгрена. Чтобы задобрить отца и выторговать лишнее, хитрый приказчик захватывал с собой для девочки пару яблок, сладкий пирожок, горсть орехов. Лонгрен обыкновенно просил настоящую стоимость из нелюбви к торгу, а приказчик сбавлял.
«Эх вы, – говорил Лоэнгрен, – да я неделю сидел над этим ботом. – Бот был пятивершковый. – Посмотри, что за прочность, а осадка, а доброта? Бот этот пятнадцать человек выдержит в любую погоду».
Кончалось тем, что тихая возня девочки, мурлыкавшей над своим яблоком, лишала Лонгрена стойкости и охоты спорить, он охотно уступал, а приказчик, набив до отказу корзину превосходными, прочными, красивыми игрушками, уходил, потирая руки и посмеиваясь в усы.
Всю домовую работу Лоэнгрен исполнял сам: колол дрова, носил воду, топил печь, стряпал, стирал, гладил белье и, кроме всего этого, успевал работать для денег. Когда Ассоль исполнилось восемь лет, отец выучил её читать и писать. Он стал изредка брать её с собой в город, а затем посылать даже одну, если была надобность перехватить денег в магазине или снести товар.
Однажды, в середине такого путешествия к городу, девочка присела у дороги съесть кусок пирога, положенного в корзинку на завтрак. Закусывая, она перебирала игрушки, из них две-три оказались новинкой для неё, Лоэнгрен сделал их ночью. Одна такая новинка была миниатюрной гоночной яхтой, белое суденышко это несло о ЧУДО, Алые Паруса, сделанные из обрезков шёлка, употреблявшегося Лонгреном для оклейки параходных кают – игрушек богатого покупателя. Здесь, видимо, сделав яхту, он не нашёл подходящего материала на паруса, употребив что было – лоскутки алого шёлка. Ассоль пришла в огромное восхищение. Пламенный, весёлый цвет так ярко горел в её руке, как будто она держала живой пляшущий ОГОНЬ. Её дорогу пересекал ручей с переброшенным через него жердяным мостиком. Ручей справа и слева уходил в лес.
« Если я спущу ЯХТУ на воду поплавать немного, – размышляла Ассоль, – она ведь не промокнет и не утонет, а я её потом вытру»
Отойдя в лес за мостик, по течению ручья, девочка осторожно спустила на воду у самого берега пленившее её судно, паруса тотчас сверкнули алым отражением в прозрачной воде, ясный свет пронизывая материю, лёг дрожащим розовым излучением на белых камнях дна.
«Ты откуда приехал, КАПИТАН? » – важно спросила Ассоль воображенное лицо и, отвечая сама себе, сказала: «Я приехал … приехал…. Приехал я из Китая ». «– А что ты привёз? «– « Что привёз, о том не скажу».
– « Ах, ты так, Капитан! Ну, тогда я тебя посажу обратно в корзину ».
Только что Капитан приготовился смиренно ответить, что он пошутил и что готов показать СЛОНА, как вдруг тихий отбег береговой струи ручья повернул яхту носом к середине ручья, и, как настоящая, полным ходом покинув берег, она ровно поплыла вниз. Мгновенно изменился масштаб видимого: ручей казался теперь девочке огромной рекой, а яхта – далёким, большим судном, к которому, едва не падая в воду, испуганная и оторопевшая, протягивала она руки.
«Капитан испугался», – подумала она и побежала за уплывающей игрушкой, надеясь, что её где-нибудь прибьёт к берегу. Поспешно таща не тяжёлую, но мешающую корзинку, Ассоль твердила:
«Ах, господи! Ведь случилось же…»
Она старалась не терять из вида красивый, плавно убегающий алый треугольник парусов, спотыкалась, падала и снова бежала. Ассоль никогда не бывала так глубоко в лесу одна, как теперь…
…. В такой безуспешной и тревожной погоне прошло около часу, когда с удивлением, но и с облегчением Ассоль увидела, что деревья впереди свободно раздвинулись, пропустив синий разлив моря, облака и край жёлтого песчаного обрыва, на который она выбежала, почти падая от усталости, сердце в груди стучало верх -вниз… Здесь было устье ручья, разлившись нешироко и мелко, так что виднелась струящаяся голубизна камней, он пропадал в встречной морской волне.
С невысокого, изрытого корнями обрыва Ассоль увидела, что у ручья сидит человек, держа в руках сбежавшую яхту, и всесторонне рассматривает её с любопытством слона, поймавшего яркую бабочку. Отчасти успокоенная тем, что игрушка цела, Ассоль сползла по обрыву и, близко подойдя к незнакомцу, воззрилась на него изучающим взглядом, ожидая, когда он подымет голову. Но неизвестный так погрузился в созерцание лесного сюрприза, что девочка успела рассмотреть его с головы до ног, установив, что людей, подобных этому незнакомцу, ей видеть ещё ни разу не приходилось.
Но перед ней был не кто иной, как путешествующий пешком Эгль, известный собиратель песен, легенд, преданий и сказок. Седые кудри складками выпадали из-под его соломенной шляпы, серая блуза, заправленная в синие брюки, и высокие сапоги придавали ему вид охотника, белый воротничок, галстук, пояс, унизанный серебром блях, дубовая трость и сумка с новеньким никелевым замочком выказывали горожанина. Его лицо, если можно назвать лицом, нос, губы и глаза, выглядывающие из бурно разросшейся лучистой бороды, из пышных усов, казалось бы вяло-прозрачным, если бы не глаза, серые, как песок, и блестящие, как чистая сталь, с взглядом смелым и сильным.
– Теперь отдай мне, – несмело сказала девочка. – Ты уже поиграл.
– Ты как поймал её?
Эгль поднял голову, уронив яхту, – так неожиданно прозвучал взволнованный голосок Ассоль. Старик с минуту разглядывал её…
– Клянусь Гриммами, Эзопом и Андерсеном, – сказал Эгль, посматривая то на девочку, то на яхту –это что-то особенное. Слушай-ка ты, цветочек! Это твоя штука?
– Да, я за ней бежала по всему ручью, я думала, что умру. Она была тут?
– У самых моих ног. Кораблекрушение причиной того, в качестве берегового пирата, могу вручить тебе этот приз. Яхта, покинутая экипажем, была выброшена на песок трехверщковым валом – между моей левой пяткой и оконечностью палки. – Он стукнул звонко тростью. – Как зовут тебя, милая крошка?
– Ассоль, – сказала девочка, пряча в корзину поданную Эглем игрушку.
– Хорошо, – продолжал свою речь старик, не сводя глаз. – Мне, собственно, не надо было спрашивать твоё имя. Хорошо, что оно так странно, так однотонно, музыкально, как свист стрелы или шум морской раковины...
Подумав, он продолжал так:
– Не знаю, сколько пройдёт лет, только расцветёт одна сказка, памятная надолго. Ты будешь большой, Ассоль. Однажды утром в морской дали под солнцем сверкнёт АЛЫЙ ПАРУС. Сияющая громада алых парусов белого корабля двинется, рассекая волны, прямо к Тебе. Тихо будет плыть этот чудный корабль, без криков и выстрелов. На берегу много соберётся народу, удивляясь и ахая, и ты будешь стоять там. Корабль подойдёт величественно к самому берегу под звуки прекрасной музыки. Нарядная, в коврах, в золоте, и цветах, поплывёт от него быстрая лодка.
« Зачем вы приехали? Кого вы ищите?» – спросят люди на берегу.
Тогда ты увидишь храброго принца, он будет стоять и протягивать к тебе руки.
« Здравствуй, АССОЛЬ! – скажет он Далеко-далеко отсюда я увидел тебя во сне и приехал, чтобы увезти тебя навсегда в своё царство. Ты будешь там жить со мной в розовой глубокой цветущей долине. У тебя будет всё, что ты пожелаешь, жить с тобой мы станем так дружно и весело, что никогда твоя душа не узнает слёз и печали».
Он посадит тебя в лодку, привезёт на корабль, и ты уедешь навсегда в блистательную страну, где всходит солнце и где звезды спустятся с неба, чтобы поздравить тебя с приездом.
– Это всё мне? – тихо спросила девочка.
Её серьёзные лучистые глаза, повеселев, просияли доверием.
– Может быть, он уже пришёл… тот корабль?
– Не так скоро, – возразил Эгль, – сначала, как я сказал, ты вырастишь. Потом… Что говорить? Это будет и кончено.
(Это неточная копия книги, я её преобразовал, добавил прилагательные в текст, все сделано мною, чтоб передать торжественный настрой Алых Парусов и чтоб вы сами захотели взять книгу в руки и перечитать)
Алые Паруса Грина. Грэй.
Если Цезарь находил, что лучше быть первым в деревне, чем вторым в Риме, то Артур Грей мог не завидовать Цезарю в отношении его мудрого желания. Он родился капитаном, хотел быть им и стал им.
Огромный дом, в котором родился Грэй, был мрачен внутри и величествен снаружи. К переднему фасаду примыкали цветник и часть парка.
Отец и мать Грея были надменные невольники своего положения, богатства и законов того общества, по отношению к которому могли говорить «мы». Часть их души, занятая галереей предков, мало достойна изображения, другая часть – воображаемое продолжение галереи – начиналась маленьким Грэем, обречённым по известному, заранее составленному плану прожить жизнь и умереть так, чтобы его портрет мог быть повешен на стене без ущерба фамильной чести. В этом плане была допущена небольшая ошибка. Артур Грэй родился с живой душой, совершено не склонной продолжить линию фамильного начертания.
Эта живость, эта совершенная извращенность мальчика начала сказываться на восьмом году его жизни, тип рыцаря причудливых впечатлений, искателя и чудотворца, то есть человека, взявшего из бесчисленного разнообразия ролей жизни самую опасную и трогательную – роль провидения, намечался в Грэе ещё тогда, когда, приставив к стене стул, чтобы достать картину, изображавшую распятие, он вынул гвозди из окровавленных рук Христа, то есть попросту замазал их голубой краской, похищенной у маляра. В таком виде он находил картину более сносной. Увлечённой своеобразным занятием, он начал замазывать и ноги распятого, но был застигнут отцом. Старик снял мальчика со стула за уши и спросил:
– Зачем ты испортил картину?
– Я её не испортил.
– Это работа знаменитого художника.
– Мне всё равно – сказал Грэй. – Я не могу допустить, чтобы при мне торчали из рук гвозди и текла кровь. Я этого не хочу.
В ответ сына Лионель Грэй, скрыв под усами улыбку узнал себя и не наложил наказания.
Грэй неутомимо изучал замок, делая поразительные открытия. Так на чердаке он нашёл стальной рыцарский хлам, книги, переплетённые в железо и кожи, истлевшие одежды и полчища голубей…
Посещение кухни было строго воспрещено Грэю, но, раз открыв уже этот удивительный, полыхающий огнём очагов мир пара, копоти, шипения, клокотания кипящих жидкостей, стука ножей и вкусных запахов, мальчик усердно навещал помещение.
На кухне Грэй немного робел: ему казалось, что здесь всем двигают тёмные силы …
Грэй не был ещё так высок, чтобы взглянуть в самую большую кастрюлю, бурлившую подобно Везувию, но чувствовал к ней особенное почтение, он смотрел, как её ворочают две служанки, на плиту выплескивалась тогда дымная пена, и пар, поднимаясь с зашумевшей плиты, волнами наполняя кухню. Раз жидкости выплеснулось так много, что она обварила руку одной красивой девушки. Кожа мгновенно покраснела, даже ногти стали красными от прилива крови, и Бетси (так звали служанку), плача, натирала маслом пострадавшие места. Слёзы неудержимо катились по её круглому перепуганному лицу.
Грэй замер. В то время как другие женщины хлопотали около бедной Бетси, он пережил ощущение острого чужого страдания, которое не мог испытать сам.
– Очень ли тебе больно? – спросил Он.
– Попробуй, так узнаешь, – ответила Бетси, накрывая руку передником.
Нахмурив брови, мальчик вскарабкался на табурет, зачерпнул длинной ложкой горячей жижи и плеснул на сгиб кисти. Впечатление оказалось не слабым, но слабость от сильной боли заставила его пошатнуться. Бледный, как мука, Грэй подошёл к Бетси, заложив горящую руку в карман штанишек.
- Мне кажется, что очень больно, – сказал Он, – умалчивая о своём опыте. – Пойдём, Бетси, к врачу. Пойдём же быстрей!
Он усердно тянул её за юбку, в то время как сторонники домашних средств наперерыв давали служанке спасительные рецепты. Но девушка, сильно мучаясь, пошла с Грэем. Врач смягчил боль, наложив перевязку. Лишь после того, как Бетси ушла, мальчик показал свою руку.
Этот незначительный эпизод сделал двадцатилетнюю Бетси и десятилетнего Грэя истинными друзьями. Она набивала его карманы пирожками и яблоками, а он рассказывал ей сказки и другие истории, вычитанные в своих книжках. Однажды он узнал, что Бетси не может выйти замуж за конюха Джима, ибо у них нет денег обзавестись хозяйством. Грэй разбил каменными щипцами свою фарфоровую копилку и вытряхнул оттуда всё – что составляло около ста фунтов. Встав рано, когда бесприданница удалилась на кухню, он пробрался в её комнату и, засунув подарок в сундук девушке, прикрыл его короткой запиской: «Бетси, это твоё. Предводитель шайки разбойников Робин Гуд». Переполох, вызванный на кухне этой историей, приняв такие размеры, что Грэй должен был сознаться в подлоге. Он не взял денег назад и не хотел более говорить об этом…
Алые Паруса Грина. Встреча.
Грэй вышел из чащи в кустарник, разбросанный по скату холма.
Он тихо отвёл рукой ветку и остановился с чувством очень неожиданной прекрасной НАХОДКИ.
Не далее как в пяти шагах, свернувшись, подобрав одну ножку и вытянув другую, лежала головой на уютно подвернутых руках утомившаяся Ассоль. Её волосы сдвинулись в беспорядке, у шеи расстягнулась пуговица, открыв белую ямку, раскинувшая юбка обнажила колени, ресницы спали на щеке, в тени нежного, выпуклого виска, полузокрытого тёмной прядью, мизинец правой руки, бывшей под головой, пригибался к затылку. Грэй присел на карточки, заглядывая девушке в лицо снизу…
Быть может, при других обстоятельствах эта девушка была бы замечена им только глазами, но тут он иначе увидел её. Всё тронулось, всё усмехнулось в нём. Разумеется, он не знал ни её, ни её имени, ни, тем более, почему она уснула на берегу, но был этим очень доволен. Он любил картины без объяснений и подписей. Впечатление такой картины несравненно сильнее, её содержание, не связанное словами, становится безграничным, утверждая все догадки и мысли.
Тень листвы подобралась ближе к стволам, а Грэй всё ещё сидел в той же малоудобной позе. Всё спало на девушке: спали тёмные длинные волосы, спало платье и складки платья, даже трава поблизости её тела, казалось, задремала в силу сочувствия. Когда впечатление стало полным, Грей вошёл в его теплую подмывающую волну и уплыл с ней.
Когда он, наконец, встал, склонность к необычайному застала его врасплох с решимостью и вдохновением раздраженной женщины. Задумчиво уступая ей, он снял с пальца старинное дорогое кольцо и бережно опустил кольцо на малый мизинец, белевший из-под затылка. Мизинец нетерпеливо двинулся и поник. Взглянув ещё раз на это отдыхающее лицо, Грэй повернулся и увидел в кустах высоко поднятые брови матроса….
Алые Паруса Грина. Алый «СЕКРЕТ»
\ продолжение ещё пишу и подумаю когда дать… ПЛЫВИ НАШ КОРАБЛЬ ЕДИНЫЙ в ПРЕКРАСНОЕ БУДУЩЕЕ!
АЛЫЕ ПАРУСА
Слова и музыка Владимира Ланцберга
Не три глаза, ведь это же не сон.
И алый парус, правда, гордо реет
В той бухте, где отважный Грей нашёл свою Ассоль,
В той бухте, где Ассоль дождалась Грея.
С друзьями легче море переплыть
И есть морскую соль, что нам досталась.
А без друзей на свете было б очень трудно жить
И серым стал бы даже алый парус.
Ребята, надо верить в чудеса!
Когда-нибудь весенним утром ранним
Над океаном алые взметнутся паруса,
И скрипка пропоёт над океаном.
Рецензии
Да, главное красочно донести, чтоб Корабль другого человека, поднял паруса и свежо бегло побежал с попутным ветерком, с теплом и уважением! Надуем Паруса Руси ПА ПЫ отцовские паруса РУСи, для РОССИИ (РОСы СияЮщей).... благодарствую!
Александр Степанович Грин [настоящая фамилия Гриневский; 11(23).VIII.1880, г. Слободской Вятской губернии, - 8.VII.1932, Старый Крым] - русский писатель-неоромантик. Родился в семье ссыльного поляка, участника Польского восстания 1863 г. В 1896 г., окончив 4-классное Вятское городское училище, уехал в Одессу. Скитался по России, был матросом, золотоискателем, шпагоглотателем в бродячем цирковом балагане. Учеником и матросом плавал на кораблях «Платон» и «Цесаревич» по Черному морю (1896-1897), побывал в Александрии. В 1902 г. добровольно вступил в военную службу; в полку сблизился с эсерами; дезертировал. В 1903-1910 гг. неоднократно подвергался арестам за революционную пропаганду, был в ссылке, совершал побеги, жил по фальшивым паспортам.
Первый рассказ «Заслуга рядового Пантелеева» (1906, агит-брошюра за подписью А. С. Г.) был конфискован, тираж сожжен. Впервые подпись «А. С. Грин» (часть настоящей фамилии автора, бежавшего из ссылки и находившегося в розыске) появилась под рассказом «Апельсины» (1908). Первый сборник рассказов Грина, озаглавленный «Шапка-невидимка», вышел в 1908 г., следующий сборник - «Штурман “Четырех ветров”» - в 1910-м. К концу жизни у писателя вышло более двух десятков таких сборников-циклов.
За проживание по чужому паспорту летом 1910 г. Грин был вновь арестован, приговорен к двум годам ссылки в Архангельскую губернию. В мае 1912 г. вернулся в Петербург. Жил писательским заработком. Сотрудничал более чем в 60 периодических изданиях; до 1917 г. напечатал более 350 рассказов, повестей, стихотворений, поэм и сатирических миниатюр. В художественном мире Грина прихотливо соединяются реальность, впитавшая трудный, подчас трагический жизненный опыт автора, и авторская фантазия, воплотившая мечту писателя о человеческом счастье. Мужественные, благородные и свободные люди населяют придуманные им приморские города - Лисе, Зурбаган, Гель-Гью, овеянные романтикой странствий и приключений.
С конца 1916 г. Грин был вынужден скрываться в Финляндии, но, узнав о Февральской революции, вернулся в Петроград. Однако вскоре пореволюционная действительность разочаровала писателя. После Октябрьской революции он печатал сатирические заметки и фельетоны в журнале «Новый сатирикон». Весной 1918 года журнал вместе со всеми другими оппозиционными изданиями был запрещен. Грин был арестован и лишь чудом избежал расстрела.
Летом 1919 г. Грина призвали в Красную Армию связистом, но вскоре он заболел сыпным тифом. После выздоровления ему при содействии Горького удалось получить академический паек и жилье - комнату в «Доме искусств» в Петрограде. Там была написана повесть-«феерия» «Алые паруса» (опубликована в 1923). Повесть посвящена Нине Николаевне Грин (урожденной Мироновой), на которой писатель женился в 1921 г. Имя главной героини феерии - Ассоль - стало особенно популярным после выхода фильма «Алые паруса» (1961), в котором роль Ассоль сыграла Анастасия Вертинская.
В первые советские годы Грина почти не печатали, но с началом НЭПа появились частные издательства, и ему удалось опубликовать новый сборник «Белый огонь» (1922), куда, в частности, вошел рассказ «Корабли в Лиссе», который сам Грин считал одним из лучших.
В 1921-1923 гг. Грин пишет свой первый роман - «Блистающий мир». Главный герой - летающий сверхчеловек Друд убеждает людей отказаться от сиюминутных ценностей в пользу высших ценностей Блистающего мира. В 1923 г. роман был напечатан в журнале «Красная Нива», а в следующем году с большими сокращениями и изменениями вышел отдельным изданием.
В 1924 г. Грин c женой переехал в Феодосию, в 1930 - в Старый Крым (в обоих городах теперь работают литературно-мемориальные музеи Грина). Осенью 1926 г. Грин закончил свое главное произведение - роман «Бегущая по волнам», в котором соединились лучшие черты его писательского таланта: стремление к воплощению мечты, тонкий психологизм, увлекательный авантюрно-романтический сюжет. Два года автор пытался опубликовать роман, и лишь в конце 1928 года книга увидела свет в издательстве «Земля и фабрика», ранее выпустившем «Алые паруса».
В 1929-1930 гг. с большим трудом удалось издать последние романы Грина «Джесси и Моргиана» и «Дорога никуда». В 1930 г. выходит последний сборник рассказов Грина «Огонь и вода», в который вошли тексты 1909-1929 гг. С 1930 г. Главлит ввел запрет на переиздания старых произведений Грина и ограничение на публикацию новых. Единственная книга Грина, вышедшая после запрета - «Автобиографическая повесть» (1932), в которой описаны события начала 1900-х годов.
Грин умер в Старом Крыму на 52-м году жизни от рака желудка. Безусловное признание пришло посмертно, в 1960-е годы.
И. П.
По материалам «Краткой литературной энциклопедии», 3-го издания «Большой советской энциклопедии», «Википедии» и биобиблиографического словаря «Русские писатели. 1800-1917»
В -7 (ГИА)
Укажите цифры, обозначающие запятые между частями СПП.
- У меня есть цветок, (1)- сказал он, (2)- и я каждое утро его поливаю. У меня есть три вулкана, (3), я каждую неделю их прочищаю. Все три прочищаю, (4) и потухший тоже. Мало ли что может случиться. И моим вулканам, (5) и моему цветку полезно, (6), что я ими владею. А звёздам от тебя нет никакой пользы… деловой человек открыл было рот, (7) но ничего не ответил, (8), и Маленький принц отправился дальше.
- Маленький принц смотрел на фонарщика, (1) и ему всё больше нравился этот человек, (2) который был так верен своему слову. Маленький принц вспомнил,(3) как он когда-то переставлял стул с места на место, (4) чтобы лишний раз поглядеть на закат солнца. И ему захотелось помочь другу. «Послушай, (5)- сказал он фонарщику, (6) – я знаю средство: ты можешь отдыхать, (7) когда только захочешь.
- Твоя планета такая крохотная, (1) – продолжал маленький принц, (2) – ты можешь обойти её в три шага. И просто нужно идти с такой скоростью, (3) чтобы всё время оставаться на солнце. Когда хочется отдохнуть, (4) ты просто всё иди, (5) иди… И день будет тянуться столько времени, (6) сколько ты пожелаешь. «Ну, (7) от этого мне мало толку, (8)- сказал фонарщик. - Больше сего на свете я люблю спать.
- Я географ, (1) а не путешественник. Мне ужасно не хватает путешественников. Ведь не географы ведут счёт городам, (2) рекам,(3) морям,(4) океанам,(5) и пустыням. Географ – самое важное лицо, (6) ему некогда разгуливать. Он принимает у себя путешественников и записывает их рассказы. И если кто-нибудь из них расскажет что-нибудь интересное, (7) географ наводит справки и проверяет, (8) порядочный это человек или нет.
- Если поглядеть со стороны, (1) это было великолепное зрелище. Движения этой армии подчинялись тончайшему ритму, (2) совсем как в балете. Засветив свои огни, (3) фонарщики отправлялись спать. Исполнив свой танец,(4) они тоже скрывались за кулисами. Потом приходил черёд фонарщиков из России и Индии. Потом – в Африке и Европе. Затем в Южной Америке, (5) затем в Северной Америке. И никогда они не ошибались, (6) никто не выходил на сцену не вовремя.
- Взрослые вам, (1) конечно, (2) не поверят. Они воображают, (3) что занимают очень много места. Они кажутся сами себе величественными, (4) как баобабы. А вы посоветуйте им сделать точный расчёт. Им это понравится, (5)они ведь обожают цифры. Вы же не тратьте время на эту арифметику.
- «Какая странная планета!- подумал Маленький принц.- Совсем сухая, (1) вся в иглах и солёная. И у людей не хватает воображения. Они только повторяют то, (2) что им скажешь. Дома у меня был цветок, (3) моя краса и радость, (4), и он всегда заговаривал первым».
- Потом он уснул, (1) я взял его на руки и пошел дальше. Мне казалось даже, (2) что ничего более хрупкого нет на нашей Земле. При свете луны я смотрел на его бледный лоб, (3) на сомкнутые ресницы, (4) на золотые пряди волос, (5) которые перебирал ветер, (6) и говорил себе: все это лишь оболочка. Самое главное – то, (7) чего не увидишь глазами… Его полураскрытые губы дрогнули в улыбке, (8) и я казал себе щё6 трогательней всего в этом спящем Маленьком принце его верность цветку.
- Тогда я опустил глаза, (1) да так и подскочил! У подножья стены, (2) подняв голову к Маленькому принцу, (3) свернулась маленькая змейка, (4) из тех, (5) чей укус убивает. Нащупывая в кармане револьвер, (6) я бегом бросился к ней, (7) но при звуке шагов змейка тихо заструилась по песку, (8) словно умирающий ручеёк, (9) и с еле слышным звоном скрылась меж камней. Я подбежал к стене как раз вовремя, (10) чтобы подхватить Маленького принца.
- И когда ты утешишься, (1) ты будешь рад (2) что знал меня когда-то. Иной раз ты вот так распахнёшь окно, (3) и тебе будет приятно. И твои друзья станут удивляться, (4) что ты смеёшься, (5) глядя в небо. А ты им скажешь: «Да, (6), да, (7) я всегда смеюсь, (8) глядя на звезды!» И они подумают, (9) что ты сошёл с ума.
- Я понимаю, (1) что с вами. Когда я был молод, (2) я совал свое невежество всем в лицо. А если вы будете скрывать свое невежество, (3) вас не будут бить и вы никогда не поумнеете. Вы больше не одиноки, (4) мы уже не сидим каждый порознь в своей гостиной, (5) разделённой глухой стеной, (6) я буду рядом.
- Монтэг думал, (1) все время неотрывно думал о тех женщинах в его гостиной, (2) пустых женщинах, (3) из которых неоновый ветер давно уже выдул последние зёрнышки разума, (4) и о своей нелепой затее читать им книгу. Бред, (5) сумасшествие! Ещё одна вспышка гнева,(6) с которой он не умел совладать. Обычно Битти никогда не садился за руль, (7) но сегодня вел машину он, (8) круто сворачивая на поворотах, (9) наклонившись вперёд с высоты водительского трона, (10) полы его макинтоша хлопали и развевались, (11) он был как огромная летучая мышь, (12) несущаяся над машиной грудью навстречу.
- Постарайтесь пробраться к реке, (1) потом идите вдоль берега, (2) там есть старая железнодорожная колея,(3) ведущая из города в глубь страны. Всё сообщение ведётся теперь по воздуху,(4) и большинство железнодорожных путей давно заброшено, (5) но эта колея сохранилась, (6) ржавея потихоньку. Говорят, (7) вдоль железнодорожной колеи, (8) что идет отсюда на Лос-Анджелес, (9) можно встретить бывших питомцев Гарвардского университета. Большей частью это беглецы, (10) скрывающиеся от полиции. Их немного, (11) и правительство, (12) видимо, (13) не считает их настолько опасными, (14) чтобы продолжать поиски за пределами городов.
- Тёмные берега скользили мимо, (1) река несла его теперь среди холмов. Впервые за много лет он видел перед собою звёзды, (2), бесконечное шествие совершающих свой круг светил. Огромная звёздная колесница катилась по небу, (3) грозя раздавить его. Когда чемодан наполнился водой и затонул, (4) Монтэг перевернулся на спину. Река лениво катила свои волны, (5) уходя все дальше и дальше от людей, (6) которые питались тенями на завтрак, (7), дымом на обед и туманом на ужин. Река была по-настоящему реальна, (8) она бережно держала Монтэга в своих объятиях, (9) она не торопила его, (10) она давала время обдумать всё, (11) , что произошло с ним за этот месяц, (12) за этот год, (13), за всю жизнь. Он прислушался к ударам своего сердца: (14) оно билось спокойно и ровно.
- Луна низко висела на небе. Луна и лунный свет. Откуда он? Ну понятно, (1) от солнца. А солнце откуда берёт свой свет? Ниоткуда, (2) оно горит собственным огнем. Горит и горит изо дня в день, (3) всё время. Солнце и время. Солнце, (4) время, (5) огонь. На небе солнце,(6) на земле часы, (7) отмеряющие время. И после многих лет,(8) прожитых на земле, и немногих минут, (9) проведенных на этой реке, (10) он понял наконец,(11) почему никогда больше он не должен жечь.
ОТВЕТЫ к заданию В-7.
№ задания | ответы |
2,3,4,7 |
|
3,4,6 |
|
2,5,6,7 |
|
5,10 |
|
1,2,4,9 |
|
1,2,3 |
|
3,4,6 |
|
8,9,14 |
|
4,6,11 |
|
В-8 (ГИА)
Найти среди предложений СПП с однородным подчинением придаточных.
- (1) Лонгрен, матрос «Ориона», крепкого трехсоттонного брига, на котором он прослужил десять лет и к которому привязан сильнее, чем иной сын к родной матери, должен был, наконец, покинуть службу. (2) Это произошло так. (3) В одно из его редких возвращений домой он не увидел, как всегда ещё издали, на пороге дома жену Мери, всплескивающую руками, а затем бегущую навстречу до потери дыхания. (4)Вместо неё у детской кроватки – нового предмета в маленьком доме Лонгрена – стояла взволнованная соседка.
- (1) Десять лет скитальческой жизни оставили в его руках очень немного денег.(2) Он стал работать. (3) Скоро в городских магазинах появились его игрушки – искусно сделанные маленькие модели лодок, катеров, парусников, крейсеров, пароходов – словом, того, что он близко знал, что в силу характера работы, отчасти заменяло ему грохот портовой жизни и живописный труд плаваний. (4)Этим способом Лонгрен добывал столько, чтобы жить в рамках умеренной жизни.
- (1)Но эти дни норда выманивали Лонгрена из его маленького дома чаще, чем солнце, забрасывающее в ясную погоду море и Каперну покрывалами воздушного золота. (2) Лонгрен выходил на мостик, настланный по длинным рядам свай. (3) Он подолгу курил раздуваемую ветром трубку, смотря, как обнажённое у берегов дно дымилось седой пеной, еле поспевающей за валами, как горизонт наполнял пространство стадами гривастых существ, несущихся в свирепом отчаянии к далекому утешению. (4) Стоны и шумы, завывающая пальба огромных взлётов воды и, казалось, видимая струя ветра, полосующего окрестность, -так силён был его ровный пробег, - давали душе Лонгрена ту притупленность, оглушенность, которая, низводя горе к смутной печали, равна действием глубокому сну.
- (1) Молча, до своих последних слов, посланных вдогонку Меннрсу, Лонгрен стоял; стоял неподвижно, строго и тихо, как судья, выказав глубокое презрение Меннерсу – больше, чем ненависть, было в его молчании, и это чувствовали все. (2) Если бы он кричал, если бы выражал жестами или суетливостью злорадство, рыбаки бы поняли его, но он поступил иначе, чем поступали они – поступил внушительно, непонятно и этим поставил себя выше других, словом, сделал то, чего не прощают. (3) Никто более не кланялся ему, не протягивал руки, не бросал узнающего, здоровающегося взгляда.
- (1)Это случалось не часто, хотя Лисе лежал всего в четырёх верстах от Каперны, но дорога к нему шла лесом, а в лесу многое может напугать детей, помимо физической опасности, которую, правда, трудно встретить на таком близком расстоянии от города, но все-таки не мешает иметь в виду. (2) Поэтому только в хорошие дни, утром, когда окружающая дорогу чаща полна солнечным ливнем, цветами и тишиной и когда впечатлительности Ассоль не грозили фантомы воображения, Лонгрен отпускал её в город. (3)Однажды, в середине такого путешествия к городу, девочка присела у дороги съесть кусок пирога, положенного в корзину на завтрак. (4) Закусывая, она перебирала игрушки; из них две-три оказались новинкой для нее: Лонгрен сделал их ночью.
- (1)Только что капитан приготовился смиренно ответить, что он пошутил и готов показать слона, как вдруг тихий отбег береговой струи повернул яхту носом к середине ручья, и, как настоящая, полным ходом покинув берег, она ровно поплыла вниз. (2) Мгновенно изменился масштаб видимого: ручей казался девочке огромной рекой, а яхта – далёким, большим судном, к которому, едва не падая в воду, испуганная и оторопевшая, протягивала она руки. (3) «Капитан испугался»,- подумала она и побежала за уплывающей игрушкой, надеясь, что ее где-нибудь прибьет к берегу. (4)Поспешно таща не тяжелую, но мешающую корзинку, Ассоль твердила: - «Ах, Господи! Ведь случись же…» (5) Она старалась не терять из вида красивый, плавно убегающий треугольник парусов, спотыкалась, падала и снова бежала.
- (1) Здравствуй, Ассоль!- скажет он. – (2) Далеко-далеко отсюда я увидел тебя во сне и приехал, чтобы увезти тебя навсегда в своё царство. (3)Ты будешь там жить со мной в розовой долине. (4) У тебя будет все, чего только ты пожелаешь; жить с тобой мы станем так дружно и весело, что никогда твоя душа не узнает слёз и печали». (5) он посадит тебя в лодку, привезёт на корабль, и ты уедешь навсегда в блистательную страну, где всходит солнце и где звёзды спустятся с неба, чтобы поздравить тебя с приездом. -(6) –Это всё мне?- тихо спросила девочка. (7- Её серьёзные глаза, повеселев, просияли доверием. (8) Опасный волшебник, разумеется, не стал бы говорить так; она подошла ближе. – (9) Может быть, он уже прошел…тот корабль?
- (1) Но страстная, почти религиозная привязанность к своему странному ребёнкук была, надо полагать, единственным клапаном тех её склонностей, захлороформированных воспитанием и судьбой, которые уже не живут, но смутно бродят, оставляя волю бездейственной. (2) Знатная дама напоминала паву, высидевшую яйцо лебедя. (3) Она болезненно чувствовала прекрасную обособленность сына, когда она прижимала мальчика к груди и когда грусть, любовь и стеснение наполняли ее сердце. (1) Так облачный эффект, причудливо построенный солнечными лучами, проникает в симметрическую обстановку казенного здания лишая ее банальных достоинств; глаз видит и не узнает помещения: таинственные оттенки света среди убожества творят ослепительную гармонию.
- (1) Если он не хотел, чтобы подстригали деревья, деревья оставались нетронутыми, если он просил простить или наградить кого-либо, заинтересованное лицо знало, что так и будет; что он мог ездить на любой лошади, брать в замок любую собаку; рыться в библиотеке, бегать босиком и есть, что ему вздумается. (2) Его отец некоторое время боролся с этим, но уступил – не принципу, а желанию жены. (3) Он ограничился удалением из замка всех детей служащих, опасаясь, что благодаря низкому обществу прихоти мальчика превратятся в склонности, трудноискоренимые.(4) В общем, он был всепоглощённо занят бесчисленными фамильными процессами, начало которых терялось в эпохе возникновения бумажных фабрик, а конец - в смерти всех кляузников. (5) Кроме того, государственные дела, дела поместий, диктант мемуаров, выезды парадных охот, чтение газет и сложная переписка держали его в некотором внутреннем отдалении от семьи; сына он видел так редко, что иногда забывал, сколько ему лет.
- (1) Между тем внушительный диалог приходил на ум капитану все реже и реже, так как Грэй шел к цели с стиснутыми зубами и побледневшим лицом. (2) Он выносил беспокойный труд с решительным напряжением воли, чувствуя, что ему становится все легче и что неумение заменялось привычкой. (3) Случалось, что петлей якорной цепи его сшибало с ног, ударяя о палубу, и тогда вся работа являлась пыткой, требующей пристального внимания, но, как ни тяжело он дышал, с трудом разгибая спину, улыбка презрения не оставляла его лица. (4) Он молча сносил насмешки, издевательства и неизбежную брань, до тех пор пока не стал в новой сфере «своим», но с этого времени неизменно отвечал боксом на всякое оскорбление.
Найти предложение с параллельным подчинением придаточных.
- (1) Ассоль росла без подруг.(2) Два - три десятка детей её возраста, которые жили в Каперне, пропитанной грубым семейным началом, основой которой служил непоколебимый авторитет матери и отца, вычеркнули раз – навсегда маленькую Ассоль из сферы своего покровительства и внимания. (3) К тому же замкнутый образ жизни Лонгрена освободил теперь истерический язык сплетни. (4) Про матроса говаривали, что он где-то кого-то убил, оттого, мол, его больше не берут служить на суда, а сам он мрачен и нелюдим, потому что « терзается угрызениями преступной совести». (5) Играя, дети гнали Ассоль, если она приближалась к ним, швыряли грязью и дразнили тем, что будто отец делал фальшивые деньги. (6) Одна за другой ее наивные попытки к сближению оканчивались горьким плачем, синяками, царапинами и другими проявлениями общественного мнения.
- (1)Когда дух исследования заставил Грея проникнуть в библиотеку, его поразил пыльный свет, вся сила и особенность которого заключалась в цветном узоре верхней части оконных стекол. (2) Шкапы были плотно набиты книгами, так что они казались стенами, которые заключали жизнь в самой толще своей. (3) В отражениях шкапных стёкол виднелись другие шкапы, покрытые бесцветно блестящими пятнами. (4) Огромный глобус, который стоял на круглом столе и был заключён в медный сферический крест экватор, привлёк внимание Грея.
Найдите предложение с последовательным подчинением придаточных .
- (1) Когда он обернулся к выходу, Грэй увидел над дверью огромную картину, на которой был изображен корабль, вздымающийся на гребень морского вала. (2) Но всего замечательней была в этой картине фигура человека, стоящего на баке спиной к зрителю. (3) Поза этого человека ничего собственно не говорила о том, чем он занят, но заставляла предполагать, что его внимание крайне напряженно. (4) Грэй несколько раз приходил смотреть эту картину, которая овладела его воображением, так что оно постоянно рисовало картины морской стихии.(5) картина стала для него тем нужным словом в беседе души с жизнью, без которого трудно понять себя и без которого сложно осознать своё предназначение в жизни. (6) Грэй решительно захотел стать капитаном.
- (1) Там, где они плыли, слева волнистым сгущением тьмы проступал берег, на котором располагалась Каперна. (2) Когда подплывали совсем близко, Грэй слышал собачий лай, что доносился с суши. (3) Огни деревни напоминали печную дверцу, которая прогорела дырочками, сквозь которые виден пылающий уголь. (4) Направо был океан, такой явственный, как будто ощущалось присутствие спящего человека и как будто он был совсем рядом.
- (1) В одно из своих еженедельных посещений игрушечной лавки Ассоль вернулась домой расстроенная. (2) Когда она вошла, то была так огорчена, что сразу не могла говорить. (3) Свои товары девушка принесла обратно. (4) Лишь после того, как по встревоженному лицу отца Ассоль увидела, что он ожидает чего-то значительно худшего действительности, начала рассказывать о случившемся. (5) При этом она водила пальцем по стеклу окна, у которого стояла, рассеянно наблюдая море. (6) Оказывается, хозяин игрушечной лавки начал в этот раз с того,что открыл смчётную книгу и показал ей, сколько за ними долга. (7) Она содрогнулась, увидев внушительное трёхзначное число
Девочка росла без подруг. Два-три десятка детей ее возраста, живших в Каперне, пропитанной, как губка водой, грубым семейным началом, основой которого служил непоколебимый авторитет матери и отца, переимчивые, как все дети в мире, вычеркнули раз – навсегда маленькую Ассоль из сферы своего покровительства и внимания. Совершилось это, разумеется, постепенно, путем внушения и окриков взрослых приобрело характер страшного запрета, а затем, усиленное пересудами и кривотолками, разрослось в детских умах страхом к дому матроса.
К тому же замкнутый образ жизни Лонгрена освободил теперь истерический язык сплетни; про матроса говаривали, что он где-то кого-то убил, оттого, мол, его больше не берут служить на суда, а сам он мрачен и нелюдим, потому что «терзается угрызениями преступной совести». Играя, дети гнали Ассоль, если она приближалась к ним, швыряли грязью и дразнили тем, что будто отец ее ел человеческое мясо, а теперь делает фальшивые деньги. Одна за другой, наивные ее попытки к сближению оканчивались горьким плачем, синяками, царапинами и другими проявлениями общественного мнения; она перестала, наконец, оскорбляться, но все еще иногда спрашивала отца: – «Скажи, почему нас не любят?» – «Э, Ассоль, – говорил Лонгрен, – разве они умеют любить? Надо уметь любить, а этого-то они не могут». – «Как это – уметь?» – «А вот так!» Он брал девочку на руки и крепко целовал грустные глаза, жмурившиеся от нежного удовольствия.
Любимым развлечением Ассоль было по вечерам или в праздник, когда отец, отставив банки с клейстером, инструменты и неоконченную работу, садился, сняв передник, отдохнуть, с трубкой в зубах, – забраться к нему на колени и, вертясь в бережном кольце отцовской руки, трогать различные части игрушек, расспрашивая об их назначении. Так начиналась своеобразная фантастическая лекция о жизни и людях – лекция, в которой, благодаря прежнему образу жизни Лонгрена, случайностям, случаю вообще, – диковинным, поразительным и необыкновенным событиям отводилось главное место. Лонгрен, называя девочке имена снастей, парусов, предметов морского обихода, постепенно увлекался, переходя от объяснений к различным эпизодам, в которых играли роль то брашпиль, то рулевое колесо, то мачта или какой-нибудь тип лодки и т. п., а от отдельных иллюстраций этих переходил к широким картинам морских скитаний, вплетая суеверия в действительность, а действительность – в образы своей фантазии. Тут появлялась и тигровая кошка, вестница кораблекрушения, и говорящая летучая рыба, не послушаться приказаний которой значило сбиться с курса, и Летучий Голландец с неистовым своим экипажем; приметы, привидения, русалки, пираты – словом, все басни, коротающие досуг моряка в штиле или излюбленном кабаке. Рассказывал Лонгрен также о потерпевших крушение, об одичавших и разучившихся говорить людях, о таинственных кладах, бунтах каторжников и многом другом, что выслушивалось девочкой внимательнее, чем может быть слушался в первый раз рассказ Колумба о новом материке. – «Ну, говори еще», – просила Ассоль, когда Лонгрен, задумавшись, умолкал, и засыпала на его груди с головой, полной чудесных снов.
Также служило ей большим, всегда материально существенным удовольствием появление приказчика городской игрушечной лавки, охотно покупавшей работу Лонгрена. Чтобы задобрить отца и выторговать лишнее, приказчик захватывал с собой для девочки пару яблок, сладкий пирожок, горсть орехов. Лонгрен обыкновенно просил настоящую стоимость из нелюбви к торгу, а приказчик сбавлял. – «Эх, вы, – говорил Лонгрен, – да я неделю сидел над этим ботом. – Бот был пятивершковый. – Посмотри, что за прочность, а осадка, а доброта? Бот этот пятнадцать человек выдержит в любую погоду». Кончалось тем, что тихая возня девочки, мурлыкавшей над своим яблоком, лишала Лонгрена стойкости и охоты спорить; он уступал, а приказчик, набив корзину превосходными, прочными игрушками, уходил, посмеиваясь в усы. Всю домовую работу Лонгрен исполнял сам: колол дрова, носил воду, топил печь, стряпал, стирал, гладил белье и, кроме всего этого, успевал работать для денег. Когда Ассоль исполнилось восемь лет, отец выучил ее читать и писать. Он стал изредка брать ее с собой в город, а затем посылать даже одну, если была надобность перехватить денег в магазине или снести товар. Это случалось не часто, хотя Лисе лежал всего в четырех верстах от Каперны, но дорога к нему шла лесом, а в лесу многое может напугать детей, помимо физической опасности, которую, правда, трудно встретить на таком близком расстоянии от города, но все-таки не мешает иметь в виду. Поэтому только в хорошие дни, утром, когда окружающая дорогу чаща полна солнечным ливнем, цветами и тишиной, так что впечатлительности Ассоль не грозили фантомы воображения, Лонгрен отпускал ее в город.
Однажды, в середине такого путешествия к городу, девочка присела у дороги съесть кусок пирога, положенного в корзинку на завтрак. Закусывая, она перебирала игрушки; из них две-три оказались новинкой для нее: Лонгрен сделал их ночью. Одна такая новинка была миниатюрной гоночной яхтой; белое суденышко подняло алые паруса, сделанные из обрезков шелка, употреблявшегося Лонгреном для оклейки пароходных кают – игрушек богатого покупателя. Здесь, видимо, сделав яхту, он не нашел подходящего материала для паруса, употребив что было – лоскутки алого шелка. Ассоль пришла в восхищение. Пламенный веселый цвет так ярко горел в ее руке, как будто она держала огонь. Дорогу пересекал ручей, с переброшенным через него жердяным мостиком; ручей справа и слева уходил в лес. «Если я спущу ее на воду поплавать немного, размышляла Ассоль, – она ведь не промокнет, я ее потом вытру». Отойдя в лес за мостик, по течению ручья, девочка осторожно спустила на воду у самого берега пленившее ее судно; паруса тотчас сверкнули алым отражением в прозрачной воде: свет, пронизывая материю, лег дрожащим розовым излучением на белых камнях дна. – «Ты откуда приехал, капитан? – важно спросила Ассоль воображенное лицо и, отвечая сама себе, сказала: – Я приехал» приехал… приехал я из Китая. – А что ты привез? – Что привез, о том не скажу. – Ах, ты так, капитан! Ну, тогда я тебя посажу обратно в корзину». Только что капитан приготовился смиренно ответить, что он пошутил и что готов показать слона, как вдруг тихий отбег береговой струи повернул яхту носом к середине ручья, и, как настоящая, полным ходом покинув берег, она ровно поплыла вниз. Мгновенно изменился масштаб видимого: ручей казался девочке огромной рекой, а яхта – далеким, большим судном, к которому, едва не падая в воду, испуганная и оторопевшая, протягивала она руки. «Капитан испугался», – подумала она и побежала за уплывающей игрушкой, надеясь, что ее где-нибудь прибьет к берегу. Поспешно таща не тяжелую, но мешающую корзинку, Ассоль твердила: – «Ах, господи! Ведь случись же…» – Она старалась не терять из вида красивый, плавно убегающий треугольник парусов, спотыкалась, падала и снова бежала.
ШУМЕЛО МОРЕ, ЧИТАЛИ ГРИНА
Отец Ассоль Лонгрен ради пропитания делал из дерева игрушечные корабли и яхты, а снести товар в Лисс доверял восьмилетней дочери; до него было всего четыре версты. «Однажды… девочка присела у дороги съесть кусок пирога; она перебирала игрушки. Одна такая новинка была миниатюрной гоночной яхтой; белое судёнышко это несло алые паруса, сделанные из обрезков шёлка для оклейки пароходных кают - игрушек богатого покупателя. Ассоль пришла в восхищение. Пламенный весёлый цвет так ярко горел в её руке, как будто она держала огонь». Она опустила яхту в пробегавший мимо ручеёк, и судно резко повернуло носом к середине ручья. Ассоль бежала вдоль ручейка, стараясь не упустить из вида алый парус, и после долгой ходьбы увидела яхту в руках волшебника Эгля…
АССОЛЬ
Земля - коврига, месяц - нож,
Роса чиста, как соль.
И ковш Медведицы хорош,
Чтоб выпить за Ассоль.
Её размытый силуэт
На берегу морском
Занёс обветренный рассвет
Алеющим песком.
Настал обычный хмурый день,
Пустой, как летний хлев.
Ветвями сада на плетень
Он лёг, отяжелев.
Ассоль, ты утром не спала
И днём не прилегла,
Вела домашние дела
И весела была.
Рубаху шила для отца,
Сажала хлебы в печь,
Гася томительность лица
Тяжёлой силой плеч.
В посёлке бабы говорят:
Мол, разумом плоха.
По счёту пятого подряд
Отшила жениха.
И рыбаки, простой народ,
Решили оттого:
Ассоль - блаженная. И ждёт
Неведомо кого.
И ты согласен, умный век,
Рациональный столь,
Что паруса морей отверг,
Так нужные Ассоль.
А для неё что век, что день,
Что грозовая ночь…
Ассоль, предутренняя тень,
Пустого моря дочь.
Ждёт невозможного она.
И видит - паруса!
За преданность её - до дна! -
И веру в чудеса…
Геннадий Касмынин, +1997«Не знаю, сколько пройдёт лет, - только в Каперне расцветёт одна сказка. Ты будешь большой, Ассоль. Однажды утром в морской дали под солнцем сверкнёт алый парус. Сияющая громада алых парусов белого корабля двинется, рассекая волны, прямо к тебе… Ты увидишь красивого принца; он будет протягивать к тебе руки. “Здравствуй, Ассоль! - скажет он. - Далеко-далеко я увидел тебя во сне и приехал, чтобы увезти тебя навсегда в своё царство. Ты будешь жить в розовой глубокой долине. У тебя будет всё, что только ты пожелаешь; жить с тобой мы станем так дружно и весело, что никогда твоя душа не узнает слёз и печали”». Пора останавливаться, а то и не замечу, как перепечатаю целиком повесть Александра Грина «Алые паруса».
…Кажется, классе в седьмом под впечатлением прочитанного я упросил одноклассницу Олю Коцюбинскую нарисовать в моей тетради - сам я к рисованию не способен - неведомую страну-остров и, неумело подражая писателю, придумал названия городов, заливов, гор и лесов. Долго хранилась эта заветная тетрадка, пока не исчезла после очередного переезда отца-военного в другой город…И ЛИСС ПОД СОЛНЦЕМ ВЕСЕЛ
Не слышал я, как склянки бьют, и не сверкнул мне парус. И где на бриге бак и ют, лишь в снах воображалось. Но мощь и буйство ярких снов, и чайки за кормою важней незыблемых основ, владеющих судьбою. И сквозь вечерний склянок бой ваш голос глуховатый приводит Прошлое с собой, отринув век двадцатый. Стучит Небывшее в окно, и Лисс под солнцем светел, в котором жить не суждено, пока живём на свете. Лишь этот голос, этот скрип витого такелажа вы мне оставили внутри, у юности на страже. Василий Толстоус, Крым Александра Степановича Гриневского (1880-1932) при всём желании вы сумеете поставить в один ряд только с его кумиром Эдгаром По и Андреем Платоновым. О подражателях говорить не стоит, и даже оглушительная слава пришла к писателю только после смерти - в середине 50-х годов. Владимир Амлинский написал о Грине в журнале «Новый мир» (1980. № 10) прекрасную статью, из которой я кое-что позаимствовал.
Александра Степановича Гриневского (1880-1932) при всём желании вы сумеете поставить в один ряд только с его кумиром Эдгаром По и Андреем Платоновым. О подражателях говорить не стоит, и даже оглушительная слава пришла к писателю только после смерти - в середине 50-х годов. Владимир Амлинский написал о Грине в журнале «Новый мир» (1980. № 10) прекрасную статью, из которой я кое-что позаимствовал.
Не зря Гончаров в «Обломове» пишет об Илье Ильиче, да, видно, и обо всех нас, русских: «Сказка у него смешалась с жизнью, и он безсознательно грустит, зачем сказка не жизнь, а жизнь не сказка».КАПИТАН
Вдоль черепичных домиков селенья, в холмах, по виноградникам сухим, закатные пересекая тени, пойдём крутой тропинкой в Старый Крым. Пахнёт прохладной мятой с плоскогорья, и по тропе, бегущей из-под ног, вздохнув зеленоватой солью моря, мы спустимся в курчавый городок. Здесь домик есть с крыльцом в тени бурьянной, где над двором широколистый тут. В таких домах обычно капитаны остаток дней на пенсии живут.
Я одного из них запомнил с детства. В беседах, в книгах он оставил мне большое безпокойное наследство - тревогу о приснившейся стране, где без раздумья скрещивают шпаги, любовь в груди скрывают, точно клад, не знают лжи и парусом отваги вскипающее море бороздят. Все эти старомодные рассказы, как запах детства, в сердце я сберёг. Под широко раскинутые вязы хозяин сам выходит на порог. Он худ и прям. В его усах дымится морской табак. С его плеча в упор глядит в глаза взъерошенная птица - подбитый гриф, скиталец крымских гор. Гудит пчела. Густой шатёр каштана пятнистый по земле бросает свет, я говорю: «Привет из Зурбагана!» - и он мне усмехается в ответ.
Мы входим в дом, где на салфетке синей мёд и печенье - скромный дар сельпо. Какая тишь! Пучок сухой полыни, и на стене портрет Эдгара По. Рубином трубки теплится беседа, высокая звезда отражена в придвинутом ко мне рукой соседа стакане розоватого вина… Как мне поверить, вправду ль это было иль только снится? Я сейчас стою над узкою заросшею могилой в сверкающем, щебечущем краю. И этот край назвал бы Зурбаганом, когда б то не был крымский садик наш, где старый клён шумит над капитаном, окончившим последний каботаж.
Всеволод Рождественский
Как мне поверить, вправду ль это было иль только снится? Я сейчас стою над узкою заросшею могилой в сверкающем, щебечущем краю. И этот край назвал бы Зурбаганом, когда б то не был крымский садик наш, где старый клён шумит над капитаном, окончившим последний каботаж.
Всеволод Рождественский
Автор вспоминает разговор с вдовой Александра Степановича: «Да не мне этот домик нужен, и не Грину он нужен… Вот кому он нужен». Она показала рукой на девчонку, бежавшую босиком по пыльной дороге Старого Крыма. Девчонка и не смотрела в сторону домика, где проходила и гасла его жизнь.
Домик был ей привычен, а Грина она ещё не читала. Не поняв до дна его души, его устремлений, но лишь уловив огромный интерес к его творчеству, власть предержащая создала другой, добросовестный музей в Феодосии.В ДОМЕ-МУЗЕЕ АЛЕКСАНДРА ГРИНА
Не Старый Крым, а сказочный Салхат,
Чуть видимый сквозь зарево столетий,
Здесь и холмы, и камни говорят,
Суровы и грустны рассказы эти…Из них один, щемящий и простой, -
Об алых парусах и Зурбагане…
«Дорогой никуда» нашёл покой
Здесь добрый бог, летящий над волнами.В Проливе Бурь, где в Лиссе корабли
Оттачивали мудрые рассказы,
Внимал Салхат им с берега Земли,
Не видимый не избранному глазу.И только Он, как будто бы со звёзд
Пришедший к нам от ангелов и духов,
Вдруг целый мир неведомый принёс
Рабам, лишённым зрения и слуха. И среди них, крича до хрипоты
И среди них, крича до хрипоты
О том, что «Золотая цепь» задушит,
Он умирал средь райской красоты ,
Как царь морской, заброшенный на сушу.
И этот дом, что отдан в тёплый час,
И этот сад, укромный и тенистый,
Малы, как неожиданный рассказ
О вечной запоздалости амнистий.Здесь можно только лечь и умереть:
Творить нельзя на трёх квадратных метрах.
Гореть нельзя, а можно только тлеть
И тихо звать в окно порывы ветра.И может быть, Бегущей по волнам
Досталась честь забрать Его оттуда,
Чтоб рассказать прозревшим временам,
Как парус ал, блеснувший ниоткуда,Что миром правят дружба и любовь,
Что мир широк, блистающий под солнцем,
А день прекрасен, каждый и любой,
Пока он звёздной ночью не окончен.
Василий Толстоус, ДонецкДля чего я пытаюсь писать о Грине? Да нет, это не умная литературоведческая статья о писателе; я постараюсь сделать скромную «былинку» - памятник великому Мастеру, чтобы в наше отталкивающее книги время подарить читателю волшебную палочку, которая мгновенно перенесёт его в детство мечты или мечты-детства, что, по-моему, одно и то же. Шумело море, читали Грина. А море Чёрное - было синим. Солёный привкус. Солёный холод. Мой - морем надвое - мир расколот. Ирина Волкова, Иваново
Надо хорошо представлять себе время, в которое творил писатель: тяжёлая болезнь, революция, Гражданская война, голод, холод, безнадёга… Не сумел разыскать теперь, но много лет назад, когда я зачитывался Грином и даже книгами о нём, что несвойственно мальчишкам, глотающим книги в невероятных количествах. Так вот, в одной из них приводился документ времён Гражданской войны. А звучал он примерно так:
СПРАВКА
Дана настоящая Гриневскому Александру Степановичу в том, что он является сумасшедшим, что и удостоверяем. Просьба к рабоче-крестьянской власти на местах оказывать возможное содействие…Я гимназистом ножик перочинный менял на повесть Александра Грина, и снились мне гремучие пучины и небеса синей аквамарина. Я вырастал. На подбородке волос кололся, как упрямая щетина, и всё упорней хрипловатый голос искал и звал таинственного Грина. «О, кто ты, Грин, великий и усталый? Меня твоя околдовала книга! Ты - каторжник, ворочающий скалы, иль капитан разбойничьего брига?»
Изведав силу ласки и удара, я верил в то, что встретятся скитальцы. И вот собрат великого Эдгара мне протянул прокуренные пальцы! Он говорил размеренно и глухо, простудным кашлем надрывая глотку, и голубыми каплями сивуха по серому катилась подбородку. И грудью навалясь на стол тяжёлый, он говорил: «Сейчас мы снова юны… Так выпьем за далёкие атоллы, за Южный Крест и призрачные шхуны!»
Да! Хоть горда мечтателей порода, но Грин в слезах, и Грину не до шутки. С отребьем человеческого рода я пьянствую пятнадцатые сутки! Я вспоминаю старые обиды, - пускай писаки шепчутся: «Пьянчуга!» Но вижу я: у берегов Тавриды проносится крылатая фелюга. На ней я вижу собственное тело на третий день моей глухой кончины; оно уже почти окостенело в мешке из корабельной парусины.
Но под форштевнем пенится пучина. Бороться с ветром радостно и трудно. К архипелагу Александра Грина летит, качаясь, траурное судно! А облака - блестящи и крылаты, и ветер полон свежести и силы. Сергей Марков, +1979 В книжке, изданной в 1928 году, - «Писатели. Автобиографии и портреты современных русских прозаиков» под редакцией В. Г. Лидина - Грин пишет о себе короче и скромнее всех: «Я родился в Вятке в 1880 году, 11 августа; образование получил домашнее; мой отец, Степан Евсеевич Гриневский, служил в земстве, а в Вятку попал из Сибири, куда был в 63-м сослан за восстание в Польше. Моя мама - русская, уроженка г. Вятки, Анна Степановна, скончалась, когда мне было 11 лет.
В книжке, изданной в 1928 году, - «Писатели. Автобиографии и портреты современных русских прозаиков» под редакцией В. Г. Лидина - Грин пишет о себе короче и скромнее всех: «Я родился в Вятке в 1880 году, 11 августа; образование получил домашнее; мой отец, Степан Евсеевич Гриневский, служил в земстве, а в Вятку попал из Сибири, куда был в 63-м сослан за восстание в Польше. Моя мама - русская, уроженка г. Вятки, Анна Степановна, скончалась, когда мне было 11 лет.
Шестнадцати лет я уехал из Вятки в Одессу, где служил матросом в Р.О.П. и Торг. в Добровольном Флоте. Я проплавал так три года, затем вернулся домой и через год снова пустился путешествовать. После различных приключений я попал в 1906 году в Петербург, где напечатал первый свой рассказ в «Биржевых новостях» под названием «В Италию». …В Петрограде холодно, и вонь, и улыбки, брошенные криво. А издатель, душка и пузан, издаёт - как будто Бог прощает! В ресторане жареный сазан ничего душе не предвещает… И уплыл… И бились паруса. И закат сливался с парусами… Так сошлись Земля и Небеса. Кто - кого? Судите, люди, сами. Глеб Горбовский, СПб.
Всего мной написано и напечатано (считая ещё не вошедшие в книги) около 350 вещей».
А я припоминаю, что Грин - изумительно описавший моря и океаны - сделал матросом всего два каботажных рейса вдоль побережья Чёрного моря…
К биографии приложен портрет: Грин в партикулярном костюме, но в капитанской фуражке; он очень печален, очень… Ещё шесть лет жить ему на земле; он словно предчувствует камень недуга, который сведёт его в могилу в 52 года.НАБЕРЕЖНАЯ ГРИНА
Александр Степанович Грин!
Я сегодня к Вам. Пилигрим.
Замираю на вятской набережной,
Замеряю прищуром берег.
Я - романтик совсем не набожный -
Вам навеки останусь верен.
Это Вятка, а ветер невский -
пароходы легко покачивает,
где вы бегали здесь, Гриневский,
где фамилию укорачивали…
Жизнь была ненадёжным делом,
в сказку вы от неё ушли,
но над нами она свистела
пулевою судьбой земли.
Лагеря, душегубки, танки,
ленинградских детей глаза…
Вы простите, мы на портянки
рвали алые паруса.
Мы не сказкою душу грели -
лишь тоской о земле босой.
Чем могла нам помочь в то время
Ваша солнечная Ассоль?..Сдёрнув шапку, седой, вихрастый,
Ваше имя шепчу сейчас.
Как ты выжило в нас, Прекрасное,
как сумело остаться в нас?..
Сергей ДавыдовВ рассказе «Крысолов» есть слово, открывающее душу писателя: «В прежней моей комнате поселился инвалид, а ходить по учреждениям, хлопоча о комнате, я нравственно (выделено мной. - А.Р .) не умел». Безбытность - не только драма Грина, но и свобода возвыситься над бытом.
Почему-то считается, что художественное произведение должно дотягиваться до своего времени, в ином случае ему грозит забвение. Позволю сказать, есть и ещё долго будут пылиться на забытых полках вещи, до которых не дотянулось время. Александр Грин принят людьми, но пока до конца не понят. Сказки пишут для храбрых. Зачем равнодушному сказка? Что чудес не бывает, он знает со школьной скамьи. Для него хороша незаметная серая краска, он уверен: невзрачны на вид соловьи. Соловьи золотые. Их видело детство такими… Александр Коваленков, +1971. Вот и в статье Амлинского, написанной в «застойные» 80-е, писателя Грина используют, пытаясь изо всех сил втиснуть его в рамки соцреализма; видимо, в других статьях позднее из неистового мечтателя будут лепить образ российского «демократа». Но время смывает словесную шелуху, заставляя ещё вдали разглядеть сквозь непогоду алые паруса белоснежного корабля Надежды.
Александра Степановича Грина похоронили на следующий день после смерти, девятого июля 1932 года, в Старом Крыму. Кладбище находится на холме под названием Воронья Горка.У МОГИЛЫ АЛЕКСАНДРА ГРИНА
Есть городок в степном Крыму,
Где проросла лазурью глина.
Он пахнет солнцем, и к нему
меня влекут дороги Грина.Забыв друзей неправый суд,
Унылый звон грошей последних,
Нашёл приют укромный тут
Дождя и ветра собеседник. Что тесен домик - не беда,
Что тесен домик - не беда,
Зато душа вольна как птица.
Дарил он людям города,
Где может сбыться всё, что снится.Он города воздвигнул те,
За судьбы их готов ручаться,
В своей душе, в своей мечте
О полноте людского счастья.И пусть не знал он счастья сам,
Не расчислявший дни по срокам,
Мы верим алым парусам
Под ветром вольным и широким.Как у волшебного ключа,
Стою я у его могилы,
И на закате алыча
Шумит, как парус легкокрылый.
Николай Рыленков, +1969Только Грин мог написать: «Счастье сидело в ней пушистым котёнком…»
А отец Иоанн Миронов сказал о Грине: «Сумрачный человек…», возможно, имея в виду, что писатель своими сказками прятался от жестокого мира.
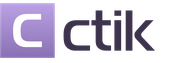










Молочный гречневый суп - простые рецепты на каждый день Как варить молочный суп с гречкой
Кулинарные рецепты и фоторецепты
Мидии маринованные: рецепты и секреты приготовления
Ленивая овсянка в банке: рецепты
Кулинарные рецепты и фоторецепты Пекинская капуста огурец болгарский перец