(I)Русская классическая литература - это не просто «литература первого класса» и не литература как бы «образцовая», ставшая классически безупречной благодаря своим высоким чисто литературным достоинствам.
(2)Все эти достоинства, конечно, есть в русской классической лите¬атуре, но это далеко не всё. (З)Эта литература обладает своим особым лицом, индивидуальностью, характерными дня неё признаками. (4)И я бы прежде всего отметил, что творцами русской классической литературы выступали авторы, обладавшие огромной общественной ответственностью. (5)Русская классическая литература не развлекательная, хотя увлекательность ей свойственна в высокой мере. (6)Эта увлекательность особого свойства: она определяется предложением читателю решать сложные нравственные и общественные проблемы - решать вместе, и aвтору и читателям. (7)Лучшие произведения русской классической литературы никогда не предлагают читателям готовых ответов на поставленные общественно ¬нравственные вопросы. (8)Авторы не морализируют, а как бы обращаются к читателям: «3адумайтесь!», «Решите сами!», «Смотрите, что происходит в жизни!», «Не прячьтесь от ответственности за всё и за всех!». (9)Поэтому ответы на вопросы даются автором вместе с читателями. (10)Русская классическая литература - это грандиозный диалог с народом, с его интеллигенцией в первую очередь. (11)Это обращение к совести читателей. . (12)Нравственно-общественные вопросы, с которыми русская классическая литература обращается к читателям, не временные, не сиюминутные, хотя они и имели особое значение для своего времени. (IЗ)Благодаря своей вечности вопросы эти имели такое большое значение для нас и будут его иметь для всех последующих поколений. (14)Русская классическая литература вечно живая, она не становится историей, историей литературы только. (15)Она беседует с нами, её беседа увлекательна, возвышает нас и эстетически, и этически, дела¬ет нас мудрее, преумножает нашу жизненную опытность, позволяет нам пережить вместе с её героями десять жизней, испытать опыт многих поколений и применить его в своей собственной жизни. (16)Она даёт нам возможность испытать счастье жить не только «за себя», но и за многих других - за «униженных и оскорбленных», за «маленьких людей», за безвестных героев и за моральное торжество высших человеческих качеств... (17)Истоки этого гуманизма русской литературы - в её многовековом развитии, когда литература становилась иногда единственным голосом совести, единственной силой, определявшей национальное самосознание русского народа, - литература и близкий ей фольклор. (18)Это было в пору феодальной раздробленности, в пору чужеземного ига, когда литература, русский язык были единственными связующими народ силами. (19)Мы ничего не должны растерять из нашего великого наследия. (20)Книжное чтение и почитание книжное должно сохранить и для нас, и для будущих поколений своё высокое назначение, своё высокое место в нашей жизни, в формировании наших жизненных позиций, в выборе этических и эстетических ценностей, в том, чтобы не дать замусорить наше сознание различного рода «чтивом» и бессодержательной, чисто развлекательной безвкусицей. (21)Суть прогресса в литературе состоит в расширении эстетических и идейных возможностей литературы, создающихся в результате эстетического накопления, накопления всяческого опыта литературы и расширения её «памяти». (Д. Лихачёв)
1.
Какое утверждение противоречит точке зрения автора? 1) Русская классическая литература стала фактом истории. 2) Увлекательность свойственна русской литературе. 3) Нравственно-общественные вопросы русской литературы вневременные. 4) В определённые исторические периоды русская литература была единственной силой, определяющей национальное самосознание русского народа. 2.
Определите стиль и тип текста. 1) художественный стиль; рассуждение 2) научный стиль; описание 3) публицистический стиль с элементами научно-популярного; рассуждение 4) научно-популярный стиль; рассуждение 3.
Какое слово содержит пренебрежительную оценку выражаемого им явленин? 1) замусорить 2) чтиво 3) морализировать 4) безвкусица 4.
Каким способом образовано слово безупречная
в предложении 1? 5.
Какой частью речи является слово благодаря
(предложение 13)? 6.
Из предложений 14 - 16 выпишите словосочетание(-я) с определительными отношениями, зависимое слово которого(-ых) связано с главным по типу примыкания. 7.
Определите, каким членом предложения является инфинитив пережить
(предложение 15). 1) сказуемое 2) дополнение 3) определение 4) обстоятельство 8.
Среди предложений 17- 21 найдите предложение с обособленным определением, имеющим однородные члены. Напишите номер этого предложения. 9.
Среди предложений 1 - 15 найдите сложноподчинённые предложения с придаточным уступительным. Напишите номера этих предложений. В7. Среди предложений 1 - 10 найдите предложение, которое связа¬но с предыдущим при помощи лексического повтора, местоимений.и вводного слова. Напишите номер этого предложения. (l)Kaкoe же зеркало жизни наш язык! (2)Нет, он поистине слпорой в безобраз
471 Такие высказывания ставят Островского в непосредственную близость с Белинским. Однако здесь еще возможны сомнения. Известную правомерность и естественность обличительного направления в русской литературе по-своему признавали и славянофилы. Огромное значение Гоголя для всего литературного движения 40-х годов тоже в определенном смысле не отрицали и славянофилы. Важным является содержание принципов, которые служили для обоснования этих признаний. Сличение идей Белинского и Островского необходимо продолжить.
В частности, особое внимание вызывает выделение Островским нравственной сферы как ближайшей и важнейшей области творческого художественного воспроизведения. Откуда у него возникло это подчеркнутое и настойчивое возведение литературных задач к вопросам нравственности?
Нельзя не заметить, что Островский, говоря об общественной функции литературы, особенно часто и настойчиво пользуется термином «нравственный». Связь искусства с общественной жизнью, по его взглядам, осуществляется в том, что «нравственная жизнь общества, переходя различные формы, дает для искусства те или другие типы, те или другие задачи». Русскую литературу, по его словам, отличает от всех иных ее «нравственный, обличительный характер». Далее, говоря о том, что правдивый художественный образ содействует преодолению прежних, несовершенных форм жизни и заставляет искать лучших, Островский прибавляет: «… одним словом, заставляет быть нравственнее». И далее все развитие мыслей о важности обличительного содержания в литературе он заканчивает замечанием: «Это обличительное направление нашей литературы можно назвать нравственно-общественным направлением»443*. В известном письме от 26 апреля 1850 года к В. И. Назимову о комедии «Свои люди - сочтемся» Островский пишет: «Согласно понятиям моим об изящном, считая комедию лучшею формою к достижению нравственных целей и признавая в себе способность воспроизводить жизнь преимущественно в этой форме, я должен был написать комедию или ничего не написать»444*. В статье о комедии 472 А. Жемчужникова «Странная ночь», говоря об общественной роли комедии, Островский все современное направление в литературе называет «нравственно-обличительным»445*. (Курсив мой. - А. С.).
Можно было бы подумать, что такое настойчивое словоупотребление и напоминание о нравственных функциях и задачах искусства было навеяно на Островского спецификой журнала «Москвитянин» с известными пристрастиями этого круга к вопросам нравственного совершенства. Однако это совсем не так. Вся система мыслей Островского говорят о том, что он и в этом случае шел за Белинским.
Вопросы общественной нравственности в передовой мысли 40-х годов имели огромный практический смысл. Вместо романтических или славянофильских построений абстрактных этических «идеалов», Белинским и Герценом интерес направлялся к тому, что в нравственной сфере существует как сила, действующая в быту, в подлинных практических отношениях между людьми. Зло крепостнической действительности открывалось не только в формах государственных и общественных отношений, но и в бытовых привычных интересах людей, в их понятиях о должном, в представлениях о собственном достоинстве, в особенностях бытового общения и в тех морально-бытовых «правилах», которые практически, ходом самой жизни, вырабатываются и осуществляются в массе, сказываясь в постоянных «житейских отношениях» (выражение Белинского).
Призывы Белинского к изучению и изображению «обыденности» во многом были призывами к пересмотру крепостнических традиций в области бытовой практической морали. Приступая к рассмотрению романа «Евгений Онегин», Белинский писал: «Чтоб верно изображать какое-нибудь общество, надо сперва постигнуть его сущность, его особность; а этого нельзя иначе сделать, как узнав фактически и оценив философски ту сумму правил, которыми держится общество. У всякого народа две философии: одна ученая, книжная, торжественная и праздничная, другая - ежедневная, домашняя, 473 обиходная. Часто обе эти философии находятся более или менее в близком соотношении друг к другу; и кто хочет изображать общество, тому надо познакомиться с обеими, но последнюю особенно необходимо изучить. Так точно, кто хочет узнать какой-нибудь народ, тот прежде всего должен изучить его - в его семейном, домашнем быту»446*.
От абстрактно-моральной точки зрения оценка значения порока Белинским решительно переносилась в социальный план. Нравственный кругозор или привычный кодекс «правил» Белинским рассматривался не замкнуто, не в индивидуально-моральной характеристике, не в абстрактно-теоретическом соотношении с произвольно понятым «идеалом», а в его практических следствиях, проявляющихся в живых, обиходных отношениях между людьми. «Так как сфера нравственности, - писал он, - есть по преимуществу сфера практическая, а практическая сфера образуется преимущественно из взаимных отношений людей друг к другу, то здесь-то, в этих отношениях, - больше нигде, - должно искать примет нравственного или безнравственного человека, а не в том, как человек рассуждает о нравственности, или какой системы, какого учения и какой категории нравственности он держится» (VII, 392).
Белинский по разным поводам останавливался на выяснении практически-жизненной роли нравственных понятий, на их зависимости от условий общественной среды и от общего состояния культуры. В прогрессивном росте нравственного общественного кругозора усматривался залог лучшего будущего. «Зло скрывается не в человеке, но в обществе; так как общества, принимаемые в смысле формы человеческого развития, еще далеко не достигли своего идеала, то не удивительно, что в них только и видишь много преступлений. Этим же объясняется и то, почему считавшееся преступным в древнем мире считается законным в новом, и наоборот: почему у каждого народа и каждого века свои понятия о нравственности, законном и преступном» (VII, 466).
В задачах, какие ставились перед литературой, Белинским выделялись общественно-воспитательные цели.
474 В определении положительной роли литературы в жизни общества он указывал на ее нравственно-возвышающее значение. «Литература, - писал Белинский, - была для нашего общества живым источником даже практических нравственных идей» (IX, 434). Литература действует «не на одно образование, но и на нравственное улучшение общества… Все наши нравственные интересы, вся духовная жизнь наша сосредоточивалась… исключительно в литературе: она живой источник, из которого просачиваются в общество все человеческие чувства и понятия» (IX, 435 – 436).
В трактовке общественных пороков Белинский в первую очередь считал важным раскрыть их укорененность в моральных «правилах», по условиям жизни выработавшихся и принятых в данной среде. В заслугу художнику он ставил его способность открыть и указать порок там, где он сам себя не замечает.
Положительную особенность сатиры Кантемира и его продолжателей Белинский усматривал в том, что она раскрывала недостатки русской жизни, «которые она застала в старом обществе не как пороки, но как правила жизни, как моральные убеждения» (IX, 434).
Говоря о Гоголе, Белинский выделял его заслугу в изображении порока не как злодеяния, а как следствия общих нравственных убеждений и настроений соответствующей среды. Обличение тем самым направлялось на общие привычные и ходовые моральные нормы, которые порождались и внушались всем обиходом крепостнической действительности. «Но заметьте, что в нем это не разврат, - писал он о городничем, - а его нравственное развитие, его высшее понятие о своих объективных обязанностях: он муж, следовательно, обязан прилично содержать жену; он отец, следовательно, должен дать хорошее приданое за дочерью, чтобы доставить ей хорошую партию и, тем устроив ее благосостояние, выполнить священный долг отца. Он знает, что средства его для достижения этой цели грешны перед богом, но он знает это отвлеченно, головою, а не сердцем, и он оправдывает себя простым правилом всех пошлых людей: “Не я первый, не я последний, все так делают”. Это практическое правило жизни так глубоко вкоренено в нем, что обратилось в правило нравственности» (III, 453).
Порочность определяется Белинским не столько по степени дурной моральной настроенности ее носителя, 475 сколько по степени вреда, какой наносится практическим поведением человека, безразлично, с какой моральной настроенностью это поведение соединяется. «Теперь мы убедились, - пишет Белинский, - что лицемерить и нелицемерно любить ложь равно вредно, что умышленно противоборствовать истине и неумышленно преследовать ее есть одинаковое зло. Трудно даже решить, отчего больше проигрывает общество: от злобы ли злых людей или от равнодушия, тупости, неповоротливости, односторонности, кривосмотрения людей по природе добрых, которые ни рыба ни мясо»447*.
В другом месте по поводу романов Вальтера Скотта Белинский писал: «В его романах вы видите и злодеев, но понимаете, почему они - злодеи, и иногда интересуетесь их судьбой. Большею же частью в романах его вы встречаете мелких плутов, от которых происходят все беды в романах, как это бывает и в самой жизни. Герои добра и зла очень редки в жизни; настоящие хозяева в ней - люди середины, ни то ни се» (VI, 35).
В отзыве о романе «Кто виноват?» Белинский подчеркнул, что выводимые автором лица «люди не злые, даже большею частью добрые, которые мучат и преследуют самих себя и других чаще с хорошими, нежели с дурными намерениями, больше по невежеству, нежели по злости» (X, 325).
В самих нравственных понятиях, для большинства привычных и беззлобных, образовавшихся в условиях давней традиции крепостничества, Белинский и Герцен указывали бесконечные источники преступлений против личности. Смысл романа «Кто виноват?» Белинский определил как «страдание, болезнь при виде непризнанного человеческого достоинства, оскорбляемого с умыслом, и еще больше без умысла…» (X, 323).
В статье «Капризы и раздумье», сочувственно цитированной Белинским, Герцен писал: «Добрейший человек в мире, который не найдет в душе жестокости, чтобы убить комара, с великим удовольствием растерзает Доброе имя ближнего на основании морали, по которой он сам не поступает…», «Мещанин во дворянстве очень Удивился, узнавши, что он сорок лет говорит прозой, - мы хохочем над ним; а многие лет сорок делали злодеяния 476 и умерли лет восьмидесят, не зная этого, потому что их злодеяния не подходили ни под какой параграф кодекса»448*.
Герцен приглашал ввести микроскоп в нравственный мир, «рассмотреть нить за нитью паутину ежедневных отношений», «подумать о том, что <люди> делают дома», о «будничных отношениях, обо всех мелочах, к которым принадлежат семейные тайны, хозяйственные дела, отношения к родным, близким, присным, слугам», присмотреться к слезам жен и дочерей, отдающих себя в жертву по принятой нравственной обязанности.
Все это звало к изучению бытовой обиходной морали, наполняющей и по-своему регулирующей жизнь огромной массы людей; все это требовало от литературы живого вмешательства в ходячие моральные представления с тем, чтобы послужить их исправлению и возвышению, осветить крепостническую неправду требованиями справедливости и разума.
В литературно-теоретических взглядах и в собственной художественной практике Островский следует этому призыву.
В оправдание обличительного и общественно-воспитательного направления в литературе Островский останавливается на изменяемости нравственных идеалов, указывая при этом на последовательное совершенствование нравственных представлений в зависимости от общего прогресса в культуре человечества. Представления о величии и героизме или о низости и слабости человека Островский соотносит с нравственными понятиями определенного исторического времени. Оценочно возвышающий или осуждающий свет, в каком выступают человеческие качества в разных литературных произведениях в понимании Островского является результатом нравственного кругозора и морального уровня эпохи и среды. Его внимание привлечено к таким фактам литературной истории, где с наибольшей ясностью выступает переменчивость морально-оценочных представлений и где определившаяся временем недостаточность нравственных понятий компенсируется их дальнейшим историческим ростом и возвышением.
477 Островский напоминает, что герои греческой древности Ахилл и Одиссей для последующего времени во многом утрачивают свой ореол. С другой стороны, бесспорное для нового времени величие Сократа было не понято современниками и осмеяно Аристофаном. Доблесть средневекового рыцаря по своему нравственному уровню для последующего времени оказывалась неприемлемой, а по своей практической неприложимости стала смешной и вызвала в конце концов комический образ Дон-Кихота.
«Древность, - пишет Островский, - чаяла видеть человека в Ахилле и Одиссее и удовлетворялась этими типами, видя в них полное и изящное соединение тех определений, которые тогда выработались для человека и больше которых древний мир не успел еще заметить ничего в человеке; с другой стороны, легкая и изящная жизнь афинская, прикидывая Сократа на свой аршин, находила его лицом комическим. Средневековый герой был рыцарь, и художество того времени успело изящно соединить в представлении человека христианские добродетели с зверским ожесточением против ближнего. Средневековый герой идет с мечом в руках водворять кроткие евангельские истины; для него праздник не полон, если среди божественных гимнов не раздаются из пылающих костров вопли невинных жертв фанатизма. При другом воззрении тот же герой сражается с баранами и мельницами»449*.
Мысль об исторической относительности нравственных понятий, взгляд на литературный тип как на отражение идейного духа эпохи, оценка разных этических идеалов в свете их исторической принадлежности - все это перекликается с Белинским. Нельзя не заметить, что примеры, какие привлекает Островский из литературы прошлого, Ахилл и Одиссей, Сократ и Аристофан, средневековое рыцарство и Дон-Кихот, были и для Белинского постоянными примерами к общей мысли об изменении нравственных идеалов в истории человечества.
Для своего времени, писал Белинский, Ахилл и Одиссей, вместе с другими героями «Илиады» и «Одиссеи», были «полными представителями национального духа» Древней Греции. Ахилл - «герой по преимуществу, 478 с головы до ног облитый нестерпимым блеском славы, полный представитель всех сторон духа Греции, достойный сын богини» (V, 38). «Одиссей - представитель мудрости в смысле политики» (V, 38; ср. V, 325 – 326; VI, 20; VI, 589). При воззрениях нового времени внутренняя ценность их героизма упала. По новым понятиям, героические заслуги Ахилла снижаются уже тем, что подвиги свои он совершает лишь благодаря чудесной помощи богини Афины, хотя, по понятиям своего времени, для Ахилла в этом ничего умаляющего не заключалось (X, 388 – 389). Самое содержание морального воодушевления Ахилла во многом для современного человека не показалось бы высоким. «Если бы, - писал Белинский, - в наше время какой-нибудь воин стал мстить за падшего в честном бою друга или брата своего, зарезывая на его могиле пленных врагов, - это было бы отвратительным, возмущающим душу зверством; а в Ахилле, умиляющем тень Патрокла убийством обезоруженных врагов, это мщение - доблесть, ибо оно выходило из нравов и религиозных понятий общества его времени» (VI, 589).
То же и об Одиссее как о герое. «Одиссей есть апофеоза человеческой мудрости; но в чем состоит его мудрость? В хитрости, часто грубой и плоской, в том, что на нашем прозаическом языке называется “надувательством”. И между тем в глазах младенческого народа эта хитрость не могла не казаться крайнею степенью возможной премудрости» (V, 34).
Говоря о Сократе, Белинский особенно выдвигал мысль о том, что его судьба сложилась столь печально не от особо дурных качеств его врагов, а от тех отсталых понятий, с которыми столкнулась мудрость Сократа и которые были общей принадлежностью времени. «Палачи его, афиняне, - писал Белинский, - нисколько не были ни бесчестны, ни развратны, хотя они и погубили Сократа». В частности, Аристофан, осмеявший Сократа в комедии «Облака», нисколько не был ниже уровня нравственности своего времени. «Оставим в стороне наши добрые и невинные учебники и скажем прямо, что с понятием об Аристофане должно соединяться понятие о благороднейшей и нравственнейшей личности». Виноват он был лишь в том, что он разделял общие предрассудки своего времени и, видя «падение поэтических верований гомерической Эллады», «думал помочь 479 горю, защищая старину против нового, осуждая новое во имя старого и приняв охранительное, оппозиционное положение в отношении к движительному действованию Сократа» (XIII, 132). Отсталые и неверные понятия, препятствующие прогрессу, для Белинского были страшнее злой воли отдельных людей.
В том же соотносительном несовпадении старого и нового освещался Белинским и образ Дон-Кихота. Дон-Кихот «смешон именно потому, что он анахронизм». Рыцарственность средних веков «с ее восторженными понятиями о чести, о достоинстве привилегированной крови, о любви, о храбрости, о великодушии, с ее фанатическою и суеверною религиозностью» оказалась неприложимой к условиям нового времени и вызвала против себя реакцию в лице Дон-Кихота (VI, 613). «А что такое Дон-Кихот? - Человек, вообще умный, благородный, с живою и деятельною натурою, но который вообразил, что ничего не стоит в XVI веке сделаться рыцарем XII века - стоит только захотеть» (VII, 123; ср. VI, 33 – 34).
В поступательном развитии нравственных понятий морально преобразующее значение литературы как для Белинского, так и для Островского мыслилось в том, что она помогает замене старых обветшалых представлений новыми, более широкими и более достойными человека как разумного существа. «Публика ждет от искусства, - писал Островский, - облечения в живую, изящную форму своего суда над жизнью, ждет соединения в полные образы подмеченных у века современных пороков и недостатков… И художество дает публике такие образы и этим самым поддерживает в ней отвращение от всего резко определившегося, не позволяет ей воротиться к старым, уже осужденным формам, а заставляет… быть нравственнее»450*.
Обращение к изображению действительности, признание общественных обличительно-воспитательных целей искусства, стремление к бытовой правде, желание понять и показать человека в типичных обстоятельствах и условиях его среды, внимание к нравственным понятиям, 480 существующим в практических бытовых отношениях между людьми, - все это во многом объясняет и характеризует творчество Островского в его идейной близости к Белинскому. Но все это пока еще касается лишь общих предпосылок и не открывает ближайшей проблематической заинтересованности писателя, той заинтересованности, которая видит волнующие противоречия жизни, раскрывает столкновение противоположных сил или стремлений, рождает гнев, сожаление или радость, распределяет оценочный свет по всем фактам и в конце концов определяет сложение пьесы в ее конфликте и движении.
Эта главная, центральная определяющая и направляющая заинтересованность у Островского состояла в его постоянном внимании к личности человеческой, стесненной в удовлетворении своих естественных светлых и лучших запросов.
Пересмотр бытовых отношений с точки зрения высшей гуманности в наибольшей мере включает Островского в идейную специфику 40-х годов, связывая его с той линией передовой мысли, которая создавалась Белинским и Герценом.
В противовес крепостническому порабощению личность человека провозглашалась Белинским и Герценом основным мерилом всех оценок. Во имя личности в области философии заявлялся протест против гегелевского фатализма, подчиняющего личность абстрактному всеобщему «объективному духу». Во имя личности производилась переоценка всех моральных норм. Во имя личности крепостного крестьянина подвергались суду усадебные помещичьи порядки. Пересмотр угнетающих традиций в семейных нравах и критика всех форм бюрократического подчинения тоже осуществлялись во имя личности.
Всюду ставился вопрос об угнетении. В передовом идейном движении этих лет раскрывались и развивались задачи, суммированные Белинским в письме к В. Боткину от 15 января 1841 года: «Вообще все общественные основания нашего времени требуют строжайшего пересмотра и коренной перестройки, что и будет рано или поздно. Пора освободиться личности человеческой, и без того несчастной, от гнусных оков неразумной действительности» (XII, 13).
В художественной литературе критика действительности 481 направлялась в защиту угнетенного «маленького человека». Зло крепостнической жизни всюду воспроизводилось на примерах печальной судьбы угнетенной и страдающей личности. В этом состояло главное идейное новаторство передовой литературы 40-х годов. В «Станционном смотрителе» Пушкина, в «Шинели» Гоголя было этому лишь намечено начало. Широкое развитие эта тема могла получить только в 40-х годах в результате общего антикрепостнического идейного движения, выразившегося в защите прав угнетенной личности.
В изображении порочных сторон русской действительности центр тяжести был перенесен от внутренней анатомии самого порока к его действенным результатам и последствиям для окружающих. В «Деревне» и «Антоне Горемыке», в рассказах Тургенева и стихотворениях Некрасова, в романе «Кто виноват?» и повести «Сорока-воровка» Герцена, в «Запутанном деле» Салтыкова изображены не только пустота, духовная ограниченность, сытая, скучающая барственность, но и судьба людей, которые зависят и страдают от них. Проявления духовной ограниченности, пошлости, моральной тупости и мелкого эгоизма во всякой среде вызывают интерес по их действию на жизнь и человеческое достоинство обиженных людей. В этом направлении менялся весь писательский кругозор.
В связи с развитием крестьянского освободительного движения в передовой мысли 40-х годов многое в русской действительности, существовавшее и раньше, становится впервые зримым и заметным.
Устанавливается новый принцип критики действительности. Наблюдение над жизнью регулируется новым акцентом творческого внимания сообразно иной общей познавательной и практической задаче. Развивается восприимчивость ко всяким формам угнетения личности и в том числе к тем крепостническим моральным представлениям, которые содержали источники и оправдание насилия и пренебрежения к человеку.
В упомянутой выше статье Герцена «Капризы и раздумье» имеется этюд, который прекрасно показывает новый исходный принцип в наблюдениях над жизнью, когда в самом процессе наблюдения изучающий интерес от носителей порока перемещается к их жертвам. Сказав о необходимости и важности изучения «семейных отношений», о дикости и тупости домашних нравов, 482 о темноте и преступности обиходных нравственных понятий, Герцен заключает это так: «Когда я хожу по улицам, особенно поздно вечером, когда все тихо, мрачно и только кое-где светится ночник, тухнущая лампа, догорающая свеча, - на меня находит ужас: за каждой стеной мне мерещится драма, за каждой стеной виднеются горячие слезы - слезы, о которых никто не ведает, слезы обманутых надежд, - слезы, с которыми утекают не одни юношеские верования, но все верования человеческие, а иногда и самая жизнь. Есть конечно, дома, в которых благоденственно едят и пьют целый день, тучнеют и спят беспробудно целую ночь, да и в таком доме найдется хоть какая-нибудь племянница, притесненная, задавленная, хоть горничная или дворник, а уж непременно кому-нибудь да солоно жить»451*.
То, что было говорено о порочности русской жизни Гоголем, нисколько не утрачивало актуальности, но при новых задачах требовало пополнения.
Гоголя продолжали, развивали, заостряли и проясняли в том, что у него было неясного или недосказанного в гуманистических выводах.
Досказывание Гоголя в этом направлении было начато Белинским. Белинский вполне отдавал отчет в «недоговоренности» гоголевской сатиры и иногда, сколько было возможности по условиям цензуры, приоткрывал тот перспективный план, в котором должны были мыслиться не только комические фигуры порока, но и его трагические жертвы.
В отзыве о «Современнике», №№ 11 и 12 (1838), Белинский, объясняя важность ярких, художественно-типических подробностей, дает такой пример. «Помните ли вы, - обращается он с вопросом к читателю, - как майор Ковалев ехал на извозчике в газетную экспедицию и, не переставая тузить его кулаком в спину, приговаривал: “Скорей, подлец! скорей, мошенник!” И помните ли вы короткий ответ и возражение извозчика на эти понукания: “Эх, барин!” - слова, которые приговаривал он, потряхивая головой и стегая вожжой свою лошадь?.. Этими понуканиями и этими двумя словами “Эх барин!” вполне выражены отношения извозчиков к майорам Ковалевым» (III, 53).
483 В статье о «Горе от ума» (1840), раскрывая сущность комического в «Ревизоре», Белинский не забыл упомянуть о том, какие трагические возможности заключены в смешных страстишках действующих лиц этой пьесы.
На основе комических мечтаний гоголевского городничего о генеральстве Белинский указал, какие последствия могут возникать от подобных начальственных поползновений. «В комедии есть свои страсти, источник которых смешон, но результаты могут быть ужасны. По понятию нашего городничего, быть генералом - значит видеть перед собой унижение и подлость от низших, гнести всех негенералов своим чванством и надменностью: отнять лошадей у человека нечиновного или меньшего чином, по своей подорожной имеющего равное на них право; говорить братец и ты тому, кто говорит ему ваше превосходительство и вы, и проч. Сделайся наш городничий генералом - и, когда он живет в уездном городе, горе маленькому человеку, если он, считая себя “не имеющим чести быть знакомым с г. генералом”, не поклонится ему или на балу не уступит места, хотя бы этот маленький человек готовился быть великим человеком!.. Тогда из комедии могла бы выйти трагедия для “Маленького человека”» (III, 468).
Возражая против идиллического истолкования «Мертвых душ» славянофилами, Белинский писал: «Константин Аксаков готов находить прекрасными людьми всех изображенных в ней героев… Это, по его мнению, значит понимать юмор Гоголя… Что бы он ни говорил, но из тона и изо всего в его брошюре видно, что он в “Мертвых душах” видит русскую “Илиаду”44. Это значит понять поэму Гоголя совершенно навыворот. Все эти Маниловы и подобные им забавны только в книге, в действительности же избави боже с ними встречаться, - а не встречаться с ними нельзя, потому что их таки довольно в действительности, следовательно, они представители некоторой ее части». Далее Белинский формулирует общий смысл «Мертвых душ» в собственном понимании: «… истинная критика должна раскрыть пафос поэмы, который состоит в противоречии общественных форм русской жизни с ее глубоким субстанциональным началом…» И далее ставит известный ряд вопросов, из которых каждый, исходя из комического факта поэмы, наводит на мысли о трагических сторонах русской жизни, какие предполагаются этим 484 фактом: «Отчего прекрасную блондинку разбранили до слез, когда она даже не понимала, за что ее бранят» и проч. И затем заканчивает: «Много таких вопросов можно выставить. Знаем, что большинство почтет их мелочными. Тем-то и велико создание “Мертвые души”, что в нем сокрыта и разанатомирована жизнь до мелочей, и мелочам этим придано общее значение. Конечно, какой-нибудь Иван Антонович, кувшинное рыло, очень смешон в книге Гоголя и очень мелкое явление в жизни; но если у вас случится до него дело, так вы и смеяться над ним потеряете охоту, да и мелким его не найдете… Почему он так может показаться важным для вас в жизни - вот вопрос!» (VI, 430 – 431).
В западной и в либеральной отечественной публицистике много наговорено о русском варварстве и жестокости на фоне европейской цивилизованности и добродетельности. Но если сравнить нравственные идеалы и реальную жизнь народов, то возникает другая картина. В русском языческом пантеоне не было бога войны, в то время как у европейских народов в дохристианских религиозных представлениях понятие о воинственном божестве доминировало, а весь эпос выстроен вокруг тем войн и завоеваний. Интересны в этом смысле материалы, приведенные Виктором Калугиным в статье «Идеалы русского эпоса». Во французской поэме «Песня о Роланде» повествуется о крестовых походах и кровавых сражениях с иноверцами:
Пусть синагоги жгут, мечети валят.
Берут они и ломы, и кувалды,
Бьют идолов, кумиры сокрушают,
Чтоб колдовства и духу не осталось.
Ревнует Карл о вере христианской,
Велит он воду освятить прелатам
И мавров окрестить в купелях наспех,
А если кто на это не согласен,
Тех вешать, жечь и убивать нещадно.
Насильно крещены сто тысяч мавров.
Русские войны велись в защиту правой веры, «тем не менее темы религиозной ненависти и религиозной мести в русском народном эпосе попросту нет » (В. Калугин). Русский человек после победы над иноверцами никогда не стремится насильственно обратить их в свою веру, тем более «наспех». В былине «Илья Муромец и Идолище» русский богатырь освобождает Царьград от «поганого Идолища», но отказывается быть воеводою города и возвращается на родину. В средневековом европейском эпосе цель крестовых походов – «кто не убит в бою, тот окрещен», для чего рыцарь готов «вешать, жечь и убивать нещадно». Таким образом, «основная мысль былин и древнерусских летописных воинских повестей – освобождение , рыцарских хроник – завоевание , крещение иноверцев. Тема религиозной войны полностью отсутствует в русском эпосе, точно так же как отсутствуют темы религиозной или расовой непримиримости, вражды» (В. Калугин).
В древнерусской литературе отсутствует тема обогащения при завоеваниях, разбоя, в то время как сюжеты на эту тему распространены в западноевропейской литературе. Призыв «Песни о Сиде»: «Нападайте дерзко, грабьте проворно… Грабя врагов, разоряя всю область». Борьба за дележ добычи, боязнь оказаться обделенным, не получить свою долю оказываются определяющими во всех подвигах Сида. Герои «Песни о нибелунгах» одержимы поиском зарытого клада – золота Рейна. Главный герой древней английской поэмы «Беовульф» погибает, «насытив зренье игрой самоцветов и блеском золота… В обмен на богатства жизнь положил я». Ни одному из героев русского эпоса не приходит в голову «жизнь положить в обмен на богатства». Более того, Илья Муромец не способен принять откуп, предлагаемый разбойниками, – «золотой казны, платья цветного и коней добрых, сколько надобно». Он не сомневаясь отвергает путь, где «богату быть», но добровольно испытывает дорогу, где «убиту быть».
«Нет в русском эпосе и такого традиционного императива (всеобщего обязательного нравственного закона, которому подчинены все действия героя), как кровавая месть . “Старшая Эдда”, “Песнь о нибелунгах”, исландские саги, ирландский эпос, сказания о нартах и многие другие национальные эпопеи основаны на долге мести за убитого родича, за честь рода. В русском эпосе – не только в эпосе, но и в сказках, легендах, песнях, пословицах, поговорках – долг личной или родовой чести не имеет ничего общего с долгом личной или родовой мести. Понятие мести как таковое вообще отсутствует в русском фольклоре, оно как бы изначально не заложено в “генетическом коде” народа… Главные герои русского эпоса обычно предстают крестовыми братьями, побратимами… Изначально сам обычай побратимства и кровного братства был самым непосредственным образом связан с кровной местью, не случайно и сама клятва скреплялась символическим смешением крови. Становясь братьями по крови, побратимы брали на себя все обязательства выполнения прежде всего кровной мести. Ничего подобного нет в русском народном эпосе. Идея ратного побратимства имеет здесь совершенно иное значение и связана только с обычаями крестного братства как помощи в беде, в болезни, в бою, а не мести и не отмщения» (В. Калугин).
В целом русскому народному эпосу более свойственны понятия о добродетели и целомудрии, чем западноевропейскому. В нем нет «натуралистических подробностей в описаниях битв, того, как “отделяется хребет спинной”, как копьем “пронзают утробу”, как меч Роланда рассекает у противника “подшлемник, кудри, кожу”, проходит “меж глаз середкой лобной кости” и выходит “через пах наружу снова”, как вылезают на землю “мозги врага”, как сам Роланд видит, что смерть его близка, что у него “мозг начал вытекать”, как затем из раны “наземь вывалился мозг”. Невозможно себе представить русских богатырей, пьющих кровь врага, как это делают рыцари-бургунды в “Песне о нибелунгах”: “И к свежей ране трупа припал иссохшим ртом. Впервые кровь он пил и все ж доволен был питьем”. Ничего подобного нет ни в одной русской былине» (В. Калугин).
Идеалы русского эпоса больше соответствуют христианским нормам. Между идеалами и жизнью всегда существует дистанция, но народ ориентируется на идеальные нормы и судит себя по ним. Не случайно так плодотворно было принятие христианства: на Руси через век была процветающая православная культура. Православие – религия любви и совести – пробуждало совесть и побуждало к взыскательному нравственному самоконтролю. «Вообще не интерес составляет главную пружину, главную двигательную силу русского народа, а внутреннее нравственное сознание, медленно подготовляющееся в его духовном организме, но всецело охватывающее его, когда настанет время для его внешнего практического обнаружения и осуществления» (Н.Я. Данилевский). Шкалой ценностей и основной жизненной мотивацией русского человека является идеал сам по себе. У западного же человека доминирует достижение индивидуальных жизненных интересов.
Русские в целом грешили меньше европейцев, а каялись больше . При всех исторических испытаниях уровень их общественной нравственности во все века, а временами и уровень правосознания был выше европейского. «Пытка отменена в России тогда, когда она существовала почти во всех судах Европы, когда Франция и Германия говорили об ней без стыда и полагали ее необходимою для отыскания и наказания преступников» (А.С. Хомяков). На Русской земле невозможно представить реестр индульгенций , указывающий, за какие провинности и в каких размерах взимаются штрафы с монахов и монахинь, за какое количество незаконнорожденных детей аббатиса подвергается обложению налогом. На Руси не приходилось сводом законов и денежными штрафами пресекать разврат в монастырях, как это практиковалось в католической Европе. В Италии эпохи Возрождения «священнослужители содержат мясные лавки, кабаки, игорные и публичные дома, так что приходится неоднократно издавать декреты, запрещающие священникам “ради денег делаться сводниками проституток”, но все напрасно. Монахи читают “Декамерон” и предаются оргиям, а в грязных стоках находят детские скелеты как последствия этих оргий. Тогдашние писатели сравнивают монастыри то с разбойничьими вертепами, то с непотребными домами… В церквах пьянствуют и пируют, перед чудотворными иконами развешаны по обету изображения половых органов, исцеленных этими иконами. Францисканские монахи изгоняются из города Реджио за грубые и скандальные нарушения общественной нравственности, позднее за то же из этого же города изгоняются и доминиканские монахи» (А.Ф. Лосев). Ничего близкого не было в русской церковной жизни.
Невозможно представить, чтобы православный митрополит или патриарх предавались таким порокам, какие были распространены в средневековом Ватикане, или вообразить распущенность нравов в высшем духовенстве, распространенную при папском дворе: «Папа Александр VI, будучи кардиналом, имел четырех незаконных детей… а за год до своего вступления на папский престол, уже будучи 60 лет, вступил в сожительство с 17-летней, от которой вскоре имел дочь… Современники сообщают также, что он сожительствовал со своей дочерью Лукрецией, которая также была любовницей своего брата Цезаря, и что эта Лукреция родила ребенка не то от отца, не то от брата. Имели незаконных детей также и папы Пий II, Иннокентий VIII, Юлий II, Павел III; все они – папы-гуманисты, известные покровители возрожденческих искусств и наук» (А.Ф. Лосев).
Увеселительные празднества с отравлениями в виде десерта – обыденное явление при папском дворе. «Нередко по политическим соображениям высшими духовными лицами, кардиналами и епископами, назначаются несовершеннолетние дети» (А.Ф. Лосев).
Еще один пример европейской «цивилизованности». Балтазар Косса, живший в XV веке, в юности был пиратом, разбойником, затем принял духовный сан и, наконец, стал папой Иоанном XIII. О нравственном обращении речи не было, страсть к женщинам в нем не ослабевала. Для увеличения ватиканской казны он установил тарифы на индульгенции: за убийство матери или отца – 1 дукат, за убийство жены – 2 дуката, за жизнь священника – 4, епископа – 9, за прелюбодеяние – 8, а скотоложство – 12 дукатов. Собор епископов вынужден был низложить такого папу, но он все же был оставлен епископом. При всех жестокостях средневековых нравов на Руси подобное невозможно представить. Так же, как немыслима на Руси и европейская распущенность епископата – тайная и явная.
Если таковыми были нравы высшего духовенства, то можно себе представить уровень морали европейского светского общества. «В Риме в 1490 году насчитывалось 6800 проституток, а в Венеции в 1509 году их было 11 тысяч… Неаполитанский король Ферранте (1458–1494)… внушал ужас всем своим современникам. Он сажал своих врагов в клетки, издевался над ними, откармливал их, а затем отрубал их головы и приказывал засаливать их тела… Этот Ферранте отравлял в венецианских церквах чаши со святой водой, чтобы отомстить венецианской сеньории, предательски убивал нередко прямо за своим столом доверившихся ему людей и насильно овладевал женщинами» (А.Ф. Лосев). Подобными описаниями пестрят европейские хроники Возрождения, в то время как в русской истории невозможно обнаружить ничего подобного.
Русским свойственна деликатность к другим и требовательность к себе, самокритичность. «Способность отрешиться на время от почвы, чтоб трезвее и беспристрастнее взглянуть на себя, есть уже сама по себе признак величайшей особенности… В русском человеке видна самая полная способность самой здравой над собой критики, самого трезвого на себя взгляда и отсутствие всякого самовозвышения, вредящего свободе действия» (Ф.М. Достоевский). Самокритичность русских людей нередко бывает гипертрофированной. «Народ наш с беспощадной силой выставляет на вид свои недостатки и пред целым светом готов толковать о своих язвах, беспощадно бичевать самого себя; иногда даже он несправедлив к самому себе – во имя негодующей любви к правде, истине» (Ф.М. Достоевский). С Достоевским солидарен современный автор: «Всякий настоящий русский, если только он не насилует собственной природы, смертельно боится перехвалить свое – и правильно делает, потому что ему это не идет. Нам не дано самоутверждаться – ни индивидуально, ни национально – с той как бы невинностью, как бы чистой совестью, с тем отсутствием сомнений и проблем, как это удается порой другим. Но русские эксцессы самоиронии, “самоедства”, отлично известные из всего опыта нашей культуры, тоже опасное искушение» (С.С. Аверинцев).
Многие «чудовищные» факты русской истории являются таковыми потому, что так их оценило нравственное чувство народа и такую их оценку сохранила народная память. В Европе было больше злодеяний, но там они не воспринимались как что-то из ряда вон выходящее. Можно представить, какую мораль внедряла святая инквизиция: «Секретность расследования дел еретиков, почти полное отсутствие каких-нибудь точно соблюдаемых правил судопроизводства, беспощадное отношение к подсудимым, конфискация имущества подсудимых и их родственников, пытки и жесточайшие наказания вплоть до сожжения на костре, полная неподчиненность не только светским, но даже и церковным правителям, фантастические преувеличения совершенных преступлений, которые никогда не совершались, крайняя мнительность и придирчивость инквизиторов, их патологическая подозрительность – все это раз навсегда заклеймило инквизиционные суды эпохи Ренессанса» (А.Ф. Лосев).
В 1568 году инквизиция осудила на смерть большинство жителей Нидерландов. Примерно в это же время саксонский судья Карпцоф казнил в Саксонии 20 тысяч человек. За 150 лет до конца XVI века в Испании, Италии и Германии было сожжено 30 тысяч ведьм. В «гуманной» и «просвещенной» Европе такие явления были сплошь и рядом, при этом европейцы считали себя наиболее просвещенными и гуманными – с как бы невинностью, как бы чистой совестью, с отсутствием сомнений и проблем. «При самом жестоком царе Иване IV, как точно установлено новейшими исследованиями, в России было казнено от трех до четырех тысяч человек, а при короле Генрихе VIII, правившем в Англии (1509–1547)… только за “бродяжничество” было повешено 72 тысячи согнанных с земли в ходе так называемых “огораживаний” крестьян» (В.В. Кожинов). Для русского исторического нравственного самосознания Грозный явился тираном, в европейской истории Генрих VIII действовал по закону. Непредвзятый взгляд западного ученого вынуждает прийти к выводам, что на Руси «распущенность была, по меньшей мере, частично, западной природы. Если говорить о водке и венерических болезнях, двух главных проклятиях России в конце XV и начале XVI веков, то они представляются сомнительным наследием, которое итальянский Ренессанс завещал молодой России» (Д.Х. Биллингтон).
В XVIII веке в России на несколько десятилетий была отменена смертная казнь. Вот как заканчивается столетие в просвещенной Франции: «Гильотина и “рота Марата” в вязаных колпаках работают без отдыха, гильотинируют маленьких детей и стариков… Революционный трибунал и военная комиссия, находящиеся там, гильотинируют, расстреливают… в канавах площади Терро течет кровь; Рона несет обезглавленные трупы… 12 тысяч каменщиков вытребованы из окрестностей, чтобы срыть Тулон с лица земли… 90 священников были утоплены депутатом Каррье в Лувре… Женщин и мужчин связывают вместе за руки и за ноги и бросают в реку» (Т. Карлейль). Это годы революции, которую французы до сих пор называют «Великой», нравственно оправдывая ее зверства. «В 1826 году в России были повешены пять декабристов, а позднее, в 1848 году, во Франции были расстреляны за бунт против закрытия “национальных мастерских” 11 тысяч (!) из потерявших средства к существованию и потому восставших рабочих» (В.В. Кожинов). На Руси при Иване Грозном и в Смутное время не знали таких массовых зверств, как в Варфоломеевскую ночь во Франции. Но русское сознание и русские летописи адекватно оценивали свои национальные пороки. Эта критическая самооценка некритично воспринималась историками. Отсюда неадекватные представления о жестокости русской истории и гуманности европейской.
Показательна нравственная характеристика проницательного А.С. Пушкина прогрессивной западной цивилизации, в которой сгустились многие типические черты западноевропейского человека: «Несколько глубоких умов в недавнее время занялись исследованием нравов и постановлений американских, и их наблюдения возбудили снова вопросы, которые полагали давно уже решенными. Уважение к сему новому народу и к его уложению, плоду новейшего просвещения, сильно поколебалось. С изумлением увидели демократию в ее отвратительном цинизме, в ее жестоких предрассудках, в ее нестерпимом тиранстве. Все благородное, бескорыстное, все возвышающее душу человеческую – подавлено неумолимым эгоизмом и страстью к довольству (comfort); большинство, нагло притесняющее общество; рабство негров посреди образованности и свободы; родословные гонения в народе, не имеющем дворянства; со стороны избирателей алчность и зависть; со стороны управляющих робость и подобострастие; талант, из уважения к равенству, принужденный к добровольному остракизму; богач, надевающий оборванный кафтан, дабы на улице не оскорбить надменной нищеты, им втайне презираемой; такова картина Американских Штатов, недавно выставленная перед нами».
Размышления о состоянии человеческой нравственности приводят к грустной гипотезе. В каждом обществе и народе достаточно стабильным остается соотношение человеческих типов, выражающих уровень нравственно-духовного преображения:
1) полноценная, духовно преображенная личность;
2) нравственно просвещенный человек;
3) индивидуалистическая эгоистическая самость;
4) звериная самость.
1. Во все времена во всяком обществе остается в меньшинстве количество людей подлинно совестливых , собственно нравственных , способных мотивировать свое поведение и отношение к окружающим совестью как повелевающей силой души – Божией силой . Свободное самоопределение духовно преображенной личности проявляется в спонтанной органичной любви, доброте, милосердии, долге, которые можно искоренить только с уничтожением самого человека. При невыносимых страданиях развоплощаются достойнейшие и сильнейшие, только единичные герои и праведники в любых обстоятельствах предпочитали гибель потере Божественного достоинства человека. В жизни христианских подвижников и праведников доминировало свободное самоопределение на Божественный призыв Нагорной проповеди. Собственно, со-весть означает сопричастие вести Божией, совесть – это голос Божий в человеческой душе. Праведники были маяками, на которые ориентировалось и светом которых подпитывалось нравственное чувство людей.
2. Меньшая часть человеческого сообщества в обыденных и в экстремальных ситуациях руководствуется внутренним тяготением к добру. У нее чувство стыда , в котором выражается понимание своего несоответствия нравственным нормам, является более сильным (чем голос совести ) нравственным императивом. Для людей с нравственной регуляцией важно наличие традиций, являющихся носителем системы ценностей, ибо их самоопределение нуждается в духовных авторитетах, попрание которых влечет за собой нравственную деградацию и людей достойных.
Малая часть духовных и нравственных пассионариев медленно прирастает в человечестве, в чем, очевидно, и состоит смысл истории. Рост и свободное самоопределение человеческой личности нуждается в защите общественными институтами.
3. Большинство людей руководствуется чувством страха перед авторитетом либо страхом наказания больше, чем голосом совести или чувством стыда. Оно тяготеет ко внешним повелениям со стороны признанного авторитета, нуждается в правовой регуляции, ибо в бесконтрольной ситуации склонно к проявлениям индивидуалистического эгоизма вплоть до агрессии. Авторитетные традиции повелевают гипнозом сакральности, государственный авторитет устанавливает и охраняет границы дозволенного, сковывая хаос и агрессию. Многие люди не творят зла потому, что боятся наказания – на небе или на земле. Персонификация на уровне человеческого индивидуализма – это потенция человечности, плацдарм человеческого бытия, на котором идет битва за вочеловечение эгоистической самости . Из первой точки в человеческом бытии предстоит тяжелейшими усилиями прорастить человеческую индивидуальность, дающую основания для взращивания человеческой личности.
4. Малочисленную часть общества, склонную к патологически агрессивному самоутверждению, не способна обуздать угроза наказания, чем объясняется неуничтожимость преступности. Черный осадок человечества для сохранения человеческого облика нуждается в регуляции принуждением и насилием . Эти недочеловеки по своим душевным качествам ближе к самоутверждающейся животной самости в облике человека.
Таким образом, большинство людей потенциально готовы преступить нравственный императив, если отсутствуют внешнее повеление и авторитетный контроль. При девальвировании или разрушении традиционного жизненного уклада и государственных институтов, распадении порядка многие вполне добропорядочные люди звереют, становятся ворами, садистами и убийцами. Поэтому самая свирепая диктатура оказывается меньшим злом, чем социальный хаос. Таким образом, локальное зло (государственное насилие) слабее зла тотального, в которое впадает общество при социальных потрясениях и разрушении традиционных общественных институтов.
Линия разделения добра и зла проходит не между людьми, а по сердцам человеческим, душа человека и является полем битвы дьявола с Богом. Поэтому нет и не может быть извечно предопределенных праведников и преступников, каждая душа наделена Творцом возможностями для спасения. Но это – в измерении вечности, в пределах же земной жизни мы можем констатировать, что совесть – искра Божия – во многих душах заглушена или слабо проявлена и нуждается во внешнем пробуждении либо благотворном подкреплении.
Историческое сравнение дает основания утверждать, что в русском народе часть людей, изначально духовно и нравственно ориентированных , во все времена была большей, нежели у европейских народов. Если мораль – это общепринятые в конкретном обществе нормы общественных взаимоотношений, а нравственность – нормы и мотивы личного поведения людей, то западноевропейское общество и человек более моралистичны, а русское общество и человек более нравственны. В русской культуре индивидуальный человек является носителем духовных ценностей и нравственности больше, чем общественные институты и нормы, в западноевропейской же культуре наоборот. На Руси высшим носителем идеала является святой, то есть живой человек, в западноевропейской цивилизации общественные ценности диктуют облик человека, его образ жизни и поведения. Поэтому Европа больше нуждалась в наращивании традиций права и государственных институтов (даже Церковь там во многом является инстанцией юридической, а не духовной регуляции), которые позволяли сковывать демонический хаос и агрессию в человеке. Попрание общественных институтов приводили в Европе к невиданным для Руси-России массовым злодеяниям. Под покровом упорядоченности у европейского человека шевелится больший хаос, чем у русского. На Руси во все века было множество праведников – светильников жизни, облагораживающих духовный и нравственный климат эпохи. Государственные и общественные институты были носителями более нравственного, нежели правового авторитета, поэтому на Руси – не в силе Бог, а в правде . Это проявления характера сильного и доброго: «Русский человек способен выносить страдание лучше западного, и вместе с тем он исключительно чувствителен к страданию, он более сострадателен, чем человек западный» (Н.А. Бердяев).
Отсутствие серединной культуры и стремление жить в мире сем по мерам не от мира сего превращали доброделание на Руси в неформальное. Русский человек не законник. Моральное повеление воспринималось не по букве, а по духу, не как формальный императив , а как призыв сердца. Добро и зло на Руси были больше духовными, чем юридическими категориями. Русский творит добро не по долгу и требованиям нравственного закона, а по любви и естественному тяготению к добру : не потому, что так поступать до лжно, а потому, что иначе поступить не может – так велит сердце. Не случайно в русском языке слова «праведность» и «правда» – одного корня. «Русская добродетель – это добродетель сердца и совести . Здесь все основано не на моральной рефлексии, не на “проклятом долге и обязанности”, не на принудительной дисциплине или страхе греховности, а скорее на свободной доброте и на несколько мечтательном , порою сердечном созерцании . Сердечная доброта, сострадание, дух самопожертвования и определенное стремление к совершенству играют здесь решающую роль» (И.А. Ильин). Молодая среди христианских народов русская душа не сформировала еще внутренней императивной ограды от зла . Охраняет ее от злых стихий традиционный жизненный уклад, но при внешней защите не устоялась система внутренних норм и критериев. Отсюда русский человек меньше, чем западный человек, нуждается в формальном повелении для доброделания, но ему крайне необходима ограда традиционных ценностей для защиты от зла и соблазнов.
И в этом отличие русского человека от западноевропейского. «Европа не знает нас… потому, что ей чуждо славяно-русское созерцание мира, природы и человека. Западноевропейское человечество движется волею и рассудком. Русский человек живет прежде всего сердцем и воображением и лишь потом волею и умом. Поэтому средний европеец стыдится искренности, совести и доброты как “глупости”; русский человек, наоборот, ждет от человека прежде всего доброты, совести и искренности. Европейское правосознание формально, черство и уравнительно; русское – бесформенно, добродушно и справедливо. Европеец, воспитанный Римом, презирает про себя другие народы (и европейские тоже) и желает властвовать над ними; зато требует внутри государства формальной “свободы” и формальной “демократии”. Русский человек всегда наслаждался естественной свободой своего пространства… Он всегда “удивлялся” другим народам, добродушно с ними уживался и ненавидел только вторгающихся поработителей, он ценил свободу духа выше формальной правовой свободы. Из всего этого выросло глубокое различие между западной и восточно-русской культурой. У нас вся культура – иная, своя, притом потому, что у нас иной, особый духовный уклад. У нас совсем иные храмы, иное богослужение, иная доброта, иная храбрость, иной семейный уклад; у нас совсем другая литература, другая музыка, театр, живопись, танец; не такая наука, не такая медицина, не такой суд, не такое отношение к преступлению, не такое чувство ранга, не такое отношение к нашим героям, гениям и царям. И притом наша душа открыта для западной культуры: мы ее видим, изучаем, знаем, и если есть чему, то учимся у нее… У нас есть дар вчувствования и перевоплощения. У европейцев этого дара нет. Они понимают только то, что на них похоже, но и то искажая все на свой лад. Для них русское инородно, беспокойно, чуждо, странно, непривлекательно» (И.А. Ильин).
О милосердии и справедливости русского человека свидетельствует добрососедское отношение к народам присоединенных территорий. Русский народ творил несравненно меньше злодеяний, чем просвещенные европейцы на завоеванных землях. В национальной психологии было некое сдерживающее нравственное начало. Русскому образованному обществу было стыдно за «притеснение национальных окраин», в то время как никакому европейскому обществу никогда не было стыдно за то, что натворили европейцы на нескольких материках. Нравственная взыскательность к себе проявлялась в том, что русский народ не подчеркивал своего нравственного превосходства. На Руси редки нравственная гордыня и самоуспокоенность. Критика Запада – славянофилами, например, – проходила по совершенно другим линиям. Русь в восприятии русского человека – это не царство праведников, а хранительница правды: мы не лучше других, но во многом больше других различаем добро и зло .
Православие воспитывало в русском народе духовную свободу , открытость и отзывчивость , терпимость : «Максимальная в истории человечества расовая и классовая, религиозная и просто терпимость» (И.Л. Солоневич). Многие мыслители описывали эти русские черты характера. «Русским присущи открытость другим культурам, терпимость, стремление понять и принять инакодумающего и инаковерующего. Ужиться с ним… Отсюда характерная черта, подмеченная Достоевским, – “всемирная отзывчивость”, то есть способность откликнуться на чужую беду, пережить ее как свою, помочь, порадоваться радости другого, принять его в свою среду, перевоплотиться самому» (А.В. Гулыга). В отношении к другим сказывалась русская всечеловечность. «Русская душа… гений народа русского, может быть, наиболее способны из всех народов вместить в себя идею всечеловеческого единения, братской любви, трезвого взгляда, прощающего враждебное, различающего и извиняющего несходное, снимающего противоречия» (Ф.М. Достоевский).
Народ выстраивал свою жизнь по зову сердца, а не по внешнему повелению: «Русскому свойственна внутренняя свобода, для него не существует искусственно придуманных запретов. Он живет без усилий, “в нем бьется жизнь”. Он чересчур эмоционален и экспансивен, в большинстве случаев весьма общителен, участлив, дружелюбен, снисходителен и совсем по-особому гостеприимен. Его любезность не придумана, не церемонна, не фальшива; напротив, она непосредственна, изобретательна, импровизационна, легко переходит в деликатное, нежное чувство» (И.А. Ильин). Подобные качества способствовали гармоничному общежитию со множеством народов. «Готовность к прощению опять-таки раскрывает в себе русское предназначение к свободе. Прощающий избавляется от обиды, ему нанесенной. Тем самым он не только освобождает грешника от бремени его вины, но и себя – от гнета ненависти к нему, тогда как месть продолжает связывать мстителя с преступником и лишает его возможности самоопределения. Идея всепрощающей любви неразрывно связана со свободой, идея отмщающего права – с зависимостью» (В. Шубарт).
Характер большого народа проявляется в универсализме мышления и оценок, в глобализме исторический деяний, в интернационализме , выражающем русскую соборность , при этом всегда и всеми силами защищалось свое, национальное. Для русских не характерны ксенофобские настроения, о чем свидетельствуют пронизанная заимствованиями русская культура, многонациональная жизнь столиц, множество представителей инородцев в российской власти во все века. Подобное невозможно представить в европейских странах. Интернационализм и космополитизм американской цивилизации выстроены на костях несогласных. Русская цивилизация строилась соборно, совместно со всеми народами Евразийского континента.
От природы сильный, выносливый, динамичный народ был наделен удивительной выживаемостью . На силе духа основывались и знаменитое русское долготерпение , и терпимость к другим:
Подвиг есть и в сраженье,
Подвиг есть и в борьбе;
Высший подвиг в терпенье,
Любви и мольбе.
(А.С. Хомяков)
Под непрерывными нашествиями со всех сторон, в невероятно суровых климатических и геополитических условиях русский народ колонизировал огромные территории, не истребив, не поработив, не ограбив и не перекрестив насильственно ни один народ. «На базе империи Российской никто из русских народов не заработал ничего. Ни копейки. Даже и русское дворянство, в значительной степени игравшее роль организаторов империи, не получило ничего : ни в Сибири, ни на Кавказе, ни в Финляндии, ни в Польше. Для русского мужика не было отнято ни одного клочка земли: ни от финнов, ни от поляков, ни от грузин» (И.Л. Солоневич). Колониальная политика западноевропейских народов искоренила аборигенов трех материков, превратила в рабов население огромной Африки (оставшихся крестили огнем и мечом), и неизменно метрополии богатели за счет колоний. Ибо у западноевропейских народов, по признанию О. Шпенглера, преобладали «фаустовский инстинкт… требующий пространства для собственной деятельности, воля к власти, также и в области нравственного, стремление придать своей морали всеобщее значение, принудить человечество подчиниться ей, желание всякую иную мораль переиначить, преодолеть, уничтожить… Кто иначе думает, чувствует, желает, тот дурен, отступник, тот враг. С ним надо бороться без пощады».
Русский народ, ведя не только оборонительные войны, присоединяя, как и все большие народы, большие территории, нигде не обращался с завоеванными, как европейцы. От европейских завоеваний лучше жилось европейским народам, ограбление колоний обогащало метрополии. Русский народ не грабил ни Сибирь, ни Среднюю Азию, ни Кавказ, ни Прибалтику. Россия до 1917 года сохранила каждый народ, в нее вошедший. Она была их защитницей, обеспечивала им право на землю, собственность, на веру, обычаи, культуру. Россия никогда не была националистическим государством, она принадлежала одновременно всем в ней живущим. Русский народ имел только одно «преимущество» – нести бремя государственного строительства. В результате было создано уникальное в мировой истории государство: «Империя – это, действительно, “мир” – настоящая империя. Ибо империя есть сообщество народов, уживающихся вместе. Это есть школа воспитания человеческих чувств, так слабо представленных в человеческой истории. Это есть общность. Это есть отсутствие границ, таможен, перегородок, провинциализма, феодальных войн и феодальной психологии… Русская империя была благом, она заменила и на Кавказе, и в Средней Азии, и в десятках других мест бесконечную и бессмысленную войну всех против всех таким государственным порядком, какого и сейчас нигде в мире больше нет. И если в дружинах первых киевских князей были и торки, и берендеи, то у престола русских императоров были и поляки, и немцы, и армяне, и татары. И ни один народец в России не третировался так, как в США третировались негры или в Южной Азии – индусы. И ни одна окраина России не подвергалась такому обращению, какому подвергалась Ирландия» (И.Л. Солоневич).
Русская колонизация принципиально отличается от европейской. Никакие внешние обстоятельства не мешали русским вести себя на присоединенных территориях, как европейцы. Кавказцы защищались так же свирепо, как индейцы Северной Америки, Средняя Азия обладала богатствами, как государства инков и ацтеков в Южной Америке, народы Сибири отличались низким уровнем цивилизации, как аборигены Австралии, но нигде эти схожие обстоятельства не смогли заставить русских вести себя по-европейски. Необходимо признать очевидный факт, который мешает признать русская гиперсамокритичность и внешняя необъективность: русский народ в аналогичных с европейскими обстоятельствах вел себя далеко не аналогичным образом и проявил несравненную человечность, терпимость, доброту. «Политическая история мира есть история крови, грязи и зверства. Кровью, грязью и зверством пропитана и наша история. Однако и крови, и грязи, и зверства у нас было меньше, чем где бы то ни было в других местах земного шара и в других одновременных точках истории» (И.Л. Солоневич). Русские создавали свою империю, руководствуясь своими жизненными интересами, при этом эти жизненные интересы не противостояли другим народам, поэтому это было государство для всех народов, его населяющих. «Я отстаиваю идею русского империализма, то есть идею построения великого и многонационального “содружества наций”… Всякий великий народ есть народ империалистический, ибо всякий хочет построить империю и всякий хочет построить ее на свой образец: немцы – на основах расовой дисциплины, англичане – на базе коммерческого расчета, американцы – на своих деловых методах, римляне строили на основе права, мы строим на основе Православия» (И.Л. Солоневич). Неоспоримые исторические факты говорят о высокой степени духовности русского характера. Все его нравственные достоинства были проявлением глубинной бытийной ориентации народа-созидателя: «Наша история есть история того, как дух покоряет материю, а история США есть история того, как материя покоряет дух» (И.Л. Солоневич).
Русская покаянность извращается в западном общественном мнении. В русской образованной публике распространено самообвинение: мы угнетаем национальные окраины , в Европе договаривают: Россия повинна в азиатском деспотизме .
Древнерусская литература
Западники и славянофилы сходствуют между собой: в незнании (простительном для своего времени) древнерусской культуры и в неверном противопоставлении Древней Руси новой России. Это противопоставление начал сам Петр Великий. Ему нужно было противопоставить свое дело Древней Руси, придать пафосность своим реформам, оправдать свою решительность и жестокость. Но никакого решительного перелома не было. Об этом я писал в специальной статье. Петровские реформы были порождением процесса, шедшего в течение всего XVII века. Сам Петр и его соратники были людьми, воспитавшимися в Москве. Петр сменил всю знаковую систему в русской культуре – форму военную и одежду гражданскую, знамена, обычаи, увеселения, перенес столицу в новое место, сменил представления о власти монарха, о его поведении, ввел Табель о рангах, создал гражданский алфавит и проч., и проч. Все это бросалось в глаза. Он построил флот, но на веслах галер и на реях парусных судов работали все ж таки поморы…
Представления о «переломе» утвердились в равной степени у западников и славянофилов, живы и до сих пор.
Значение славянофилов было в русской культуре Нового времени очень велико не только потому, что старшие славянофилы выступали против крепостного права, но потому, что они подготовили правильную оценку древнерусского искусства, способствовали розыску древнерусских рукописей и проч. Всякое движение вперед требует оглядки на старое, в России – на «свою античность», на Древнюю Русь, на те ценности, которыми она обладала. Вспомните Лескова, Ремизова, Хлебникова, а в живописи – Малевича, Кандинского, Гончарову и Ларионова, Филонова и многих других. Их авангардизм наполовину древнерусский и фольклорный. Многие об этом не догадываются, а на Западе увлечение этими художниками шло параллельно увлечению иконами.
Литература Древней Руси фрагментарна. Она сохранилась лишь в осколках. Но разнообразие осколков позволяет судить об огромных размерах целого.
Древняя литература отличается от новой условиями своего бытования, своего существования в целом. Древняя литература распространяется рукописно, путем списков. В списках она и искажается, и совершенствуется. Произведение может отходить от своего первоначального вида в лучшую или в худшую сторону. Оно живет вместе с эпохой, изменяется под влиянием изменения среды, ее вкусов, ее взглядов. Оно переходит из одной среды в другую. Писец, а не только писатель, создает произведение. Писец выполняет роль исполнителя в фольклоре. В древней литературе есть даже импровизация, и она создает ту же вариативность, что и в фольклоре.
Существует обывательское представление о «несамостоятельности» древнерусской литературы. Однако не только каждая литература, но и каждая культура «несамостоятельна». Настоящие ценности культуры развиваются только в соприкосновении с другими культурами, вырастают на богатой культурной почве и учитывают опыт соседней. Может ли развиться зерно в стакане дистиллированной воды? Может! – но пока не иссякнут собственные силы зерна, затем растение очень быстро погибает. Отсюда ясно: чем «несамостоятельнее» любая культура, тем она самостоятельнее. Русской культуре (и литературе, разумеется) очень повезло. Она росла на широкой равнине, соединенной с Востоком и Западом, Севером и Югом. Ее корни не только в собственной почве, но в Византии, а через нее – в Античности, в славянском юго-востоке Европы (и прежде всего в Болгарии), в Скандинавии, в многонациональности государства Древней Руси, в которое на равных основаниях с восточными славянами входили угро-финские народности (чудь, меря, весь участвовали даже в походах русских князей) и тюркские народы. Русь в XI–XII веках тесно соприкасалась с венграми, с западными славянами. Все эти соприкосновения еще шире разрастались в последующее время. Одно перечисление народов, входивших с нами в соприкосновение, говорит о мощи и самостоятельности русской культуры, умевшей заимствовать многое у них и остаться самой собой. А что было бы, если бы мы были отгорожены от Европы и Востока китайской стеной? Мы остались бы в мировой культуре глубокими провинциалами.
Существует ли «отсталость» древнерусской литературы? А что вкладывается в это понятие «отсталости»? Что мы, наперегонки бегаем? Ведь в таком случае должен быть определенный старт, условия и проч. А если народы Европы принадлежат к разным возрастным группам, да и рождение наше не всегда ясно? Византия и Италия продолжали Античность, а мы стали развиваться позднее и в других условиях. Одним словом: мой сосед, которому три года, – отстал от меня?
Другое – «заторможенность». Существовала ли она в культуре Древней Руси? Кое в чем – да, но это особенность развития и под оценки она не подпадает. Скажем, у нас не было такого молниеносного перехода от Средневековья к Новому времени, как в Италии. В Италии была «эпоха Ренессанса», а у нас были явления Ренессанса, и они затянулись на несколько веков – вплоть до Пушкина. Наш Ренессанс был «заторможенный», и поэтому борьба за личностное начало в культуре у нас была особенно напряженной и трудной и резко сказалась в литературе XIX века. Хорошо это или плохо?
Еще одно понятие – «художественная слабость литературы». Всякая культура в чем-то слаба, в чем-то сильна. Древнерусская культура была очень сильна в архитектуре, в изобразительном искусстве, а теперь выясняется – и в музыке. А в литературе? Литература была своеобразной. Публицистичность, нравственная требовательность литературы, богатство языка литературных произведений Древней Руси изумительны.
Картина довольно сложная.
В Средние века главное в литературе – создание прочной и устойчивой системы, способной сопротивляться (особенно в условиях чужой государственности и чужой культуры).
Внешний «консерватизм» – это особенность средневековой культуры, и особенно славянской.
Философская особенность древнеславянских мыслителей – следовать этому принципу. Отсюда обилие цитат, утверждающих преемственность мысли, ее традиционность. Отсюда же в самом построении произведений – следование анфиладному принципу (на один сюжет как бы нанизываются разножанровые произведения).
В средневековых литературах создание новой стилистической и жанровой систем часто основывается на старых слагаемых (образов, метафор, метонимий, стилистических оборотов, элементов «плетения словес» и канонов). В Новое время новое создается в основном из изобретения новых слагаемых.
«Стыдливость формы» – явление очень важное для поступательного развития литературы. Это не только боязнь «замороженности» жанров, их однообразия, но это и стремление к правде, к простоте правды. В той или иной степени оно может быть во всякой литературе, но для русской литературы оно особенно типично. «Стыдливость формы» ведет к простым формам (совсем без формы невозможно), к формам документов, писем, вторичным и второстепенным жанрам, к стремлению избежать «гладкого» слога, «гладкописи» (Достоевский, Толстой, Лесков), к постоянному обновлению литературного языка через разговорный (Достоевский, Лесков, Зощенко и многие другие), через язык стенографических записей (у Достоевского в «Бесах»), через пародирование иностранных выражений, кажущихся иногда напыщенными и претенциозными и пр., и пр. Я об этом писал несколько раз. Отходя от условных форм («стыдливость формы»), литература все время невольно рождает в самой себе новую условность формы, порождает новые жанры и т. д. Реализм дальше всех отступает от условных форм и все ж таки порождает в себе новые условные формы.
Традиционность типична для всех средневековых литератур – литератур времени феодализма. Первый вопрос, который возникает: с чем это связано?
Думаю, что эта традиционность всех средневековых литератур связана с иерархическим построением феодального общества. Общество, разделенное по иерархическому принципу, различается внутри самого себя по правам, власти, и это разделение, обычно очень сложное, закрепляется обычаями, церемониями, этикетом поведения, одеждой (одежда выполняет функцию знаковой системы, указывая, кто перед людьми предстоит).
Все различия иерархического общества настолько дробны и многочисленны, что трудно запоминаются, нуждаются в своем постоянном закреплении. Отсюда склонность к постоянству всей знаковой системы в культуре. И традиционность характерна не только для литературы, но и для всего искусства в целом – для живописи, скульптуры, архитектуры, прикладного искусства и даже для быта, для этикета поведения.
Средневековье церемониально, а церемонии всегда традиционны. Это свойство любых церемоний. Поэтому-то до сих пор церемонии в королевском или университетском быту Западной Европы совершаются в одеждах многовековой давности и со старинными предметами, в современности не употребляемыми (жезлы, булавы, мечи, нагрудные цепи, мантии и пр.).
Второй вопрос, который возникает в связи с первым: в каких областях литературы традиционность сказывается?
Этих областей в литературе очень много. Прежде всего – традиционность жанровой системы, отличной от одновременно существующей жанровой системы фольклора. Вся система литературы есть некоторая церемониальная система. В свои случаи читаются жития, в свои – хроники, в свои – торжественные слова и проповеди и пр. И каждое «чтение» совершается по-своему: в церквах, в монастырской трапезной или индивидуально в келье, с церковного амвона, или употребляется для справок – как напоминание о том или ином обряде, порядке богослужения. В литературе развита «иерархия жанров»: одни пишутся на «высоком» литературном языке, другие – на более простом и пр. Существуют и традиционные формулы (отдельно для каждого жанра), формулы этикетные, отдельные слова и выражения, употребительные в одних случаях и неупотребительные в других.
Но помимо традиций жанров и их употребления, существуют традиции в изображении людей. Есть святые, но и они разные: мученики веры, воины, властители, монахи, высокопоставленные церковные деятели. Каждый из святых изображается по своим правилам, в своих канонах. Но, кроме святых, есть и простые люди, а среди простых – нищие, крестьяне, чиновные лица. Все они входят в определенные традиции изображения, тем более что и сюжеты повторяются, могут разворачиваться только одним путем, а не другим. Вот маленький пример. Злодей, разбойник может во всех средневековых литературах стать святым. Тут ему путь свободен. Но вот подлинный святой (если он только не лицемер) никогда отступником от правды не станет. Есть определенная «заданность образа», и вот что удивительно: в этой заданности есть своя логика. Традиция не идет вопреки законам психологии.
Одним словом, есть десятки форм традиции, сотни традиционных формул, тысячи путей формализации. Литература беспрерывно вырабатывает традиционность и очень трудно от нее отказывается.
В литературе господствует «обаяние традиционных форм»!
Вопрос третий: как соотносится традиционность и художественность? Не означает ли господство традиционности, что в литературе (да и в искусстве в целом) в Средние века отсутствует подлинное творчество?
Нет, в искусстве, и в частности в литературе, есть не только господствующая традиционность, но и борьба с ней. И вот тут-то и возникают «силовые линии» творчества. Искусство всегда есть преодоление «неискусства», но если это «неискусство» выражено слабо, то и восхищающая нас борьба с ним будет тоже слабой. В каждом сильном искусстве ему противостоит сильное же сопротивляющееся «неискусство». В средневековой литературе «неискусством» является традиционность. Боже сохрани подумать, что тем самым я как бы признаю традиционность явлением отрицательным. Скульптору сопротивляется мрамор, и настоящий скульптор это ценит. Не ценят это сопротивление только те лжескульпторы, которые работают с помощью облегчающих их работу устройств, на материале, который позволяет создать что угодно и в каких угодно размерах. Тогда и появляются в искусстве такие монстры, как знаменитая «царь-баба» в Киеве, памятники космонавтике в Москве («Гагарин» или безумная «кривуля» в Останкине) и т. д. Этим «скульпторам» ничего не стоит срыть гору (с помощью машин, конечно), но включить гору в свои художественные задачи – это по-настоящему могли только средневековые зодчие! То же самое в средневековой литературе. Материал традиций огромен, разнообразен, он сопротивляется; художник ощущает его «тяжесть», многообразие языка, канонов в изображении человека и создает изумительные по красоте вещи, произведения.
Вот в «Сказании о Борисе и Глебе». Глеб ведет себя по традициям, предписываемым жанром житий-мартирий: он не сопротивляется убийцам, но он по-детски просит их не убивать его: «Не д?йте мене, братия моя милая и драгая! Не д?йте мене, ни ничто же вы зъла сътворивъ». И т. д. Этот монолог перед убийством довольно длинен, но при этом оправдан возрастом Глеба. Просьба Глеба не убивать его – именно его, Глеба, а не трафаретная: «Помилуйте уности <юности> моея, помилуйте, господье мои!.. Не пожьнете мене отъ жития не съзр?ла, не пожьн?те класа <колоса>, не уже съзр?въша» и т. д.
Таких примеров проникновения искусства в трафарет можно было бы привести много, и именно эти проникновения оживляют традиционное искусство. Традиция служит оправой для драгоценных вкраплений подлинного творчества.
Вопрос четвертый. А какова роль именно этого типа «сопротивления материала» в средневековой литературе – в истории литературы? Средневековые литературы принадлежат к нормам литературы начальной, в которой неясно проявляется личность писателя, его индивидуальность. То же самое ведь в отношении традиционности мы встречаем и в фольклоре. И вот важно, что традиционность облегчает творчество. Плотник рубит избу. Ему не надо изобретать ничего нового – крупно нового, во всяком случае. Размеры бревен и досок, способы рубки – все это определено веками. Он только чуть-чуть что-то изменит, положит лишнее бревно, вытешет новый в чем-то узор. Ему легко работать без ошибок. То же самое в фольклоре при создании новой песни или былины, плача по умершему и пр. Но еще яснее это в средневековых литературах. Традиции, каноны, этикет, готовые формы языка позволяют пишущему (вовсе не ощущающему иногда себя писателем) сосредоточиться на главном и создать произведение новому святому или что-то для новой службы старому. Хроникер уже знает, чту записать из происходящих событий, какие факты выделить, сообщить о них читателю. Он добавит в это «традиционное видение» истории что-то свое, отразит свое волнение, свою скорбь… Традиционность увеличивает генетические способности литературы, облегчает создание новых произведений.
Вопрос пятый. А зачем нужна эта «генетическая легкость»? Пусть будет меньше произведений, но с другими материалами сопротивления. Этот вопрос сложный. Постараюсь объяснить, в чем тут дело. Литература существует, развивается только при условии известного насыщения «пространства литературы» произведениями. Если произведений мало, литература как живое целое перестает существовать. В литературных произведениях есть «чувство плеча», ощущение соседства. Каждое новое талантливое произведение повышает литературную требовательность пишущего и читающего общества. Если вовсе нет фольклора – невозможно сочинить былину. В обществе, где никогда не слышали музыки, нельзя творить не только Бетховену, но и Гершвину. Литература существует как среда. «Братья Карамазовы» могли появиться и существовать только в соседстве с другими произведениями.
Из глубин «литературной вселенной» идут пронизывающие ее «гравитационные волны», излучения. Они идут от других галактик – например, византийской, сирийской, коптской, а некоторые даже откуда-то из-за пределов всех возможных галактик. Это волны-традиции. Как астрономы, мы можем по ним сделать предположения о начале литератур, о начале литературной жизни. Никто еще точно не зафиксировал их возникновение, их начало. Изучая традиции, мы сможем понять возникновение литературного творчества. Близко подошел к решению этого вопроса А. Н. Веселовский.
За пределами русской, армянской, грузинской литератур существуют свои формы устного искусства слова, существует литература Византии, за ней – Античность, а за ней что?
Чтобы проникнуть в самые глубины существования искусства слова, мы должны быть астрономами литературы, обладать гигантским научным воображением и гигантской эрудицией.
Не только литературные произведения требуют соседства, но и соседство наук ко многому обязывает. Литературоведение отстало от других наук. Нам многое предстоит сделать.
Современные писатели (писатели Нового времени) гордятся меткостью своих сравнений, сходством внешним. А средневековые писатели стремились увидеть за внешним сущностное. Метафоры были для них символами; внутренняя сущность прорывалась через внешнее сходство – цыпленок выходил из скорлупы яйца…
Когда автор «Слова о полку Игореве» сравнивает Ярославну с кукушкой, он видит в ней не просто птицу (тогда уж лучше было бы сравнить ее с чайкой), а мать, у которой сын находится в чужом гнезде – в гнезде Кончака.
Лебедь в «Слове» – всегда видение предсмертное. И тогда, когда бегущие от русских половецкие телеги кричат по-лебединому. И тогда, когда Дева Обида бьет лебедиными крылами на Синем море – том самом, откуда двигались половецкие полки навстречу Игоревой рати.
Ярославна не случайно обращается с мольбой в своем плаче к Солнцу, Ветру и Днепру, то есть к трем из четырех стихий: свету, воздуху, воде. Ей не надо обращаться к Земле, ибо она сама Земля, то есть родина. Земля не может быть враждебной. Солнце же сперва предупреждало Игоря, а потом скрутило жаждою луки Игоревых воинов. Ветер гнал от моря на Русь тучи и подхватывал половецкие стрелы, чтобы донести их до Игоря. Днепр мог бы помочь насадам Святослава достичь места битвы, но не помог.
И вот в ответ на мольбу Ярославны солнце, предупреждавшее Игоря тьмою, этой же тьмою скрывает бегство Игоря. Ветер смерчами идет от моря на станы половцев. Днепр, главная из русских рек, союзными ему реками помогает Игорю в бегстве на Русскую землю.
Средневековые метафоры создаются по сходству действия, а не по сходству внешности: у Кирилла Туровского святые отцы собора – «реки разумного рая, напоивые весь мир спасенного учения и греховную скверну струями вашего наказанья смывающе» (Адрианова-Перетц В. П. Очерки поэтического стиля Древней Руси, с. 50). Император Цимисхий у Манассии: «другый бяше рай божий, четыре рекы источаа: правду, мудрость, мужество, целомудрие» (Русский хронограф, гл. 177, с. 383). Человек – трава (псалом 102, ст. 14), финик и кедр (псаломы избранные 34). У Пахомия Серба Никон Радонежский – «благородный сад» (Яблонский, с. LXIX–LXX). Аввакум в письме Морозовой, Урусовой и Даниловой называет их: «лоза преподобия, стебль страдания, цвет священия и плод богоданен».
Развитая метафора. Символика, ставшая картиной. В «Житии Трифона Печенгского» его устное завещание братии перед смертью: «Не любите мира и яже в мире; сами бо весте, колик окаянен мир сей – яко море неверен, мятежен, пропастей (?) покастьми (?) нечестивых духов, ветрами волнуется губительно, лжами горек, наветы диявольски трясется, пенится, грехами веяния свирепствует и смущается, о погружении <о потоплении> миролюбцев тщится; всюду плачи, пагубы своя простирает, а наконец все смертию осуждает» (Православный собеседник, 1859, ч. 2, с. 113).
В идеологической стороне каждого литературного произведения есть как бы два слоя. Один слой вполне сознательных утверждений, мыслей, идей, которые автор стремится внушить своим читателям и в чем он пытается убедить или переубедить их. Это – слой активного воздействия на читателей. Второй слой – другого характера активности: он как бы подразумеваемый. Автор считает его само собой разумеющимся и общим для него и читателей. Этот второй слой в основном пассивен. Он начинает активно действовать и воздействовать на читателя только тогда, когда произведение переходит в другую эпоху, к другим читателям, где этот слой нов и необычен. Этот второй слой можно было бы назвать «мировоззренческим фоном».
В «Слове о полку Игореве» первый слой – слой действенный – заключен в призывах автора к единению, к защите Русской земли, в попытках автора истолковать всю русскую историю и отдельные исторические факты в духе своей исторической концепции и своих политических убеждений. К этому же слою может быть отнесено «открытое язычество», выраженное, например, в поименном упоминании языческих богов.
Второй слой в «Слове о полку Игореве» скрыт и может быть изучен только путем анализа. К этому второму слою относятся, например, общие языческие представления – о своеобразных аспектах человеческой судьбы, о взаимоотношениях человека и природы, о культе Земли, Воды, Рода, Солнца и Света. К ним же относится вера в приметы, убеждение об особой связи внуков с их дедами и т. д.
«Поучение» Владимира Мономаха обращено именно к князьям: «И седше думати с дружиною, или люди оправливати, или на лов ехати, или поездити…» (с. 158).
Ту же, что и в «Слове о полку Игореве», «активность» сравнений отмечает и О. М. Фрейденберг для Гомера. «Так, признаком реализма развернутого сравнения становится действенность, движение, убыстренность. Что оно передает? Аффект, шум, крик, всякого рода движения: полет птицы, нападение хищника, погоню, кипение, прибой, бурю, вьюгу, пожары и разливы, бурные потоки ливня, кружение насекомых, стремительный бег коня… Даже в камне подмечается полет, в звезде – момент рассыпающихся искр, в башне – паденье. Сравнения наполнены шумом стихий, воем и стоном вод, жужжаньем мух, блеяньем овец, ревом животных… Так изображается все, даже вещь: колесо вертится, кожа растягивается, котел кипит и т. д. Перед нами процессы, а не статуарно-измененные положения; и среди них – процессы труда, как молотьба, веянье, жатва, охота, ремесло и рукоделье» (О. М. Фрейденберг. Происхождение эпического сравнения (на материале «Илиады»). – Труды юбилейной научной сессии. 1819–1944. Ленинградский гос. университет. Л., 1946, с. 113).
То же мы видим и в «Слове»: все описывается в движении, в действии. Как и в «Илиаде», битва сравнивается с грозой, с ливнем. В качестве сравнений приводятся явления космические (князья сравниваются с солнцем, неудача предрекается затмением). Превалируют сравнения с трудовыми процессами: жатва, сеяние, ковка – и с образами охоты и охотничьих зверей (пардусы, соколы). В мир людей входит мир богов – как и в «Илиаде». И вместе с тем «Слово о полку Игореве» – не «Илиада».
Мир «Слова» – это большой мир легкого, незатрудненного действования, мир стремительно совершающихся событий, разворачивающихся в огромном пространстве. Герои «Слова» передвигаются с фантастической быстротой и действуют почти без усилий. Господствует точка зрения сверху (ср. «поднятый горизонт» в древнерусских миниатюрах и иконах). Автор видит Русскую землю как бы с огромной высоты, охватывает мысленным взором огромные пространства, как бы «летает умом под облаками», «рыщет через поля на горы».
В этом легчайшем из миров как только кони начнут ржать за Сулою – слава победы уже звенит в Киеве; трубы только начнут звучать в Новгороде-Северском, как стяги уже стоят в Путивле – войска готовы к выступлению в поход. Девицы поют на Дунае – голоса их вьются через море до Киева (дорога от Дуная была морской). Слышен на далеком пространстве и звон колоколов. Автор легко переносит повествование из одной местности в другую. Он достигает Киева из Полоцка. И даже звук стремени слышен в Чернигове из Тмуторокани. Характерна быстрота, с которой перемещаются действующие лица, звери и птицы. Они несутся, скачут, мчатся, перелетают огромные пространства. Люди передвигаются с необычайной быстротой, волком перерыскивают поля, переносятся, повиснув на облаке, парят орлами. Стоит сесть на коня, как уже можно увидеть Дон, – точно не существует многодневного и многотрудного степного перехода по безводной степи. Князь может прилететь «издалеча». Он может высоко парить, ширяясь на ветpax. Грозы его текут по землям. С птицею сравнивается и птицей хочет перелететь Ярославна. Воины легки – как соколы и галки. Они живые шереширы, стрелы. Герои не только с легкостью передвигаются, но без усилий колют и рубят врагов. Они сильны, как звери: туры, пардусы, волки. Для курян нет трудностей и не существует усилий. Они скачут с напряженными луками (натянуть лук в скачке необычайно трудно), у них тулы отворены и сабли изострены. Они носятся в поле, как серые волки. Им знакомы пути и яругы. Воины Всеволода могут раскропить Волгу веслами и вылить Дон шлемами.
Люди не только сильны, как звери, и легки, как птицы, – все действия совершаются в «Слове» без особого физического напряжения, без усилий, как бы сами собой. Ветры легко несут стрелы. Только персты лягут на струны, как те уже сами рокочут славу. В этой обстановке легкости всякого действия становятся возможны гиперболические подвиги Всеволода Буй Тура.
С этим «легким» пространством связана и особая динамичность «Слова».
Автор «Слова» предпочитает динамические описания статическим. Он описывает действия, а не неподвижные состояния. Говоря о природе, он не дает пейзажей, а описывает реакцию природы на события, происходящие у людей. Он описывает надвигающуюся грозу, помощь природы в бегстве Игоря, поведение птиц и зверей, печаль природы или ее радость. Природа в «Слове» не фон событий, не декорация, в которой происходит действие, – она сама действующее лицо, нечто вроде античного хора. Природа реагирует на события как своеобразный «рассказчик», выражает авторское мнение и авторские эмоции.
«Легкость» пространства и среды в «Слове» не во всем похожа на «легкость» сказки. Она ближе к иконе. Пространство в «Слове» художественно сокращено, «сгруппировано» и символизировано. Люди реагируют на события массами, народы действуют как единое целое: немцы, венецианцы, греки и морава поют славу Святославу и кают князя Игоря. Как единое целое, как «купы» людей на иконах, действуют в «Слове» готские красные девы, половцы, дружина. Как на иконах, символичны и эмблематичны действия князей. Игорь высадился из золотого седла и пересел в седло кащея: этим символизируется его новое состояние пленника. На реке на Каяле тьма прикрывает свет, и этим символизируется поражение. Отвлеченные понятия – горе, обида, слава – персонифицируются и материализуются, приобретают способность действовать как люди или живая и неживая природа. Обида встает и вступает девою на землю Трояню, плещет лебедиными крылами, ложь пробуждается, и ее усыпляют, веселие поникает, туга полоняет ум, всходит по русской земле, усобицы сеются и растут, печаль течет, тоска разливается.
«Легкое» пространство соответствует человечности окружающей природы. Все в пространстве связано между собой не только физически, но и эмоционально.
Природа сочувствует русским. В судьбах русских людей принимают участие звери, птицы, растения, реки, атмосферные явления (грозы, ветры, облака). Солнце светит для князя, ему же стонет ночь, предупреждая его об опасности. Див кричит так, что его слышат Волга, Поморье, Посулье, Сурож, Корсунь и Тмуторокань. Трава никнет, дерево преклоняется до земли с тугою. Откликаются на события даже стены городов.
Этот прием характеристики событий и выражения к ним авторского отношения чрезвычайно характерен для «Слова», придает ему эмоциональность и вместе с тем особую убедительность этой эмоциональности. Это как бы апелляция к окружающему: к людям, народам, к самой природе. Эмоциональность как бы не авторская, а объективно существующая в окружающем, «разлита» в пространстве, течет в нем.
Тем самым эмоциональность не исходит от автора, «эмоциональная перспектива» многопланова, как на иконах. Эмоциональность как бы присуща самим событиям и самой природе. Она насыщает собой пространство. Автор выступает как выразитель объективно существующей вне его эмоциональности.
Этого всего нет в сказке, но многое подсказывается здесь летописью и другими произведениями древней русской литературы.
Единственное значительное произведение XII века о «наступательном» походе – «Слово о полку Игореве», но мы знаем, что предпринят он был в оборонительных целях «за землю русскую», и это всячески подчеркнуто в «Слове».
Зато сколько появляется произведений на чисто «оборонные» темы, особенно в связи с Батыевым нашествием, нашествиями шведов и ливонских рыцарей: «Повести о Калкской битве», «Житие Александра Невского», «Слово о погибели Русской земли», летописные рассказы о защите Владимира, Киева, Козельска, рассказ о гибели Михаила Черниговского, Василька Ростовского (в летописи княгини Марии), «Повесть о разорении Рязани» и т. д. Конец XIV и XV век снова охвачены целым венком повестей об обороне городов: о Куликовской битве, о Тамерлане, о Тохтамыше, об Эдигее, ряд рассказов об обороне от Литвы. Новая цепь повестей о мужественной защите, но не о мужественных походах – в XVI веке. Главная из них – об обороне Пскова от Стефана Батория.
Нельзя сказать, чтобы для литературы в исторической действительности был недостаток в наступательных темах. Только одна Ливонская война, ведшаяся с переменным успехом, в которой были одержаны выдающиеся победы, сколько дала бы возможностей в этом направлении.
Единственное исключение – это «Казанская история», бо?льшая часть которой посвящена походам русских на Казань. То же продолжается в XVIII и XIX веках. Ни одна из великих побед над турками в XVIII веке не дала большого произведения, ни походы на Кавказ и в Среднюю Азию. Зато «кавказская тема», как и «Казанская история», привела к своеобразной идеализации кавказских народов – вплоть до самой кавказской армии, одетой по распоряжению Ермолова в одежду кавказских горцев.
Только оборонительная война давала пищу творческому воображению больших писателей: Отечественная война 1812 года и Севастопольская оборона. Замечательно, что «Война и мир» не касается заграничного похода русской армии. «Война и мир» кончается у границ России. И это очень показательно.
Я не думаю, что это черта специфичная для русской литературы. Вспомним «Песнь о Роланде» и другие произведения Средневековья. Вспомним и произведения Нового времени.
Героизм обороняющихся всегда привлекал внимание писателей больше, чем героизм нападающих: даже в наполеоновской истории. Наиболее глубокие произведения посвящены битве при Ватерлоо, ста дням Наполеона, походу на Москву – вернее, отступлению Наполеона.
Сразу после Второй мировой войны в своих лекциях в Сорбонне по истории русской литературы А. Мазон сказал: «Русские всегда смаковали свои поражения и изображали их как победы»; он имел в виду Куликовскую битву, Бородино, Севастополь. Он был не прав в своей эмоциональной, враждебной ко всему русскому оценке оборонных тем. Но он был прав в том, что народ миролюбив и охотнее пишет об обороне, чем о наступлении, и героизм, победу духа видит в героической защите своих городов, страны, а не во взятии другой страны, захвате чужих городов.
Психология защитников глубже, глубже может быть показан патриотизм именно на защите. Народ и культура народа по существу своему миролюбива, и в широком охвате тем литературы это видно с полной ясностью.
Рецидивов научного спора о древности «Слова» быть не может, но различного рода дилетантов набирается достаточно, а за них никогда поручиться нельзя… «Слово», как и всякие известные прославленные памятники, – любимый объект, чтобы «себя показать». Любители – дело другое. Любящие «Слово» могут открыть много нового, могут войти в науку. Но любители и дилетанты – это разных категорий люди.
Документы всегда входили в состав летописи. Вспомним о договорах с греками 911 и 941 годов, тексты которых включены в «Повесть временных лет». Да и в дальнейшем в летопись наряду с литературными материалами (исторические повести, воинские повести, жития святых и проповеди) очень часто попадали письменные документы, не говоря уже о документах «устных» – речах князей на вече, перед выступлением в поход или перед битвой, на княжеских снемах: они также передавались по возможности с документальной точностью. Однако только в XVI веке летопись сама в полную силу начинает осознаваться как документ – изобличающий или оправдывающий, дающий права или их отнимающий. И это накладывает отпечаток на стиль летописи: ответственность делает изложение летописи более пышным и возвышенным. Летопись примыкает к стилю второго монументализма. И этот пафосный стиль представляет собой своеобразный сплав ораторства с государственным делопроизводством.
То и другое развилось в высокой степени в XVI веке и сплелось между собой в вершинах, то есть в литературных произведениях.
Но летопись – разве она вершина литературного искусства? Это очень важное явление русской культуры, но как будто бы, с нашей точки зрения, наименее литературное. Однако, поднятая на колоннах ораторского монументализма и монументализма делопроизводственного, летопись вознеслась до самых вершин литературного творчества. Она стала искусством искусственности.
Как наставления по отношению к правителям государств могут рассматриваться не только «Тайная тайных», «Стефанит и Ихнилат», «Повесть о царице Динаре», многие произведения Максима Грека, послания старца Филофея и «Сказание о князьях владимирских» – последние с изложением теорий (не всегда сходных) права русских государей на престол и на их роль в мировой истории, но и хронографы и хроники, летописи и летописцы. По-разному трактуемая государственная власть все же всегда ставится высоко, повсюду утверждается авторитет государя, всюду утверждается ответственность государей перед страной, подданными и мировой историей, право на вмешательство в судьбы мира. С одной стороны, это разрушало старые представления о великом князе как о простом собственнике людей и земель, но, с другой, возвышая власть государя до единственного представителя и защитника православия после падения независимости всех православных государств, создавало предпосылки для уверенности московских государей в своей полной непогрешимости и праве вмешиваться даже во все мелочи частной жизни.
Поучения, наставления, советы, концепции происхождения рода и власти московских государей не только ставили власть под контроль общественности, но и одновременно внушали московским государям мысль об их полной бесконтрольности, создавали идеологические предпосылки для будущего деспотизма Ивана Грозного.
О «негромкости голоса» древнерусской литературы. Это вовсе не в укор ей сказано. Громкость иногда мешает, раздражает. Она навязчива, бесцеремонна. Я всегда предпочитал «негромкую поэзию». А о красоте древнерусской «негромкости» вспоминается мне следующий случай. На одной из конференций сектора древнерусской литературы Пушкинского Дома, где были доклады по древнерусской музыке, выступил Иван Никифорович Заволоко – ныне покойный. Он был старообрядец, кончил пражский Карлов университет, прекрасно знал языки и классическую европейскую музыку, манеру исполнения вокальных произведений. Но и древнерусское пение он очень любил, знал, сам пел. И вот он показал, как надо петь по крюкам. А надо было не выделяться в хоре, петь вполголоса. И, стоя на кафедре, он спел несколько произведений XVI–XVII веков. Он пел один, но как участник хора. Тихо, спокойно, самоуглубленно. Это был живой контраст манере исполнения древнерусских произведений некоторыми из хоров сейчас.
И в литературе авторы умели себя сдерживать. Не сразу и разглядишь такую красоту. Вспомните рассказ «Повести временных лет» о смерти Олега, рассказ о взятии Рязани Батыем, «Повесть о Петре и Февронии Муромских». И сколько еще этих скромных, «тихих» рассказов, так сильно действовавших на своих читателей!
Что касается до Аввакума, то он на грани Нового времени.
Поразительно «сопереживание» протопопа Аввакума. По поводу потери сына боярыни Морозовой Аввакум пишет ей: «Тебе уже неково чётками стегать и не на ково поглядеть, как на лошадки поедет, и по головки погладить – помнишь ли как бывало?» До физиологичности четко передано ощущение отсутствия сына: некого по головке погладить! Тут и виден Аввакум-художник.
Литература Нового времени восприняла (отчасти незаметно для самой себя) многие черты и особенности литературы древней. Прежде всего – ее сознание ответственности перед страной, ее учительный, нравственный и государственный характер, ее восприимчивость к литературам других народов, ее уважение и заинтересованность в судьбах других народов, вошедших в орбиту Русского государства, ее отдельные темы и нравственный подход к этим темам.
«Русская классическая литература» – это не просто «литература первого класса» и не литература как бы «образцовая», ставшая классически безупречной благодаря своим высоким чисто литературным достоинствам.
Все эти достоинства, конечно, есть в русской классической литературе, но это далеко не все. Эта литература обладает и своим особым «лицом», «индивидуальностью», характерными для нее признаками.
И я бы прежде всего отметил, что творцами русской классической литературы выступали авторы, обладавшие громадной «общественной ответственностью».
Русская классическая литература – не развлекательная, хотя увлекательность ей свойственна в высокой мере. Это увлекательность особого свойства: она определяется предложением читателю решать сложные нравственные и общественные проблемы – решать вместе: и автору, и читателям.
Лучшие произведения русской классической литературы никогда не предлагают читателям готовых ответов на поставленные общественно-нравственные вопросы. Авторы не морализируют, а как бы обращаются к читателям: «Задумайтесь!», «Решите сами!», «Смотрите, что происходит в жизни!», «Не прячьтесь от ответственности за все и за всех!» Поэтому ответы на вопросы даются автором вместе с читателями.
Русская классическая литература – это грандиозный диалог с народом, с его интеллигенцией в первую очередь. Это обращение к совести читателей.
Нравственно-общественные вопросы, с которыми русская классическая литература обращается к читателям, – не временные, не сиюминутные, хотя они и имели особое значение для своего времени. Благодаря своей «вечности» вопросы эти имеют такое большое значение для нас и будут его иметь для всех последующих поколений.
Русская классическая литература вечно живая, она не становится историей, «историей литературы» только. Она беседует с нами, ее беседа увлекательна, возвышает нас и эстетически, и этически, делает нас мудрее, приумножает нашу жизненную опытность, позволяет нам пережить вместе с ее героями «десять жизней», испытать опыт многих поколений и применить его в своей собственной жизни. Она дает нам возможность испытать счастье жить не только «за себя», но и за многих других – за «униженных и оскорбленных», за «маленьких людей», за безвестных героев и за моральное торжество высших человеческих качеств…
Истоки этого гуманизма русской литературы – в ее многовековом развитии, когда литература становилась иногда единственным голосом совести, единственной силой, определявшей национальное самосознание русского народа, – литература и близкий ей фольклор. Это было в пору феодальной раздробленности, в пору чужеземного ига, когда литература, русский язык были единственными связующими народ силами.
Русская литература всегда черпала свои огромные силы в русской действительности, в общественном опыте народа, но помощью ей служили и иноземные литературы; сперва византийская, болгарская, чешская, сербская, польская, античная литературы, а с Петровской эпохи – все литературы Западной Европы.
Литература нашего времени выросла на основе русской классической литературы.
Усвоение классических традиций – характерная и очень важная черта современной литературы. Без усвоения лучших традиций не может быть движения вперед. Нужно только, чтобы не было пропущено, забыто, упрощено в этих традициях все наиболее ценное.
Мы ничего не должны растерять из нашего великого наследия.
«Книжное чтение» и «почитание книжное» должны сохранить для нас и для будущих поколений свое высокое назначение, свое высокое место в нашей жизни, в формировании наших жизненных позиций, в выборе этических и эстетических ценностей, в том, чтобы не дать замусорить наше сознание различного рода «чтивом» и бессодержательной, чисто развлекательной безвкусицей.
Суть прогресса в литературе состоит в расширении эстетических и идейных «возможностей» литературы, создающихся в результате «эстетического накопления», накопления всяческого опыта литературы и расширения ее «памяти».
Произведения большого искусства всегда допускают несколько объяснений, одинаково правильных. Это удивительно и не всегда даже понятно. Приведу примеры.
Особенности стиля, миропонимания, отраженные в произведениях, могут быть одновременно и со всею полнотою объяснены, истолкованы с точки зрения биографии писателя, с точки зрения движения литературы (ее «внутренних законов»), с точки зрения развития стиха (если это касается стихов) и, наконец, с точки зрения исторической действительности – не только одномоментно взятой, но «развернутой в действии». И это касается не только литературы. Аналогичные явления я замечал в развитии зодчества и живописи. Жаль, что я плохо знаком с музыкой и историей философии.
Более ограниченно, по преимуществу в идеологическом аспекте, литературное произведение объясняется в плане истории общественной мысли (здесь меньше объяснений стиля произведений). Недостаточно сказать, что всякое произведение искусства следует объяснять в «контексте культуры». Это можно, это правильно, но не все к этому сводится. Дело в том, что произведение в одинаковой мере может быть объяснено и в «контексте самого себя». Иначе говоря (и я не боюсь произнести этого) – имманентно, подвергнуться объяснению как замкнутая система. Дело в том, что «внешнее» объяснение произведения искусства (исторической обстановкой, влиянием эстетических воззрений своего времени, историей литературы – ее положением в момент написания произведения и пр.) – в известной мере «расчленяет» произведение; комментирование и объяснение произведения в той или иной мере дробит произведение, упускает из внимания целое. Даже если говорить о стиле произведения и при этом стиль понимать ограниченно – в пределах формы, – то и стилевое объяснение, упуская из виду целое, не может дать полного объяснения произведения как эстетического феномена. Поэтому всегда остается потребность рассматривать любое произведение искусства как некое единство, проявление эстетико-идеологического сознания.
В литературе движение вперед совершается как бы в больших скобках, охватывающих целую группу явлений: идей, стилистических особенностей, тем и т. п. Новое входит вместе с новыми жизненными фактами, но как определенная совокупность. Новый стиль, стиль эпохи, – это часто новая группировка старых элементов, входящих между собой в новые сочетания. При этом доминирующее положение начинают занимать явления, державшиеся ранее на второстепенных позициях, а то, что считалось ранее первостепенным, отступает в тень.
Когда крупный поэт пишет о чем-либо, важно не только чту он пишет и как, но и то, что пишет именно он. Текст не безразличен к тому, кто его написал, в какую эпоху, в какой стране и даже к тому – кто его произносит и в какой стране. Поэтому-то крайне ограничена в своих выводах американская «критическая школа» в литературоведении.
В Завете святого Ремигия Хлодвигу: «Incende quod adorasti. Adora quod incendisti». «Сожги то, чему поклонялся, поклонись тому, что сжигал». Ср. в «Дворянском гнезде» в устах Михалевича:
И я сжег все, чему поклонялся,
Поклонился всему, что сжигал.
Как это дошло от Ремигия до Тургенева? А ведь не выяснив этого, нельзя об этом даже писать в литературоведческих комментариях.
Темы книг: действительность как потенциальная литература и литература как потенциальная действительность (последняя тема требует научного остроумия).
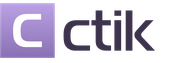










Характеристика творчества и основные черты стиля г
Высокопоставленные наследникичем занимаются жены и дети российского премьера, его заместителей и полпредов президента
Молитвы об учебе и успешной сдачи
Приворот на верность жены читать
Сильные заговоры от начальника