Детство
«Детство. Отрочество. Юность» – 1
Лев Николаевич Толстой
Детство
Глава I.
УЧИТЕЛЬ КАРЛ ИВАНЫЧ
12 августа 18..., ровно в третий день после дня моего рождения, в который мне минуло десять лет и в который я получил такие чудесные подарки, в семь часов утра – Карл Иваныч разбудил меня, ударив над самой моей головой хлопушкой – из сахарной бумаги на палке – по мухе. Он сделал это так неловко, что задел образок моего ангела, висевший на дубовой спинке кровати, и что убитая муха упала мне прямо на голову. Я высунул нос из‑под одеяла, остановил рукою образок, который продолжал качаться, скинул убитую муху на пол и хотя заспанными, но сердитыми глазами окинул Карла Иваныча. Он же, в пестром ваточном халате, подпоясанном поясом из той же материи, в красной вязаной ермолке с кисточкой и в мягких козловых сапогах, продолжал ходить около стен, прицеливаться и хлопать.
«Положим, – думал я, – я маленький, но зачем он тревожит меня? Отчего он не бьет мух около Володи ной постели? вон их сколько! Нет, Володя старше меня; а я меньше всех: оттого он меня и мучит. Только о том и думает всю жизнь, – прошептал я, – как бы мне делать неприятности. Он очень хорошо видит, что разбудил и испугал меня, но выказывает, как будто не замечает... противный человек! И халат, и шапочка, и кисточка – какие противные!»
В то время как я таким образом мысленно выражал свою досаду на Карла Иваныча, он подошел к своей кровати, взглянул на часы, которые висели над нею в шитом бисерном башмачке, повесил хлопушку на гвоздик и, как заметно было, в самом приятном расположении духа повернулся к нам.
– Auf, Kinder, auf!.. s"ist Zeit. Die Mutter ust schon im Saal , – крикнул он добрым немецким голосом, потом подошел ко мне, сел у ног и достал из кармана табакерку. Я притворился, будто сплю. Карл Иваныч сначала понюхал, утер нос, щелкнул пальцами и тогда только принялся за меня. Он, посмеиваясь, начал щекотать мои пятки. – Nun, nun, Faulenzer! – говорил он.
Как я ни боялся щекотки, я не вскочил с постели и не отвечал ему, а только глубже запрятал голову под подушки, изо всех сил брыкал ногами и употреблял все старания удержаться от смеха.
«Какой он добрый и как нас любит, а я мог так дурно о нем подумать!»
Мне было досадно и на самого себя и на Карла Иваныча, хотелось смеяться и хотелось плакать: нервы были расстроены.
– Ach, lassen sie , Карл Иваныч! – закричал я со слезами на глазах, высовывая голову из‑под подушек.
Карл Иваныч удивился, оставил в покое мои подошвы и с беспокойством стал спрашивать меня: о чем я? не видел ли я чего дурного во сне?.. Его доброе немецкое лицо, участие, с которым он старался угадать причину моих слез, заставляли их течь еще обильнее: мне было совестно, и я не понимал, как за минуту перед тем я мог не любить Карла Иваныча и находить противными его халат, шапочку и кисточку; теперь, напротив, все это казалось мне чрезвычайно милым, и даже кисточка казалась явным доказательством его доброты. Я сказал ему, что плачу оттого, что видел дурной сон, – будто maman умерла и ее несут хоронить. Все это я выдумал, потому что решительно не помнил, что мне снилось в эту ночь; но когда Карл Иваныч, тронутый моим рассказом, стал утешать и успокаивать меня, мне казалось, что я точно видел этот страшный сон, и слезы полились уже от другой причины.
Когда Карл Иваныч оставил меня и я, приподнявшись на постели, стал натягивать чулки на свои маленькие ноги, слезы немного унялись, но мрачные мысли о выдуманном сне не оставляли меня. Вошел дядька Николай – маленький, чистенький человечек, всегда серьезный, аккуратный, почтительный и большой приятель Карла Иваныча. Он нес наши платья и обувь. Володе сапоги, а мне покуда еще несносные башмаки с бантиками. При нем мне было бы совестно плакать; притом утреннее солнышко весело светило в окна, а Володя, передразнивая Марью Ивановну (гувернантку сестры), так весело и звучно смеялся, стоя над умывальником, что даже серьезный Николай, с полотенцем на плече, с мылом в одной руке и с рукомойником в другой, улыбаясь, говорил:
– Будет вам, Владимир Петрович, извольте умываться.
Я совсем развеселился.
– Sind sie bald fertig? – послышался из классной голос Карла Иваныча.
Голос его был строг и не имел уже того выражения доброты, которое тронуло меня до слез. В классной Карл Иваныч был совсем другой человек: он был наставник. Я живо оделся, умылся и, еще с щеткой в руке приглаживая мокрые волосы, явился на его зов.
Карл Иваныч, с очками на носу и книгой в руке, сидел на своем обычном месте, между дверью и окошком. Налево от двери были две полочки: одна – наша, детская, другая – Карла Иваныча, собственная . На нашей были всех сортов книги – учебные и неучебные: одни стояли, другие лежали. Только два больших тома «Histoire des voyages» , в красных переплетах, чинно упирались в стену; а потом пошли длинные, толстые, большие и маленькие книги, – корочки без книг и книги без корочек; все туда же, бывало, нажмешь и всунешь, когда прикажут перед рекреацией привести в порядок библиотеку, как громко называл Карл Иваныч эту полочку. Коллекция книг на собственной если не была так велика, как на нашей, то была еще разнообразнее. Я помню из них три: немецкую брошюру об унавоживании огородов под капусту – без переплета, один том истории Семилетней войны – в пергаменте, прожженном с одного угла, и полный курс гидростатики. Карл Иваныч большую часть своего времени проводил за чтением, даже испортил им свое зрение; но, кроме этих книг и «Северной пчелы», он ничего не читал.
В числе предметов, лежавших на полочке Карла Иваныча, был один, который больше всего мне его напоминает. Это – кружок из кардона, вставленный в деревянную ножку, в которой кружок этот подвигался посредством шпеньков. На кружке была наклеена картинка, представляющая карикатуры какой‑то барыни и парикмахера. Карл Иваныч очень хорошо клеил и кружок этот сам изобрел и сделал для того, чтобы защищать свои слабые глаза от яркого света.
Как теперь вижу я перед собой длинную фигуру в ваточном халате и в красной шапочке, из‑под которой виднеются редкие седые волосы. Он сидит подле столика, на котором стоит кружок с парикмахером, бросавшим тень на его лицо; в одной руке он держит книгу, другая покоится на ручке кресел; подле него лежат часы с нарисованным егерем на циферблате, клетчатый платок, черная круглая табакерка, зеленый футляр для очков, щипцы на лоточке. Все это так чинно, аккуратно лежит на своем месте, что по одному этому порядку можно заключить, что у Карла Иваныча совесть чиста и душа покойна.
Бывало, как досыта набегаешься внизу по зале, на цыпочках прокрадешься наверх, в классную, смотришь – Карл Иваныч сидит себе один на своем кресле и с спокойно‑величавым выражением читает какую‑нибудь из своих любимых книг. Иногда я заставал его и в такие минуты, когда он не читал: очки спускались ниже на большом орлином носу, голубые полузакрытые глаза смотрели с каким‑то особенным выражением, а губы грустно улыбались. В комнате тихо; только слышно его равномерное дыхание и бой часов с егерем.
Бывало, он меня не замечает, а я стою у двери и думаю: «Бедный, бедный старик! Нас много, мы играем, нам весело, а он – один‑одинешенек, и никто‑то его не приласкает. Правду он говорит, что он сирота. И история его жизни какая ужасная! Я помню, как он рассказывал ее Николаю, – ужасно быть в его положении!» И так жалко станет, что, бывало, подойдешь к нему, возьмешь за руку и скажешь: «Lieber Карл Иваныч!» Он любил, когда я ему говорил так; всегда приласкает, и видно, что растроган.
На другой стене висели ландкарты, все почти изорванные, но искусно подкленные рукою Карла Иваныча. На третьей стене, в середине которой была дверь вниз, с одной стороны висели две линейки: одна – изрезанная, наша, другая – новенькая, собственная , употребляемая им более для поощрения, чем для линевания; с другой – черная доска, на которой кружками отмечались наши большие проступки и крестиками – маленькие. Налево от доски был угол, в который нас ставили на колени.
Как мне памятен этот угол! Помню заслонку в печи, отдушник в этой заслонке и шум, который он производил, когда его поворачивали. Бывало, стоишь, стоишь в углу, так что колени и спина заболят, и думаешь: «Забыл про меня Карл Иваныч: ему, должно быть, покойно сидеть на мягком кресле и читать свою гидростатику, – а каково мне?» – и начнешь, чтобы напомнить о себе, потихоньку отворять и затворять заслонку или ковырять штукатурку со стены; но если вдруг упадет с шумом слишком большой кусок на землю – право, один страх хуже всякого наказания. Оглянешься на Карла Иваныча, – а он сидит себе с книгой в руке и как будто ничего не замечает.
В середине комнаты стоял стол, покрытый оборванной черной клеенкой, из‑под которой во многих местах виднелись края, изрезанные перочинными ножами. Кругом стола было несколько некрашеных, но от долгого употребления залакированных табуретов. Последняя стена была занята тремя окошками. Вот какой был вид из них: прямо под окнами дорога, на которой каждая выбоина, каждый камешек, каждая колея давно знакомы и милы мне; за дорогой – стриженая липовая аллея, из‑за которой кое‑где виднеется плетеный частокол; через аллею виден луг, с одной стороны которого гумно, а напротив лес; далеко в лесу видна избушка сторожа. Из окна направо видна часть террасы, на которой сиживали обыкновенно большие до обеда. Бывало, покуда поправляет Карл Иваныч лист с диктовкой, выглянешь в ту сторону, видишь черную головку матушки, чью‑нибудь спину и смутно слышишь оттуда говор и смех; так сделается досадно, что нельзя там быть, и думаешь: «Когда же я буду большой, перестану учиться и всегда буду сидеть не за диалогами, а с теми, кого я люблю?» Досада перейдет в грусть, и, Бог знает отчего и о чем, так задумаешься, что и не слышишь, как Карл Иваныч сердится за ошибки.
Введение
На литературном небосклоне Лев Николаевич Толстой является звездой первой величины. "Кресло Толстого стоит пустое. В мировой литературе, в нашей нынешней также некому пока сравниться с Толстым", - этот вывод сделан советским писателем Л. Леоновым в его "Слове о Толстом".
Лев Николаевич Толстой оставил великое художественное наследство, вошедшее в сокровищницу не только русской, но и мировой литературы. Гениальный художник, страстный моралист, он, может быть, как никто из русских писателей явился совестью нации. Каких бы сторон жизни ни касался этот выдающийся человек в своих произведениях, живописал он небывало глубоко, по-человечески мудро и просто. Но Толстой вошел в историю духовной жизни не только как великий художник, но и как своеобразный мыслитель. ХIХ век ни в России, ни в Европе не знал другого такого могучего, страстного и горячего "искателя правды". И это величие личности Толстого отразилось как на его мысли, так и на всей его жизни
Детство, отрочество, юность
В усадьбе Ясная Поляна, находящейся в четырнадцати верстах от старинного русского города Тулы, 28 августа (11 сентября) 1828 года родился гениальный русский писатель Лев Николаевич Толстой.
Семья Толстых принадлежала к высшей аристократической знати России. Отец Толстого - граф Николай Ильич - мечтательный юноша, единственный сын своих родителей, вопреки желанию родных, 17 лет поступил на военную службу, и в течение ряда лет он участвовал во многих сражениях Отечественной войны 1812 года. По выходе в отставку женился и поселился в имении своей жены в Ясной Поляне, где занимался хозяйством. Мать Толстого - Мария Николаевна - единственная дочь князя Н.С. Волконского, была образованной женщиной своего времени. Большую часть своей юности она провела в Ясной Поляне в имении своего отца. Супруги жили счастливо: Николай Ильич с большим уважением относился к своей жене и был ей предан; Мария Николаевна же испытывала к мужу искреннюю привязанность как к отцу своих детей. А их у Толстых родилось пятеро: Николай, Дмитрий, Сергей, Лев и Мария.
Мария Николаевна умерла вскоре после рождения дочери Марии, когда ее младшему сыну Левушке не было и двух лет. Он ее совсем не помнил и, вместе с тем, в душе своей создал чудный образ матери, который любил всю жизнь. "Она представлялась мне таким высоким, чистым, духовным существом, что часто в средний период моей жизни, во время борьбы с одолевшими меня искушениями, я молился ее душе прося ее помочь мне, и эта молитва всегда помогала мне", - писал Толстой уже в зрелом возрасте.
Беззаботно и радостно протекала жизнь Л.Н. Толстого в Ясной Поляне в детские годы. Любознательный мальчик жадно впитывал в себя впечатления от богатой яснополянской природы и окружающих его людей. Любил Левочка в детстве читать книги. Он увлекался стихами Пушкина, баснями Крылова. Любовь к Пушкину Толстой сохранил на всю жизнь и называл его своим учителем.
Маленький Толстой был очень чувствителен. Детские огорчения Левочки вызывали в нем, с одной стороны, чувство умиления, с другой, - стремление разгадать тайны жизни, и эти стремления остаются в нем на всю жизнь.
С самого раннего детства Толстого в Ясной Поляне, кроме родных и близких, окружали дворовые (слуги) и крестьяне. Они оказывали большое влияние на Толстого; они сближали его с народом, невольно заставляли его задумываться над вопросом, почему жизнь устроена так несправедливо, что богатые дворяне владели землей и крепостными людьми, сами жили в праздной роскоши, а крепостные крестьяне должны были работать на дворян, жить в нужде и всегда подчиняться своим господам.
Николай Ильич решил перевезти детей в Москву, там было больше возможности дать им образование. Толстому было девять лет, когда он впервые уехал из Ясной Поляны. В дальнейшем Л.Н. Толстому часто приходилось ездить на экипажах из Ясной Поляны в Москву и обратно. Впечатления от этих поездок были так сильны и ярки, что они нашли свое яркое отражение в "Детстве", "Отрочестве".
Вскоре после переезда семьи в Москву умирает отец. Менее чем через год после смерти Николая Ильича скончалась графиня Пелагея Николаевна, так и не сумевшая смириться с потерей сына. Дети Толстые остались круглыми сиротами. Над ними была назначена опека. Сначала их опекуншей была ближайшая родственница - добрая и глубоко религиозная Александра Ильинична Остен-Сакен; а после ее смерти, последовавшей в 1841 году, другая тетка, Пелагея Ильинична Юшкова - женщина хотя и недалекая, однако пользовавшаяся в аристократическом кругу большим уважением, во многом благодаря своему мужу Владимиру Ивановичу Юшкову. Жили Юшковы в Казани, куда дети и были отправлены. Но самым близким человеком для детей Толстых становится Татьяна Александровна Ергольская - дальняя родственница по линии отца. Это была небогатая, довольно привлекательная женщина, всю свою жизнь нежно любившая Николая Ильича. "Главная черта ее была любовь, но как бы я ни хотел, чтобы это было иначе - любовь к одному человеку - к моему отцу, - писал о ней Лев Николаевич. Только уже исходя из этого центра, любовь ее разливалась и на всех людей". Т.А. Ергольская в Казань вместе с детьми Толстыми не поехала.
Весной 1844 года 16-летний Толстой держит экзамен в Казанский университет на арабо-турецкое отделение восточного факультета, с намерением стать дипломатом. Одевшись в шинель с бобрами, в белых перчатках и треуголке, Толстой явился в Казанский университет настоящим джентльменом. С этого времени начинается его светская жизнь.
Толстого захватывала буйная шумная светская жизнь. И светлые детские грезы, и неясные мечты - все утонуло в этом водовороте казанской жизни. Но чем больше он находился среди шумного и праздного общества, тем все чаще юноша Толстой оставался одиноким, ему все больше становился не по душе этот образ жизни.
Рушатся и религиозные представления Толстого в это время. "Я с шестнадцати лет перестал становиться на молитву и перестал по собственному побуждению ходить в церковь и говеть", - вспоминал он в "Исповеди". Светская жизнь его утомляет и не удовлетворяет, он все больше и больше задумывается над фальшью жизни окружающих его, он начинает испытывать душевную тревогу.
Не имея склонности к дипломатии, Толстой через год после поступления в университет решил перевестись на юридический факультет, считая, что юридические науки более полезны для общества.
С большим интересом он слушает в университете лекции магистра гражданского права Д. Мейера - сторонника Белинского, сторонника передовых идей. Идеи Белинского, его статьи о литературе проникали в стены и Казанского университета и оказывали свое благотворное влияние на молодежь. Толстой с увлечением читал русскую художественную литературу, по душе ему были Пушкин, Гоголь, из зарубежной литературы - Гете, Жан Жака Руссо. В книгах Толстой ищет ответы на волнующие его вопросы. Не ограничиваясь прочтением той или иной книги, он ведет записи по поводу прочитанного.
Но и юридические науки не могли удовлетворить Толстого. Перед ним встают новые и новые вопросы, на которые он не мог получить ответа в университете.
В конце своего пребывания в университете Толстой от случайных записей в тетрадях переходит к систематическому ведению дневника. В дневниках он излагает правила жизни, которым считает необходимым следовать: "1) Что назначено непременно исполнить, то исполняй, несмотря ни на что. 2) Что исполняешь, исполняй хорошо. 3) Никогда не справляйся в книге, ежели чего-нибудь забыл, а старайся сам припомнить". Наряду с составлением правил жизни Толстой задумывается и над вопросом цели жизни человека. Цель своей жизни он определяет так: "…сознательное стремление к всестороннему развитию всего существующего"
В 1847 году, находясь на последнем курсе, Толстой покидает университет. Главное, что побудило его это сделать, как он сам об этом говорит, - это желание посвятить себя жизни в деревне, стремление делать добро и любить его.
По приезде Толстого в Ясную Поляну состоялся раздел между братьями отцовского наследства. 19-летнему Льву Николаевичу, как младшему из братьев, досталась Ясная Поляна. Толстой, молодой хозяин-помещик со всей страстностью стремиться поправить свое пошатнувшееся хозяйство. В деревне Толстой продолжает вести свой дневник. Характерной чертой дневников писателя и в это время является непосредственность, глубокая искренность и правдивость. В них он уделял много внимания самоанализу, бичевал свою праздную жизнь, свои недостатки. Но жизнь в деревне все же не могла полностью удовлетворить писателя и заполнить его интересов. В начале 1849 года Толстой уезжает в Москву, а затем в Петербург, где с головой ушел "в безалаберную" жизнь светского молодого человека "без службы, без занятий, без цели". Особенно его привлекал "процесс истребления денег" за карточным столом. Чтобы положить конец такому образу жизни, Толстой решает уехать на Кавказ. И в апреле 1851 года отправляется вместе со своим братом - офицером Николаем Николаевичем, получившим туда назначение.
«Поэтическая идея» в трилогии Л. Н. Толстого «Детство», «Отрочество», «Юность»
А. Ф. Цирулев
Когда осенью 1852 года в редакции «Современника» было принято знаменательное решение опубликовать рукопись неизвестного автора под названием «История моего детства», реакция самого создателя произведения на это событие была достаточно противоречивой. С одной стороны, Л. Толстой с огромной радостью воспринял весть о публикации своего первенца, а с другой - он был чрезвычайно раздосадован тем, какое название дали его литературному детищу, и писал по этому поводу Н. А. Некрасову: «. заглавие же «История моего детства» противоречит с мыслью сочинения. Кому какое дело до истории моего детства» . Это заявление Л. Толстого, а также другие его слова: «. замысел мой был описать историю не свою, а моих приятелей детства» , - нередко приводятся целым рядом критиков в качестве доказательство того, что молодой писатель в «Детстве», «Отрочестве», «Юности» воспроизвел не себя и свой личностный опыт, а жизнь некоего абстрактного мальчика, то есть дал не субъективированный «рассказ о себе», а объективированное изображение судьбы другого лица (Н. П. Лощинин , Е. Н. Купреянова , Н. Г. Дергунова и др.).
На самом деле, Л. Толстой, как нам представляется, показал в «Детстве», «Отрочестве», «Юности» не чей-нибудь, а именно свой личностный духовный опыт и воссоздал картину собственных неповторимых поисков истины. При этом рамки художественной автобиографии ничуть не помешали ему объективировать свою «исповедь» и придать интимноличностному повествованию характер широкого художественного обобщения. Обращаясь к показу «я», рисуя «диалектику души» Иртеньева,
27Л. Толстой ставит перед собой цель - воспроизвести главнейшие ступени становления и развития всякой личности вообще. Такая уникальная форма подачи жизненного материала понадобилась молодому автору для того, чтобы высветить особую идею, овладевшую его сознанием и побудившую его к созданию своего автобиографического творения. С тех пор, как Л. Н. Толстой научился думать, (а произошло это очень рано), его, как свидетельствуют записи в дневниках, поразила мысль о том, что мир «лежит во зле». В результате многолетних юношеских раздумий, и особенно во время пребывания на Кавказе, Л. Толстой приходит к философско- этической доктрине, которая так или иначе будет определять его миросозерцание до самых последних дней жизни. Молодой мыслитель проникается убеждением в том, что проблема зла не может быть решена внешними (социальными) средствами. Она - прерогатива для внутренней, моральной деятельности самого человека. Если революционеры-демократы вслед за Белинским были склонны видеть источник всех бед людских в «среде» и социальных условиях, определяющих деятельность человека, то Л. Толстой придерживается иной концепции. По его мнению, индивидуум может быть счастлив только при условии добродетельного, высоконравственного поведения. Толстой-философ настаивает на различении двух родов счастья «счастья тщеславия» и «счастья добродетели». Первое, по его мысли, есть счастье ложное, подверженное превратностям судьбы. Второе - истинное и несомненное, ибо оно зависит лишь от самого человека, от того, насколько он тверд и упорен в следовании высоким идеалам добра.
Эта нравственно-этическая идея пронизывает собой всю текстуальную ткань толстовской «исповеди». В соответствии с ней детство обрисовано как эпоха торжества доброго и светлого начала в душе ребенка. Отрочество показана как пора морального кризиса, когда положительная сущность характера заволакивается чувствами и устремлениями, имеющими эгоистическую подоплеку. А юность представлена в чертах восстановления природного добра и созревания высоких, добродетельных планов самоусовершенствования. Надо заметить, что нравственно-этический план толстовской автобиографии освещен в нашей критике с завидной полнотой. Свидетельство этому - работы Б. М. Эйхенбаума , Н. П. Пузина, Т. Н. Архангельской , В. И. Гусева , В. Д. Берестова , Я. С. Билинки- са , К. Н. Ломунова , И. В. Чуприны , И. К. Кузьмичева , А. В. Гулина и многих других.
Однако этическим аспектом идейное содержание «Детства», «Отрочества», «Юности», на наш взгляд, вовсе не исчерпывается. Глубинная идейно-философская концепция произведения значительно богаче, значительно объемнее, чем собственно нравственно-этическая ее линия. С помощью «чистой этики» невозможно объяснить наличие многих эпизодов, включенных в сюжетную ткань этой удивительной книги. Взять, к примеру, материал повести «Детство». В XV главе ее, под названием «Детство», собственно нравственный аспект, можно сказать, заретуширован. На передний план здесь выдвигаются моменты, связанные с показом красоты и значительности детских впечатлений. В фокусе внимания автора находится образ maman, от которой к сердцу Николеньки будто тянутся лучи доброты, тепла и бесконечной нежности. В главе XIX «Ивины» основу повествования образует анализ растущих симпатий малыша к Сереже Ивину. Автор рисует тончайшую гамму переживаний, через которые раскрывается сложное и противоречивое отношение Николеньки к гордому, красивому и уверенному в себе отпрыску знатной фамилии. В главах «Собираются гости» (XX), «До мазурки» (XXI), «Мазурка» (XXII), «После мазурки» (XXIII) мы видим историю первого «романтического» увлечения автогероя. Перед нами - спектр чувствований Николеньки по поводу общения с очаровательной Сонечкой Валахиной. Здесь Л. Толстой «не упускает из виду» нравственно-этическую, очень важную для него, линию, однако главный акцент делает все-таки не на ней, а на описании поэтичности и значимости зарождающихся «движений сердца», на том, чтобы высветить тот «огненный восторг», который постепенно увлекает за собой впечатлительную душу Иртеньева. Таким образом, в произведении соседствуют и переплетаются между собой две повествовательные струи, две пласта художественного анализа. С одной стороны - история душевных движений в их отношении к неизбывной красоте и поэзии детства. А с другой - история созревания нравственных чувств, борьбы темного и светлого начал в сознании автобиографического героя. толстой детство отрочество идейный
Исходя из вышесказанного, мы с достаточной долей основания можем предположить, что центральная, организующая идея толстовского «автопортрета» носит сложный, двуединый характер, поскольку основу ее образует органический симбиоз этического и «поэтического».
Для того чтобы внушить читателю особенное - добродетельное отношение к жизни, - автор трилогии стремится в первую очередь передать ему свое исключительно восторженное, любовное отношение к жизни к той волшебной поре, которая составляет детство, отрочество и юность человека. Иными словами, Л. Толстой всем строем своего сочинения, всей системой изобразительных средств реализует свою так называемую «поэтическую идею». Последняя понимается нами как несомненное признание Толстым значимости, красоты и ценности бытия, которое он описывает в своей «исповеди» и которое «сопровождает» Николеньку от первых до последних страниц произведения. Вся автобиография проникнута (наряду с ее этической направленностью) духом откровенного преклонения перед Жизнью, перед ее различными формами и проявлениями. Автор «Детства», «Отрочества», «Юности» поет величественный гимн человеческому бытию. Он выступает как тонкий поэт всего сущего и учит своего читателя «полюблять жизнь» (термин самого Толстого) и уметь ценить каждое ее мгновение. «Жизнь прекрасна» - эта мысль, высказанная Н.Г. Чернышевским в его знаменитой диссертации, можно сказать, пронизывает собой всю ткань толстовского жизнеописания. Автор трилогии всем строем своего повествования учит относиться к детству, отрочеству, юности как к замечательной, прекрасной поре жизни, которой следует удивляться, которой следует восторгаться и которую должно воспринимать как безусловное благо. С отсечением эпизодов и фрагментов, связанных с поэтизацией детства, трилогия распадется как единое художественное целое и превратится в некий философско-поэтический трактат. Думается, что совсем не случайно Ф. М. Достоевский называл повести «Детство» и «Отрочество» «поэмами» , а П. В. Анненков характеризовал художественную манеру гр. Толстого как «поэтический реализм» . Рецензент «Отечественных записок» С. С. Дудышкин, определяя художественную доминанту толстовской автобиографии, подчеркивал: «Давно не случалось читать нам произведения более прочувствованного, более благородного, более проникнутого симпатией к тем явлениям действительности, за изображение которых взялся автор . Н. Н. Страхов в качестве самой оригинальной приметы произведений Толстого о детстве называл их «душевную теплоту и силу», благодаря которым «красота жизни уловлена с необыкновенной ясностью» .
Все эти высказывания, как можно заметить, отчетливо указывают на особенную роль «поэтического» пласта в толстовском жизнеописании. Xа- рактерно, что сам Л. Толстой, на склоне лет вспоминая о своей «юношеской исповеди», обращал внимание не на нравственно-этический пафос, ей присущий, а на поэтическую свежесть своего сочинения, то есть подчеркивал и выделял именно «поэтическую концепцию», которая вдохновила его на рассказ о своих детских годах. «. когда я писал «Детство», то мне представлялось, что до меня никто еще так не почувствовал и не изобразил всю прелесть и поэзию детства» .
В изложении Толстого нравственное и «поэтическое» составляют две грани единого процесса - духовной эволюции Николеньки Иртеньева. На протяжении всего повествования счастливое или, напротив, несчастливое состояние духа, иначе - мироощущение героя, находится в самой неразрывной связи с тем, какое начало - доброе или злое - доминирует в душе главного героя. В соответствии с таким художественным подходом детство показывается писателем как эпоха абсолютной гармонии и счастья ребенка. Корни счастливого мироощущения Николеньки в эту пору таятся в непосредственной свежести его чувств и нравственной «незамутненности» детской души. В «Отрочестве» единение добра и красоты медленно, но неумолимо разрушается. Затмение добра под влиянием различных факторов, в том числе и пробуждения разума, ведет к страданиям подростка. Поэтизация жизни присутствует и в этой повести. Но здесь «поэзия бытия» и «счастье жить» даются как бы в плане обратной перспективы. Авторский рассказ о жизни вокруг Николеньки по-прежнему дышит чувством тепла и приятия, но сам герой этого, увы, не ощущает, поскольку душа его закрыта, отгорожена от мира «нечистыми, самолюбивыми помыслами». «Поэтическое начало» властно заявляет о себе и в заключительной повести трилогии. «Юность» представляет собой вдохновенную поэму о счастье жить, о восторге перед тем, что открывается юноше в его впечатлениях и мечтах. Однако и здесь любовь и счастье заслоняются «комильфотными иллюзиями». Поддавшись позывам эгоизма, погрузившись в сферу светских удовольствий, автобиографический герой утрачивает себя и свое живое чувство слияния с миром. С исправлением в духе морального самоусовершенствования постепенно происходит «возвращение к себе» и появляется перспектива действительного, а не иллюзорного существования.
Таким образом, генеральная идея трилогии реализуется в двух аспектах. С одной стороны, перед нами художественное полотно, насыщенное пафосом жизнелюбия, полное поэзии, красоты и стремления автора «заразить» читателя тягой к жизни, к «таинству существования». А с другой - мы ощущаем неотразимую силу и обаяние «этической устремленности» трилогии. Xудожественную ткань толстовской «исповеди» пронизывает мощная философско-этическая идея, которая так же, как и идея «поэтическая», «держит» на себе все здание знаменитого жизнеописания.
Список литературы
- 1. Анненков П. В. Литературные воспоминания. - М.: Xудож. лит., 1960.
- 2. Берестов В. Д. Три эпохи развития человека // Детская литература. - 1978. - № 9. - С. 19 - 24.
- 3. Билинкис Я. С. У начал нового художественного сознания. (Рождение толстовской трилогии). Восприятие героя в трилогии Л. Н. Толстого «Детство», «Отрочество», «Юность» // Вопросы литературы. - 1966. - № 4. - С. 81 - 92.
- 4. Гулин А. В. Лев Толстой и пути русской истории. - М.: ИМЛИ РАН, 2004.
- 5. Гусев В. И. Испытание веком // Гусев В. И. Сборник литературно-критических статей о Толстом. - М.: Современник, 1982. - С. 8 - 15.
- 6. Дергунова Н. Г. Проблема нравственного формирования личности в повести Л. Н. Толстого «Детство» // Проблемы взаимодействия духовного и светского образования: История и современность. - Н. Новгород: Нижегород. гуманит. центр, 2004. -
- 7. Достоевский Ф. М. Об искусстве. - М.: Искусство, 1973.
- 8. Дудышкин С. С. Русская литература в 1852 году // Отечественные записки. - 1852. - X. - С. 80 - 90.
- 9. Интервью и беседы с Львом Толстым. - М.: Современник, 1986.
- 10. Кузьмичев И. К. «Детство» и его литературная предыстория. К 150-летию со дня рождения Л. Н. Толстого // Волга. - 1978. - № 8. - С. 171 - 187.
- 11. Купреянова Е. Н. Молодой Толстой. - Тула, 1956.
- 12. Ломунов К. Н. Трилогия молодого Толстого // Толстой Л. Н. Детство. Отрочество. Юность. - М.: Просвещение, 1988. - С. 266 - 277.
- 13. Лощинин Н. П. «Детство», «Отрочество», «Юность» Л. Н. Толстого. Проблематика и художественные особенности. (Лекции о Толстом). - Тула, 1955.
- 14. Пузин Н. П., Архангельская Т. Н. Вокруг Толстого. - Тула: Приокское кн. изд-во, 1988.
- 15. Страхов Н. Н. Сочинения гр. Л. Н. Толстого в двух томах // Страхов Н. Н. Литературная критика. - М.: Современник, 1984. - С. 233 - 259.
- 16. Толстой Л. Н. Полн. собр. соч. 1928-1958. - М.: ГЖЛ, 1935. - Т. 59.
- 17. Толстой Л. Н. Собр. соч.: в 12. т. - М.: Правда, 1987.
- 18. Чуприна И. В. Трилогия Л. Н. Толстого «Детство», «Отрочество» и «Юность». - Саратов: Изд-во Саратовского ун-та, 1961. Эйхенбаум Б. М. Молодой Толстой // Эйхенбаум Б. М. О литературе. Работы разных лет. - М.: Сов. писатель, 1987. - С. 34 - 138.
12 августа 18** г. десятилетний Николенька Иртеньев просыпается на третий день после своего дня рождения в семь часов утра. После утреннего туалета учитель Карл Иваныч ведёт Николеньку и его брата Володю здороваться с матушкой, которая разливает чай в гостиной, и с отцом, отдающим в своём кабинете хозяйственные указания приказчику.
· · ✁ · ·
Аудиокнига «Детство».
Слушайте в дороге или на диване.
Бесплатный отрывок:
Купить и скачать аудиокнигуhttps://www.litres.ru/175032/?lfrom=2267795#buy_now_noreg
· · ✃ · ·
Николенька чувствует в себе чистую и ясную любовь к родителям, он любуется ими, делая для себя точные наблюдения: «...в одной улыбке состоит то, что называют красотою лица: если улыбка прибавляет прелести лицу, то оно прекрасно; если она не изменяет его, то лицо обыкновенно; если она портит его, то оно дурно». Для Николеньки лицо матушки - прекрасное, ангельское. Отец в силу своей серьёзности и строгости кажется ребёнку загадочным, но бесспорно красивым человеком, который «нравится всем без исключения».
Отец объявляет мальчикам о своём решении - завтра он забирает их с собой в Москву. Весь день: и учёба в классах под надзором расстроенного от полученного известия Карла Иваныча, и охота, на которую берёт детей отец, и встреча с юродивым, и последние игры, во время которых Николенька чувствует что-то вроде первой любви к Катеньке, - все это сопровождается горестным и печальным чувством предстоящего прощания с родным домом. Николенька вспоминает счастливое время, проведённое в деревне, дворовых людей, беззаветно преданных их семейству, и подробности прожитой здесь жизни предстают перед ним живо, во всех противоречиях, которые пытается примирить его детское сознание.
На другой день в двенадцатом часу коляска и бричка стоят у подъезда. Все заняты приготовлениями к дороге, и Николенька особенно остро чувствует несоответствие важности последних минут перед расставанием и всеобщей суеты, царящей в доме. Вся семья собирается в гостиной вокруг круглого стола. Николенька обнимает мать, плачет и ни о чем не думает, кроме своего горя. Выехав на большую дорогу, Николенька машет матери платком, продолжает плакать и замечает, как слезы доставляют ему «удовольствие и отраду». Он думает о маменьке, и любовью к ней проникнуты все воспоминания Николеньки.
Уже месяц отец с детьми живут в Москве, в бабушкином доме. Хотя Карл Иваныч тоже взят в Москву, детей учат новые учителя. На именины бабушки Николенька пишет свои первые стихи, которые читают прилюдно, и Николенька особенно переживает эту минуту. Он знакомится с новыми людьми: княгиней Корнаковой, князем Иван Иванычем, родственниками Ивиными - тремя мальчиками, почти ровесниками Николеньки. При общении с этими людьми у Николеньки развиваются главные его качества: природная тонкая наблюдательность, противоречивость в собственных чувствах. Николенька часто оглядывает себя в зеркале и не может представить, что его кто-то может любить. Перед сном Николенька делится своими переживаниями с братом Володей, признается, что любит Сонечку Валахину, и в его словах проявляется вся детская неподдельная страстность его натуры. Он признается: «...когда я лежу и думаю о ней, бог знает отчего делается грустно и ужасно хочется плакать».
Через полгода отец получает из деревни письмо от маменьки о том, что она во время прогулки жестоко простудилась, слегла, и силы её тают с каждым днём. Она просит приехать и привезти Володю и Николеньку. Не медля, отец с сыновьями выезжают из Москвы. Самые страшные предчувствия подтверждаются - последние шесть дней маменька уже не встаёт. Она даже не может попрощаться с детьми - её открытые глаза ничего уже не видят... Маменька умирает в этот же день в ужасных страданиях, успев лишь попросить благословения для детей: «Матерь божия, не оставь их!»
На другой день Николенька видит маменьку в гробу и не может примириться с мыслью, что это жёлтое и восковое лицо принадлежит той, кого он любил больше всего в жизни. Крестьянская девочка, которую подносят к покойнице, страшно кричит в ужасе, кричит и выбегает из комнаты Николенька, поражённый горькой истиной и отчаянием перед непостижимостью смерти.
Через три дня после похорон весь дом переезжает в Москву, и со смертью матери для Николеньки заканчивается счастливая пора детства. Приезжая потом в деревню, он всегда приходит на могилу матушки, недалеко от которой похоронили верную до последних дней их дому Наталью Савишну.
III.
"Детство, отрочество, юность"
Повесть "Детство, отрочество и юность" - если не самое первое произведение графа Толстого, то во всяком случае одно из первых. Писалась она впродолжении пяти лет, от 1852 до 1857 года, с значительными, впрочем, перерывами, так как в течении этого же времени начинающим тогда художником были написаны и некоторые другие из его произведений. Повесть эта, рассказанная от лица ее героя, изображает жизнь русского человека помещичьей среды, начиная от первых воспоминаний детства и кончая его юношеским возрастом. Судя по некоторым словам автора, как бы нечаянно сорвавшимся у него в повести, можно думать, что у него был грандиозный план - проследить жизнь человека до самой могилы, описать все возрасты, как описал он детство, отрочество и юность. Так, в одном месте он пишет: "Я убежден в том, что ежели мне суждено прожить до глубокой старости, и рассказ мой догонит мой возраст" и т. д. (I, стр. 240). Если наше предположение верно, то можно от души пожалеть, что граф Толстой не выполнил этого плана. Вышедшая из под его пера книга человеческой жизни, судя по началу ее, могла бы быть смелым и поучительным раскрытием правды этой жизни, особенно интересным потому, что уже по самой задаче она должна бы представить всю эту правду, все содержание жизни от первых проблесков сознания и до потери его в наступающем бессилии смерти и вследствие этого должна бы полно и законченно выразить воззрение художника на жизнь.
Возвращаясь от этих несбывшихся возможностей к действительности, мы прежде всего встречаемся с вопросом об основной идее или замысле рассматриваемой повести. Богатый бытоописательный материал, заключающийся в ней, а еще более господствовавшие одно время в нашей литературе обличительные стремления, заставили некоторых критиков видеть центр тяжести всей повести в изображении помещичьего быта крепостной России. Самый выбор сюжета объяснялся желанием показать те условия, под влиянием которых неизбежно приходилось расти и развиваться в известный характер всякому ребенку привилегированного класса нашего общества. С своей стороны мы охотно признаем, что всякий желающий действительно найдет в повести графа Толстого много характерных черт изображаемого времени и известной общественной среды, что многие лица повести, как, например, отец Николая Иртеньева, его бабушка, немец-учитель - всем известный Карл Иваныч, - несколькими штрихами схваченная Наталья Савишна, Дубков, князь Нехлюдов, имеют несомненное значение типов, принадлежащих определенному времени; но, несмотря на это, нам кажется, что граф Толстой писал свою повесть, подчиняясь иному творческому мотиву, что перед ним стояла задача показать формирующуюся душу человека не в зависимости от тех или других общественно-исторических условий, но в зависимости от присущих ей законов развития; что он хотел представить постепенное изменение жизни, как последствие неизбежных метаморфоз души. Как реалист, он воплотил свою идею в формы действительной жизни тогдашней (т. е. дореформенной) России; как художник, он создал образы, исполненные правды и силы, образы, естественно поднимающиеся до значения типов, - но все это только необходимый для выражения идеи материал, только канва, по которой художник вышивает узоры внутренней жизни человека. За такое предположение говорит прежде всего избранная автором форма повести. Форма эта, как известно, автобиографическая. Для объективного изображения быта эта форма самая неудобная, так как она ставит всегда между изображением и читателем личность рассказчика и заставляет постоянно считаться с его характером (если только рассказчик не безличное и бесхарактерное я, чего нельзя, конечно, сказать про Николая Иртеньева).
Если же художник на первый план выдвигает интерес к внутренней жизни человека, если его задача заключается в изображении того или другого психического состояния, то автобиографическая форма произведения, напротив, является весьма целесообразною, так как позволяет весь рассказ обратить в характеристику героя-рассказчика. И граф Толстой с замечательным искусством воспользовался удобствами избранной им формы. Вчитайтесь в язык, вслушайтесь в тон, всмотритесь в манеру рассказа в отдельных частях повести, соответствующих детству, отрочеству и юности, и вы увидите, что в первой - рассказ этот дышит свежестью и наивною поэзиею детских впечатлений; во второй - вы уже чувствуете первые вспышки еще неосознанных страстей и понятий, вносящих пока только какую-то смутную тревогу в спокойный дотоле мир детской души; в третьей - вы слышите рассказ юноши, постоянно увлекающегося какой-нибудь идеею, постоянно стремящегося осуществить в своем лице того или другого героя и больше всего боящегося простоты и естественности жизни. Но не одна только форма повести подтверждает высказанную нами мысль об ее основной задаче; к тому же заключению приводит и содержание ее, значительную долю которого составляет никогда непокидаемый графом Толстым психологический анализ, направленный в разбираемом произведении на раскрытие тех своеобразных и забытых уже нами душевных состояний, которыми мы жили в детстве и юности.
Фабула повести проста в высшей степени. Можно даже сказать, что она вовсе отсутствует, так как действие повести движется не сцеплением каких-либо внешних событий и обстоятельств, но естественным процессом роста ее героя. Поэтому и мы не будем следить за ходом ее событий, а обратимся прямо к тому достоинству, которое имеет в глазах автора каждый из описанных им возрастов. - Самым гармоническим возрастом, самою счастливою порою в изображении нашего художника является детство. В душе ребенка не возник еще мучительный разлад внутренних противоречий, для него не настало еще время неизбежных сомнений в каждой привязанности, в каждом чувстве; он радуется беззаботными и чистыми радостями, он любит полно и цельно, он жадно ловит еще новые для него впечатления жизни. Все интересно для маленького Николеньки Иртеньева: и Карл Иванович, которого он уже умеет любить, как сироту, как одинокого человека; и папа, в котором является ему безупречный образ того, чем должен быть мужчина, и о возможности осуждения которого ему не приходило в голову еще ни одной мысли; и юродивый Гриша с своими веригами и молитвами; и охота, и лошади, которых он знал в подробности. Но на вершине всех воспоминаний детства, на недосягаемой высоте красоты и поэзии стоит для него образ матери. В образе этом граф Толстой представил ту русскую женщину нашего обеспеченного дворянства - чистую, нежную, строгую к самой себе, безгранично любящую и прощающую, - которая каким-то чудом явилась в нашей жизни среди господствующей грубости и распущенности и которая в наше более "просвещенное" время готова, кажется, отойти в область предания. Этот образ матери замечателен еще и тем, что во всем творчестве графа Толстого это едва ли не единственная личность с идеальным характером. Художник пощадил ее от разлагающего действия своего анализа и, создав ее несколькими легкими штрихами, окружил тем поэтическим сиянием, которое так идет к воспоминаниям сына, еще в детстве потерявшего свою любимую мать.
Сравнивая свое настоящее с давно пережитою порою детства, автор пишет: "Вернутся ли когда-нибудь та свежесть, беззаботность, потребность любви и сила веры, которыми обладаешь в детстве? Какое время может быть лучше того, когда две лучшие добродетели - невинная веселость и беспредельнае потребность любви - были единственными побуждениями в жизни? Где те горячие молитвы? Где лучший дар - те чистые слезы умиления? Прилетал ангел-утешитель, с улыбкой утирал слезы эти и напевал сладкие грезы неиспорченному детскому воображению. Неужели жизнь оставила такие тяжелые следы в моем сердце, что навеки отошли от меня слезы и восторги эти? Неужели остались одни воспоминания?"
Строки эти производят впечатление какой-то сознанной человеком утраты. Было что-то большое и прекрасное, мелькнуло в детстве и затем исчезло навсегда, оставив в душе только воспоминание о каком-то блаженстве, о каком-то эдеме, из которого изгнали тебя проснувшиеся страсти да развившийся разум.
Этот-то процесс развития и изображает автор далее, описывая отрочество и юность, - изображает с присущею ему смелостью и правдою. "Случалось ли вам, читатель, в известную пору жизни вдруг замечать, что ваш взгляд на вещи совершенно изменяется, как-будто все предметы, которые вы видели до тех пор, вдруг повернулись к вам другою, неизвестною еще стороной? Такого рода моральная перемена произошла во мне в первый раз во время нашего путешествия, с которого я и считаю начало моего отрочества. Мне в первый раз пришла мысль о том, что не мы одни, т. е. наше семейство, живем на свете, что не все интересы вертятся около нас, а что существует другая жизнь людей, ничего не имеющих общего с нами, не заботящихся о нас и даже не имеющих понятия о нашем существовании".
Вскоре с душею маленького героя произошла еще одна перемена: он начал постигать какое-то особенное значение женщины. Началом этого откровения послужила следующая сцена. Однажды, стоя на лестнице, он услышал голос Маши (молодой горничной): "Ну вас, что вы балуетесь! А как Марья Ивановна придет - разве хорошо будет?" - Не придет, шепотом сказал голос Володи (старший брат Николая), и вслед за этим что-то зашевелилось, как будто Володя хотел удержать ее. "Ну, куда руки суете? Бесстыдник!" И Маша со сдернутой на бок косынкой, из под которой виднелась белая, полная шея, пробежала мимо меня.
"Не могу выразить, до какой степени меня изумило это открытие; однако, чувство изумления скоро уступило место сочувствию поступку Володи: меня уже не удивлял самый его поступок, но то, каким образом он постиг, что приятно так поступать. И мне невольно захотелось подражать ому".
Познакомился наш герой и с чувством ненависти (он ненавидел своего учителя - Жерома), и с чувством одиночества. Началась в нем и разрушительная работа мысли, словно на зло человеку направляющаяся прежде всего на то, что для него наиболее дорого. "Я люблю отца, рассказывает Иртеньев, но ум человека живет независимо от сердца и часто вмещает в себя мысли, оскорбляющие чувство, непонятные и жестокие для него. И такие мысли, несмотря на то, что я стараюсь удалить их, приходят мне".
Наконец, подрастающей мысли нашего героя стали доступны и отвлеченные вопросы, и он сильно увлекался ими. "Детский слабый ум мой со всем жаром неопытности старался уяснить те вопросы, предложение которых составляет высшую ступень, до которой может достигать ум человека, но разрешение которых не дано ему". То ему приходила мысль, что счастье наше зависит от нас самих и что человек, привыкший переносить страдания, не может быть несчастлив; - и вот, чтобы приучить себя к этим страданиям, он уходил в чулан и, как маленький факир, стегал себя веревкой по голой спине так больно, что слезы невольно выступали на глазах; то вспоминалось ему, что его ежечасно ожидает смерть и что поэтому нелепо заботиться о будущем, а нужно только пользоваться настоящим, - и он под влиянием этой мысли бросил уроки и три дня "занимался только тем, что, лежа на постели, наслаждался чтением какого-нибудь романа и едою пряников с кроновским медом, которые покупал на последние деньги"; то увлекался он скептицизмом и думал, что кроме него никого и ничего не существует во всем мире. "Были минуты, что я, пишет он, под влиянием этой постоянной идеи, доходил до такой степени сумасбродства, что иногда быстро оглядывался в противоположную сторону, надеясь врасплох застать пустоту (neant) там, где меня не было".
Для нас здесь интереснее всего тот общий вывод, который делает автор о значении ума в вопросе человеческого счастья. "Жалкая ничтожная, пружина моральной деятельности, - ум человека!" читаем мы. "Слабый ум мой не мог проникнуть непроницаемого, а в непосильном труде терял одно за другим убеждения, которые, для счастья моей жизни, я никогда бы не должен был сметь затрагивать. Из всего этого тяжелого морального труда я не вынес ничего, кроме изворотливости ума, ослабившей во мне силу воли, и привычки к постоянному моральному анализу, уничтожившей свежесть чувства и ясность рассудка".
И так - вот жребий человека! Выше и выше поднимаясь но ступеням духовного развития, полнее и полнее освобождая свое сознание от господства страстей и привычек, человек в то же время дальше и дальше отходит от своего счастья. Для счастья нужна какая-либо святыня, какая-либо заветная область, нужно что-либо безусловно прекрасное и обязательное, а развившаяся и свободная мысль человека не знает для себя преград, все делает предметом своего анализа, в силу природы вещей всюду находит пятна и тени, в самой прекрасной действительности видит лишь слабое подобие идеального и, облетая жизнь человека, отнимает у него одно за другим условия его счастья. Мысль эта, впрочем, не новая: еще Шекспир подметил этот фатум, тяготеющий над человеческим духом, и дал ему вечное выражение в Гамлете. Характерно только, что и граф Толстой находит нужным высказать эту же мысль.
Юность, по словам графа Толстого, начинается с того времени, когда благородные мысли и стремления к нравственному усовершенствованию, нравившиеся прежде только уму, становятся доступными и чувству и находят для себя живой орган в сложившейся уже моральной природе недавнего ребенка. Сущность нового настроения нашего героя всего лучше выражается в следующем искреннем и сильном порыве: "Как мог я не понимать этого (что красота, счастье и добродетель легки и возможны для него), как дурен я был прежде, как я мог бы и могу быть хорош и счастлив в будущем!" говорил он сам себе: - "надо скорей, скорей, сию же минуту сделаться другим человеком и начать жить иначе". Всякий, у кого была юность не с одним только разгулом физических сил, но и с нравственным содержанием, вспомнит, что именно эти слова говорил он себе, что эти же образы красоты, счастья и добродетели манили его в будущее и что вне их он не понимал и не хотел жизни. Но мы живем... А кто из нас осуществил в своей жизни эту красоту и счастье? Есть ли между нами даже такие, у кого бы сохранилась вера в эти лучезарные идеалы, у кого бы потребность красоты не сменилась стремлением к комфорту, жажда счастья - исканием приятных ощущений, желание добродетели - необходимостью всепризнанной морали?.. Как же свершается это падение жизни - не внешней жизни, которая всегда одинакова, а нашего внутреннего мира, нашей души? - Обратимся к повести и посмотрим, что вышло из стремления юноши Иртеньева "сделаться другим человеком".
Стремление это выливается у Иртеньева в целом ряде мечтаний. Так, перед исповедью он мечтал, что очистится от всех грехов и больше не будет совершать поступков, которые его теперь мучат; мечтал о том, что каждое воскресенье будет ходить в церковь, что из своих денег будет помогать бедным, что сам будет прибирать свою комнату, чтобы не затруднять человека; мечтал он и о том, как сделается первым ученым в Европе; мечтал о том, как будет ходить гулять на Воробьевы горы и встретит там ее. О ней, о воображаемой женщине (которая была для него немножко Соничка, немножко Маша, жена лакея, в то время, когда она моет белье в корыте, и немножко женщина с жемчугами на белой шее, которую он видел в театре), мечтает он очень много; мечтает он и о славе, о том, как люди будут знать и любить его, - и Бог только знает, о чем он не мечтал тогда. Мечтания эти не остаются без влияния на его жизнь: так, вспомнив "один стыдный грех", который он утаил на исповеди, он решается ехать в монастырь и исповедаться вторично. Эпизод этой поездки в художественном отношении истинный шедевр: граф Толстой передает его с легким оттенком юмора, не мешающим ему отметить и искреннее умиление юноши в момент исповеди, и в то же время позволяющим указать и то тщеславное чувство, которое заставляет молодого ревнителя своей нравственной чистоты рассказать извозчику о цели своей поездки в монастырь.
Сдав последний экзамен в университет, герой наш, чтобы походить на большого, едет по магазинам и тратит все свои деньги на покупку совершенно ненужных ему вещей; покупает он также себе и табаку, так как ему, как студенту, нужно курить. Приехав домой, он пробует курить, но с непривычки у него закружилась голова, ему сделалось тошно и он, лежа на диване, грустно думал с разочарованием: "верно я еще не совсем большой, если не могу курить, как другие, и что видно мне не судьба, как другим, держать чубук между средним и безымянным пальцем, затягиваться и пускать дым через русые усы".
Дальше автор рассказывает нам, как стремящийся к красоте и правде юноша выдумал себе любовь. "Мне давно уже было совестно, глядя на всех своих влюбленных приятелей, за то, что я отстал от них", говорит откровенный и правдивый рассказчик. И вот, увидевшись с одною барышней, Сонечкой, которую он знал еще в детстве, он решил в тот же миг, что влюблен в нее. Об этом чувстве он рассказал своему другу Дмитрию Нехлюдову; по приезде же в деревню, на каникулы, он, подражая влюбленным, целые два дня ходил перед своими домашними грустным и задумчивым; на третий день однако притворства уже не хватило и он совсем забыл о своей любви.
Затем граф Толстой раскрывает в своем герое столь свойственное юношам тщеславное желание выказать себя другим человеком, чем есть, желание, заводившее студента Иртеньева в дебри самой отчаянной лжи, заставлявшее его рисоваться фразами, мысли которых он вовсе не сочувствовал, или напускать на себя несвойственные и чуждые ему настроения.
Но показывая всю ложь и фальшь, которыми полна действительность юности, граф Толстой не забывает и того прекрасного, что живет в мечтах, порывах и стремлениях этого возраста. Стоит прочесть, например, следующий исполненный поэтической прелести, отрывок, изображающий юношеские грезы, навеянные картиною ясной летней ночи: "Все (в этой картине) получало для меня странный смысл - смысл слишком большой красоты и какого-то недоконченного счастья. И вот являлась она, с длинною, черною косой, высокою грудью всегда печальная и прекрасная, с обнаженными руками, с сладострастными объятиями. Она любила меня, я жертвовал для одной минуты ее любви всею жизнью. По луна все выше и выше, светлее и светлее стояла на небе, пышный блеск пруда, равномерно усиливающийся, как звук, становился яснее и яснее, тени становились чернее и чернее, свет прозрачнее и прозрачнее, и вглядываясь и вслушиваясь во все это, что-то говорило мне, что она с обнаженными руками и пылкими объятиями еще далеко-далеко не все счастье, что и любовь к ней далеко-далеко еще не все благо; и чем больше я смотрел на высокий, полный месяц, тем истинная красота и благо казались мне выше и выше, чище и чище, ближе и ближе к Нему, к источнику всего прекрасного и благого, и слезы какой-то неудовлетворенной, но волнующей радости навертывались мне на глаза".
Итак, вступая через отрочество, разрушившее наивный и очаровательно-чистый мир детства, в юность, человек встречает в ней много прекрасных надежд, чувствует в себе много сил и стремлений, которые должны бы дать ему полное и высокое счастье; но едва он начинает жить, тратить этот многообещающий запас сил, как жизнь его наполняется какою-то мелочностью и ложью, столь непохожими на великие ожидания от нее. Сбываются ли эти ожидания в позднейшие периоды человеческой жизни, об этом не говорит рассматриваемая повесть, опускающая перед нами занавес раньше даже, чем оканчивается юность; но об этом говорят другие произведения художника-Толстого, к которым мы теперь и обратимся.
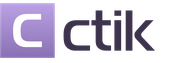










Молочная пшенная каша с тыквой
Упражнения для руки после инсульта сидя за столом
Делимся кулинарными секретами!
Письменную речь мы произносим
Строение и функции мужской и женской половых систем у человека Что входит в половую систему человека