Святые новомученики и исповедники Оптиной пустыни явились достойными продолжателями молитвенных подвигов своих святых предшественников — преподобных Оптинских старцев.
Мученичество и исповедничество — особый благодатный дар, и не все могут его вместить, не все могут его понести. Для этого требуется высокий подвиг христианского самоотречения и апостольского мужества духа.
Исповедничество и мученичество за имя Христово — это венец святой подвижнической жизни христианина, его веры и любви ко Господу, его смирения, кротости и долготерпения. Они приготовлялись к этому подвигу мыслью непорочною, молитвой непрестанной, верою чистой, добродетелью совершенной, любовью нелицемерной, пребывая в единстве со Святой Церковью.
И если мученичество древних христиан было, в большинстве случаев, на глазах у людей, что составляло некую отраду и утешение для страдальцев, то новомученикам не давали умереть мучениками за правду в глазах людей. Их предварительно оклеветывали, позорили, как возмутителей общественного порядка, как врагов закона и общества.
И эта клевета человеческая для невинного человека подчас была мучительнее самих физических страданий во время гонений и заключения. Об этом говорил еще св. Иоанн Златоуст «Ни что так не терзает душу и сердце, как насмешка и злословие».
Страшные социальные и общественные потрясения и бедствия постигли многие христианские государства в ХХ веке. За годы внешнего благополучия образовывалась жизнь человека внутри Церкви без Церкви, ибо Церковь никак не могла помочь вышедшему целиком в мир и живущему исключительно по законам мира сего человеку. Потому Господь и вернул теплохладных христиан начала ХХ века к Себе путём мученическим.
«Блажен творящий волю Божию, а не свою собственную, плотоугодную. Я предаюсь от всей души и от всего сердца в волю Твою, Господи. Делай со мной то, что тебе угодно. Творящий волю свою имеет рабский страх, привязанность к земным благам. Не стяжавший страха Божия воли Божией творить не может»
Преподобноисповедник Севастиан (в св. крещении Стефан) родился 28 ноября 1884 г. в бедной крестьянской семье, в селе Космодемьяновское Орловской губернии. Отец Василий, мать Матрена Фомины имели трех сыновей. Старший Илларион 1872 г. рождения, средний Роман 1877 г. рождения и младший Стефан 1884 г. рождения.
В 1888 г. родители свозили сыновей в Оптину пустынь благословиться у старца Амвросия. На следующий год родители умерли. Старший брат Илларион женился, и младшие братья остались в его семье.
Через три года Роман упросил брата отпустить его в монастырь, и так исполнилось благословение старца Амвросия. Он поступил послушником в Иоанно-Предтеченский скит Оптиной пустыни и вскоре был пострижен в монашество с именем Рафаил. Степан очень скучал по брату и просил и его отпустить в монастырь, но до совершеннолетия ему пришлось жить в семье брата. В 1905 г. исполнилось его совершеннолетие и он уехал к брату Рафаилу в Оптину пустынь.
Определили Стефана келейником к старцу Иосифу в Иоанно-Предтеченский скит. Старец Иосиф с ранней юности ушел в монастырь и был келейником старца Амвросия, прожив в его келье пятьдесят лет. Стефан прожил в этой келье почти восемнадцать лет, до закрытия монастыря в 1923 г. Брат Стефана, схимонах Рафаил, скончался от туберкулеза легких в 1908 г.
9 мая 1911 г. скончался старец Иосиф, и в его келью перешел старец Нектарий. Стефан остался при нем келейником и стал его духовным сыном. В этой келье он прожил со старцем Нектарием до закрытия монастыря двенадцать лет. Затем еще пять лет, до 1928г., в селе Холмищи под Козельском, и так со старцем Нектарием он прожил семнадцать лет, а со старцем Иосифом пять лет.
Под руководством этих старцев о. Севастиан воспитал в себе кротость, рассудительность, высокий молитвенный настрой. Милосердие, сострадание и другие духовные качества. Великая любовь привела его к тому, что он принял на себя бремя старчества в исключительно трудное время.
В 1917 г. во Введенской Оптиной пустыни Стефан принял пострижение с именем Севастиан. В 1923 г., за два месяца до закрытия монастыря, о. Севастиан принял рукоположение во иеродьяконы, а в 1927 г. епископом г. Калуги был рукоположен во иеромонаха. После смерти старца Нектария в 1928 г. он получил назначение на приход в г. Козлов (ныне Мичуринск), где и прослужил в Ильинском храме пять лет и пользовался там большой популярностью и любовью.
В 1933 г. о. Севастиан был репрессирован и осужден на десять лет в Карагандинские лагеря, в Казахстан. В лагере о. Севастиана били и истязали, требуя отречения от Бога. Но на это он сказал: «Никогда» — и его отправили в барак к уголовникам. Но победили вера и любовь, которые были в сердце у батюшки. Он привел к вере в Бога весь барак. Всех, кто был там, привел он к настоящей вере.
Вслед за о. Севастианом поехали преданные ему монахини. Они устроились на работу в ближайшем селе и опекали о. Севастиана все десять лет его заключения. Потом скопили денег и купили домик в Михайловке, в пригороде Караганды. В конце 1943г. о. Севастиан был освобожден и поселился в этом доме. По его благословению дом обустроили, и остались в Караганде до конца жизни.
Когда о. Севастиан обосновался в Михайловке, к нему стали съезжаться со всей страны монашествующие и ищущие духовного руководства миряне. В этот период гонений на церковь обрели реальность слова свт. Игнатия Брянчанинова: «Ищите всюду духа, а не буквы. Ныне напрасно стали бы вы искать обителей. Их нет…Но вы всегда найдете монахов и в монастырях, и в общежитиях, и в пустынях, и, наконец, в светских домах».
Всех о. Севастиан принимал с любовью и помогал устроиться с жильем. Скоро там стало много духовных чад о. Севастиана. Приехала монахиня-старица Агния, прекрасная художница, иконописец. Она была духовной дочерью оптинского старца Варсонофия, каждый год ездила к нему в скит и поэтому хорошо знала о. Севастиана. Она говорила, что о. Севастиан в молодости был очень красивым, с каким-то особенно светлым лицом. Был приветливым, ласковым с посетителями и старался для всех все сделать. Старец Варсонофий называл его благодатным, а старец Иосиф очень любил его и говорил о нем: «Он нежной души».
Город Караганда рос, создавались новые поселки, а церковь была одна на дальней окраине города, и приходилось о. Севастиану у себя в келье, в доме, где он жил с четырьмя монахинями, ежедневно совершать литургию и вечерню. Вскоре жители Михайловки стали приглашать его на требы.
И хотя разрешения на это не было, батюшка безотказно ходил по домам. Многие стремились повидать батюшку, даже собаки из всех подворотен выползали, чтобы увидеть, когда он проходил по улице. Усиленно хлопотали жители Михайловки об открытии церкви, даже посылали представителей в Москву.
Наконец разрешили в 1952 г. открыть молитвенный дом, но службы церковные в нем совершать не разрешалось. И после многочисленных треб, крещения и келейных молитв о. Севастиан шел в три часа ночи по темным улицам служить литургию. Кончал батюшка службу до рассвета, и все расходились по домам. Через три года было получено разрешение на открытие в Михайловке церкви.
И в 1955 г. храм был освящен в честь Рождества Пресвятой Богородицы. Священников батюшка подбирал себе сам. Сначала приглядывается к кому-нибудь из прихожан, а потом подзовет к себе и говорит: «А вам надо быть священником». Прослужил о. Севастиан настоятелем храма одиннадцать лет. С 1955 по 1966 г.- до дня своей смерти. В 1957 г. он был возведен в сан архимандрита и награжден патриархом Алексием I грамотой «За усердное служение Святой Церкви». В 1965 г. был награжден митрой и посохом. Перед смертью, за три дня до кончины, пострижен в схиму. Служение Святой Церкви о. Севастиан совершал в течение шестидесяти лет, начиная от времени послушания в скиту Оптиной пустыни до настоятельства и посвящения в сан архимандрита — с 1906 по 1966 г.
О. Севастиана отличали безупречная верность церковным установлениям, постоянная забота об устроении в людских душах глубокого мира и высокая требовательность ко всем и прежде всего к самому себе. Не снисходительной была его любовь, дар большой рассудительности был у него. И всегда во всем умеренность. А главное, всегда была в нем полная вверенность Промыслу Божию. « Золотая середина должна быть во всем и умеренность.
А в отношении к Богу и своему спасению постоянство нужно, а не спешка, не чрезмерность», — говорил он. Таков был его пастырский облик. При общении с ним само собой наглядно ясно становилось, что душа живет вечно. Что со смертью наша жизнь не кончается, основная наша сущность не умирает, а изнашивается только наше тело.
Особенно любил он праздники Пресвятой Троицы и Вознесения, как завершение дела искупления. Высоко чтил о. Севастиан св. , память которого совершал особенно торжественно, благоговейно, требовал этого и от своей паствы. Часто он говорил: «Ведь у вас в семьях нет мира и любви между вами. А кто вам поможет, как не он, святой апостол любви?». Много труда положил он на воспитание паствы. Говорили, что добрая половина Михайловки — негласный монастырь в миру.
Поближе к о. Севастиану переехал и его брат Илларион со своей дочерью и внучкой. По воскресеньям и всем праздничным дням они приезжали к о. Севастиану в храм и брали у него благословение.
Все духовные дети о. Севастиана не ступали и шагу без его благословения. Часто он плакал, когда исповедовал. Иногда сердился, но редко, всегда как бы желая заставить послушаться. Любил он иногда и пошутить, обладал тонким юмором, легким, доброжелательным. Обладал даром прозорливости и от многих бед спасал своих духовных чад. Служил он ежедневно утром и вечером, беседовал подолгу с людьми, особенно с приезжими. Сам вникал во все детали церковной жизни.
Особенно любил он по унаследованному монастырскому обычаю заупокойные службы и ежедневно сам усердно служил панихиды, совершая отпевания до конца жизни. Когда у него стало мало сил, ему в храме за панихидной отделили маленькую комнату, где он мог отдыхать во время службы, когда его беспокоили боли или была сильная слабость.
Отец Севастиан был настоятелем храма одиннадцать лет с 1955 по 1966 г., до дня своей смерти. Чувствуя близкую кончину, частенько напоминал, чтобы на священнические и руководящие должности ставили хотя и слабых и немощных, но своих. Тогда все будет без изменений, как при нем.
С января 1966 г. здоровье его сильно ухудшилось, обострились хронические заболевания, но в Великий пост о. Севастиан сам старался служить все службы. С шестой седмицы силы стали покидать его. В Великую субботу после окончания литургии он надел мантию, клобук и вышел попрощаться к народу с просьбой жить мирно, с готовностью на всякое доброе дело.
За несколько дней до смерти о. Севастиан был пострижен в схиму. По воспоминаниям духовных чад после пострига батюшка был преисполнен такой благодати, что при взгляде на него трепетала душа и остро чувствовалась собственная греховность.
Схиархимандрит Севастиан умер на Радоницу, 19 апреля 1966 г. Хоронили о. Севастиана на Михайловском кладбище. Почти всю дорогу его гроб несли на вытянутых руках. Движение на шоссе было остановлено, и многотысячная процессия провожала его с пением «Христос воскресе». Владыка Питирим (Нечаев) совершил отпевание о. Севастиана.
Мощи преподобноисповедника Севастиана были обретены 12 октября 1997 года и ныне находятся в Свято-Введенском соборе г. Караганды.
Прославлен в 1997 году как местночтимый святой Алма-Атинской епархии . 4 ноября 1997 года честные мощи преподобноисповедника были перенесены в новый храм Рождества Пресвятой Богородицы в Караганде. Причислен к лику святых новомучеников и исповедников Российских на Юбилейном Архиерейском Соборе Русской Православной Церкви в августе 2000 года. Память 6 / 19 апреля и в Соборе новомучеников и исповедников Российских.
Претерпев мужественно все страдания и самую смерть за веру Христову и за Церковь, мученики приняли от Бога благодать помогать подвизающимся на земле христианам, особенно во время гонений. Почитание и молитва к ним да утвердят и нас быть мужественными в исповедании веры, а Господь их ходатайством помилует всех нас.
Праведники наших дней
Священник Александр УГОЛЬКОВ, Караганда
Преподобного Севастиана Карагандинского отличали безупречная верность церковным установлениям, постоянная забота об устроении в людских душах глубокого мира и высокая требовательность ко всем и прежде всего к самому себе.
Не снисходительной была его любовь, дар большой рассудительности был у него. И всегда во всем умеренность. А главное, всегда была в нем полная вверенность Промыслу Божию. При общении с ним само собой наглядно ясно становилось, что душа живет вечно. Что со смертью наша жизнь не кончается, основная наша сущность не умирает, а изнашивается только наше тело.
Его жизнь была продолжением жизни во Христе богоносных Оптинских старцев, от которых он унаследовал духовные сокровища святоотеческих традиций. Но помимо школы старчества, преподобным Севастианом была пройдена и «духовная академия», которая называлась «Карлаг». Страдания, перенесенные в заключении, еще более очистили и закалили его душу, приблизили к Богу, укрепили в нем веру во Христа, научили еще самоотверженнее любить людей.
В беседе со своими духовными чадами преподобный Севастиан рассказывал, что Господь неизреченно утешал своих верных рабов «сущих во узах», и те благодатные службы, которые тайно совершались в лагере или в шахтерских землянках, запомнились всем исповедникам на всю оставшуюся жизнь.
Несмотря на все предпринимаемые безбожными властями меры, направленные на разрушение Церкви, люди, окружавшие старца, горели святоотеческим духом Православия. Это стало зримым свидетельством того, что Церковь Божия, гонимая, но не изгнанная, поругаемая, но не поруганная, избиваемая, но не убитая, процвела там, где последователям Христа готовили смерть и забвение. Ибо «истина тогда ликует, когда за нее умирают» – говорил преподобный Севастиан. Именно святоотеческие традиции привились в Караганде, дали всходы и принесли плоды.
«Сердце Казахстанския страны кровоточащее ты еси, Караганда благословенная. Многа бо места скорби князь тьмы в земли твоей устрои» (Песнь 6 канона службы «Собору Всех Святых Новомучеников и Исповедников, в земле Казахстанской просиявших»), молитвенно воспевает ныне Святая Церковь, и обращается к покровителю этой многострадальной земли с такими словами: «Кому уподобим тя, Севастиане, отче наш? Сергию ли, землю Русскую якоже кокош под криле собравшему? Серафиму ли, всякий подвиг подъявшему и любовию сердца огорченная воспламенившему? Амвросию ли, словесы медоточными напитавшему души? С ними ныне помяни град Караганду и страну, юже зело возлюбил еси» (Песнь 5 канона службы «Собору Всех святых Новомучеников и Исповедников, в земле Казахстанской просиявших»).
Преподобный Севастиан был строг и добр, nроникновенен и своеобразен. Он испытывал сердца приходящих к нему, давал им не только утешение, но и наставлял на путь подвига. Он смирял и ставил человека перед духовными трудностями, не боясь и не жалея его малой человеческой жалостью, потому что верил в достоинство и разумное свойство души и в великую силу благодати Божией, помогающей ищущему правды. Основными чертами преподобного Севастиана были смирение и мудрость. И свет его был как светлый меч, рассекающий душу. Всем православным карагандинцам хорошо известны замечательные слова преподобного старца: «Возлюби чистоту, яко зеницу ока, да будешь храм Божий и дом вожделенен. Невозможно бо без целомудрия nрисвоиться с Богом».
Родился отец Севастиан (в святом крещении Стефан) 28 ноября 1884 года в бедной крестьянской семье, в селе Космодемьяновское Орловской губернии. Отец Василий, мать Матрена Фомины имели троих сыновей.
В 1888 году родители возили детей в Оптину Пустынь к старцу Амвросию. Стефан, хотя в то время ему было только четыре года, хорошо помнил это посещение. Вскоре после этого умер отец, а через год ушла из этой жизни мать. Средний брат, Роман, поступил в Оптину пустынь. Стефан мечтал пойти вслед за братом, но старший брат, Илларион, на попечении которого оставался Стефан, долгое время был против этого.
И только в 1905 году осуществилась давняя мечта, Стефан был принят послушником в Оптину. Определили его келейником к старцу Иосифу, в Иоанно-Предтеченский скит.
Что же значит монашество? Преподобный Макарий Оптинский называет его «совершением христианства, состоящим в исполнении заповедей Божиих». Послушник Стефан вверяет себя старцам, в послушании учась исполнять волю Божию. Вот как он сам об этом позже говорил: «Блажен творящий волю Божию, а не свою собственную, плотоугодную. Я предаюсь от всей души и от всего сердца в волю Твою, Господи. Делай со мной то, что Тебе угодно. Творящий волю свою имеет рабский страх, привязанность к земным благам. Не стяжавший страха Божия, воли Божией творить не может».
В 1917 году Стефан принимает монашеский постриг с именем Севастиан, в 1923 году сан диакона, в 1927 – иеромонаха.
В 1933 году кончилась жизнь батюшки и началось его исповедническое житие, он был арестован, осужден на 7 лет лагерей и отправлен сюда, в Караганду, в Карлаг.
«О своем пребывании в лагере отец Севастиан вспоминал, что там били, истязали, требовали одного: отрекись от Бога. Он сказал: «Никогда». Тогда его отправили в барак к уголовникам. «Там, – сказали, – тебя быстро перевоспитают». Можно представить, что делали урки с человеком пожилым, больным, слабым, священником. Но победили вера и любовь, которые были в сердце батюшки. Он привел к вере в Бога весь барак до одного человека, всех, кто там был. И не просто к вере, а к вере настоящей» (Татьяна Тортенстен).
Страшный сталинский лагерь. Кажется невероятным, что в нем можно оставаться христианином, соблюсти евангельскую заповедь о любви к ближнему. За кусок хлеба, чашку баланды люди были готовы убивать друг друга, заключенных планомерно и жестоко превращали в животных, истребляя в них все человеческое.
И вот в этих условиях преподобный сумел не только сохранить, но и приумножить свои монашеские подвиги. Он жил вопреки гулаговским ценностям, главный лозунг которых «человек человеку волк». Наоборот, чем жестче и страшнее были действия мучителей, тем большей любовью отвечал на них преподобный. Память человеческая сохранила трогательные случаи, рассказывающие о том, как некоторые вольные, жалея батюшку, давали ему продукты, а он делился ими с заключенными. «Подарят ему варежки, а на следующий день он снова приезжает – без варежек, подойдет к быку и греет об него окоченевшие руки… Отдал кому-нибудь…» И такая любовь не могла не найти отклика в человеческих сердцах. Многие любили батюшку, многие через него пришли к вере в Бога.
Когда в 1939 году отца Севастиана, наконец, освободили, случилось нечто неожиданное. Своим духовным чадам он сказал: «Здесь будем жить. Здесь вся жизнь другая, и люди другие». Казалось бы, вполне естественно для человека уйти оттуда, где испытал столько горя, где сама земля уже стонет от скорби людской. Но он избирает другой путь. Путь истинного монашества, которое есть, по словам одного современного нам подвижника благочестия, «дар молитвы за весь мир». Так в Караганде, в бушующем море горести и скорби, появляется остров надежды, корабль спасения – преподобный Севастиан.
Какой он был? Внешне совершенно простой, кроткий, смиренный, очень редко строгий. Многие впервые увидевшие его, не могли поверить, что перед ними ТОТ САМЫЙ отец Севастиан. Внутренняя жизнь была сокрыта от всех, подвиг, который он нес, был незаметен для окружающих. Вот воспоминания о нем покойного митрополита Питирима (Нечаева): «При всех своих необычайно высоких духовных дарованиях старец Севастиан был очень болезненным. Болезнь его началась с нервного потрясения. В начале ХХ века он был первым и любимым учеником старца Иосифа Оптинского. Когда старец Иосиф умер, его это так потрясло, что у него сделался парез пищевода. Всю жизнь он мог есть только жидкую супообразную пищу: протертую картошку, запивая ее квасом, протертое яблоко – очень немного, жидкое, полусырое яйцо.
Иногда спазм схватывал его пищевод, он закашливался и есть уже не мог, оставался голодным. Можно себе представить, как тяжело ему приходилось в лагере, когда кормили селедкой и не давали воды. Старец Севастиан был сдержанным, мало говорил, но в нем было удивительное сочетание физической слабости и духовной – даже не скажу, силы, но приветливости, в которой растворялась любая человеческая боль, любая тревога. Когда смятенный, возмущенный чем-то человек ехал к нему, думая выплеснуть всю свою ярость, все раздражение, – он успокаивался уже по дороге и, встретившись со старцем, уже спокойно, объективно излагал ему свой вопрос, а тот спокойно его выслушивал, иногда же, предупреждая волну раздражения, сразу давал ему короткий ответ».
Молитва его никогда не прекращалась . Владыке Питириму, приезжавшему часто в Караганду (иногда, как он сам говорил, только за одним словом: да или нет), доводилось ночевать в келье старца. Просыпаясь ночью, он видел, что несмотря на то, что вроде бы батюшка спит, чётки в его руках непрестанно движутся.
Иногда он вдруг поднимался с постели, словно призванный кем-то, и некоторое время, устремив взгляд куда-то вдаль, молился. Что он видел тогда? Какую беду? Чью боль? Неведомо то для нас, но тысячи благодарных сердец, почитающих память преподобного Севастиана – яркое доказательство того, что просьбы, обращенные к нему, не оставались без ответа.
И нескончаемым потоком к нему текли люди, измученные своими бедами, приходили, и находили утешение и радость, обретали для себя новую жизнь в Боге. Что же больше всего привлекало людей в нем? Что делало его тем светильником, который стоит на высоком месте, изливая вокруг себя благодатный свет?
Ответ несомненен: он был носителем благодатной пасхальной радости, которую невозможно заключить в рамки логического определения, но которая воспринимается душой , наполняемой неизъяснимым и радостным светом Божественной благодати . Есть в житии преподобного один эпизод, который, на первый взгляд, не совсем понятен.
«В Лазареву субботу, 2 апреля (скончался преподобный 19 апреля), для батюшки произошло что-то очень значительное и исключительно важное. В 3 часа ночи он разбудил келейницу и попросил позвать к нему отца Александра. Весь сияющий и трепещущий от радости, он что-то рассказал отцу Александру, своему духовнику. О чем они говорили, никто не знает. Знаем только, что отец Александр исповедал батюшку и причастил, так как ходил в алтарь за Святыми Дарами. После причастия батюшка запел: «Христос Воскресе!» – и послал послушницу разбудить и позвать к нему девушек из хора, чтобы они пели ему Пасху. Пришли девушки, все в белых косынках, запели тропарь Пасхи, стихиры, ирмосы канона. Когда все пропели, батюшка спросил: «Кто там на кухне? Скажите, чтобы сварили яички трех сортов: всмятку, вкрутую и в мешочек». Все это было сделано.
Утром батюшка попросил келейницу принести ему молока: «Ну вот, сказал он – все квас да окрошка. Что же ты меня все квасом давишь? Ты бы мне молочка дала». Келейница сходила в магазин, принесла молока.
Никто не перечил батюшке. Келейница налила молоко в кружку и очень робко сказала: «Батюшка, ведь сегодня только Лазарева суббота, потом Великая суббота будет, а потом только Пасха. Если бы сегодня была Пасха, сколько бы у нас крашенок было, сколько было бы куличей!» Он посмотрел на всех и сказал: «Да.:. вот оно что! – отодвинул чашку с молоком, – молоко ушло далеко! Давай тогда окрошку».
То, что было непонятно тогда близким батюшке людям, те неизреченные слова, «которых человеку нельзя пересказать» (2 Кор. 12, 4), были предощущением пасхальной радости, которая и есть рай. Старец принадлежал к тем людям, для которых, по словам Высокопреосвященнейшего митрополита Мефодия «Воскресение Христа было не праздником годового круга, а событием их личной жизни. Ад, во всей его богоборческой ярости, был им не страшен – они уже принадлежали Вечной Жизни» (Пасхальное послание).
Незадолго до своей смерти батюшка обращался к чадам со следующими словами: «Прошу вас всех об одном: живите в мире. Мир и любовь – это самое главное. Если будете иметь это между собою, то всегда будете иметь в душе радость. Мы сейчас ожидаем наступления Светлой заутрени, наступления праздника Пасхи – спасения души для вечной радости. А как можно достичь ее? Только миром, любовью, искренней сердечной молитвой. Ничем не спасешься, что снаружи тебя, а только тем, чего достигнешь внутри души своей и в сердце – мирной тишины и любви. Чтобы взгляд ваш никогда ни на кого не был косым. Прямо смотрите, с готовностью на всякий добрый ответ, на добрый поступок. Последней просьбой своей прошу вас об этом».
И как странно то, что и теперь, имея перед собой при мер жизни преподобного, мы утешаем себя ложными умозаключениями о невозможности в наше время исполнить евангельские заповеди. Жизнь праведника научает и обличает нас, евангельский идеал, кажущийся нам столь удаленным от действительности, предстает перед нами в облике чудного старца, перенесшего неимоверные страдания, испытания своей веры и сохранившего любовь и чистоту, смирение и сострадание. И мы, называющие себя его чадами, не можем не последовать за ним.
Еще в то время, когда старец был келейником преподобного Иосифа, тот за милосердие и любовь его к людям называл своего послушника «Летом». Так и мы, его маловерные послушники, просим в сей день его священного прославления, согреть любовью Христовой лютую зиму наших страстей, растопить сердечный лед нашего безверия, чтобы и мы могли всегда прославлять Христа Бога, прославившего Своего дивного угодника преподобного Севастиана «веры благочестивыя исповедника и образа кротости духовныя».
Вконтакте
Блаженный старец схиархимандрит Севастиан
(Стефан Васильевич Фомин)
родился 10 ноября 1884 г. в селе Космодемьянское Орловской губернии
в бедной крестьянской семье. Отца звали Василием, мать - Матроной.
Они имели троих сыновей. В 1888 г. родители возили детей в Оптину
Пустынь к старцу Амвросию. На всю жизнь запомнил Стефан это
посещение и ласковые глаза благодатного старца. Когда Стефану было 4
года, умер отец, а через год умерла и мать. 5-летний Стефан был
привязан к среднему брату Роману за его нежную душу и мягкое сердце.
Но Роман избрал путь иноческой жизни и в 1892 году упросил старшего
брата Илариона отвести его в Оптину Пустынь, где был принят
послушником в Иоанно - Предтеченский скит.
Иларион, в чьей семье остался жить пятилетний Стефан после смерти
родителей, имел иной характер: был требовательным, неласковым.
Стефан хорошо учился, окончил 3-классную приходскую школу.
Приходской священник давал читать ему книги. От рождения Стефан был
слаб здоровьем и на полевых работах трудился мало, а больше на
пастбищах пастухом. Радостным утешением было для Стефана в зимнее,
свободное от крестьянских работ время, посещать в Оптиной Пустыни
среднего брата Романа, который впоследствии принял постриг с именем
Рафаил.
Имея крепкое желание встать на путь иноческого жития, Стефан был
принят в скит Оптиной Пустыни келейником к старцу Иосифу, после
смерти которого, в 1911 году, перешёл под старческое руководство к
отцу Нектарию и остался при нём до 1923 года келейником. Так он
напитывался благодатным духом оптинского старчества. Пострижен
Стефан в мантии с именем Севастиан в 1917 году, когда началось время
гонения на Церковь Христову.
Прогремела революция. Рухнуло многовековое здание государства
Российского.
В ожидании неизбежно грядущих изменений тихо и незаметно продолжали
жить в монастыре иноки Оптинские. До них уже доходили известия о
закрытии церквей и монастырей и конфискации их имущества.
10 января 1918 года декретом новых властей Оптина Пустынь была
закрыта, но монастырь продолжал существовать под видом
сельскохозяйственной артели. Многие, особенно молодые послушники,
выходили из монастыря, не удовлетворяясь работой в сельхозартели,
где к ним предъявлялись строгие требования. Оставшиеся, в
большинстве своём пожилого возраста иноки, твёрдо решили не уходить
из монастыря до последней возможности, пока не прогонят. Все жили
под страхом, каждый день и каждый час ожидая изгнания, ареста,
тюрьмы, смерти.
На территории монастыря был организован музей «Оптина Пустынь». Скит
уже не существовал, но старец Нектарий оставался жить со своими
келейниками в старческой хибарке и, изнемогая под бременем скорбей,
продолжал принимать народ. В 1923 году в конце пятой недели Великого
поста в монастыре начала работать ликвидационная комиссия. Церковные
службы прекратились. Монахи постепенно выселялись. В 1927 году монах
Севастиан принял священство от епископа Калужского. После кончины
старца Нектария в 1928 году отец Севастиан приехал в город Козлов,
где получил назначение в Ильинскую церковь. Там он служил с 1928 по
1933 год вплоть до своего ареста. В этот период он вёл в Козлове
борьбу с обновленцами и не оставлял общения с жившей в рассеянии
братией Оптиной Пустыни.
В феврале 1933 года отца Севастиана арестовали. На допросах батюшка
дал прямой ответ: «На все мероприятия советской власти я смотрю как
на гнев Божий, и эта власть есть наказание для людей. Такие же
взгляды я высказывал среди своих приближённых, а также и среди
остальных граждан, с которыми приходилось говорить на эту тему. При
этом говорил, что нужно молиться, молиться Богу, а также жить в
любви, только тогда мы от этого избавимся. Я мало был доволен
советской властью за закрытие церквей, монастырей, так как этим
уничтожается православная вера».
Его приговорили к 7-летнему заключению и отправили на лесоповал,
несмотря на слабое здоровье и повреждённую левую руку. Но и в ссылке
он проводил воскресный день в молитве и беседе. Ночные дежурства
батюшка также проводил в молитве, никогда не позволяя себе спать. «В
заключении я был, - вспоминал батюшка, - а посты не нарушал. Если
дадут какую - нибудь баланду с мясом, я это не ел, менял на лишнюю
пайку хлеба».
После освобождения он остался в селе Большая Михайловка, под
Карагандой, и окормлял всех стремящихся к Богу, приходя к ним в дома
и совершая требы, хотя разрешения на это со стороны властей не было:
«народ в Караганде был верный - не выдадет». Батюшку полюбили и в
окрестностях, поверили в силу его молитв. Со всех концов страны
стали съезжаться духовные чада старца, всех он принимал с любовью и
помогал устроиться на новом месте. Часто старец благословлял
приезжавших к нему за духовным окормлением монахинь жить в
какую-нибудь семью, что было в духе оптинских старцев. Такие матушки
становились как бы ангелами-хранителями дома.
Лишь в 1955 году верующие добились официального разрешения властей
на регистрацию религиозной общины в Большой Михайловке, общими
усилиями удалось построить храм, который освятили в честь Рождества
Пресвятой Богородицы. Священников батюшка подбирал себе сам. Вокруг
него собралась монашеская женская община. О его общине архиепископ
Петропавловский и Кустанайский Иосиф (Чернов) говорил так: «Батюшка
насадил здесь виноград, который потом и слезами вырастил...
Маленькая церковь, от земли не видно, а столп горит до неба».
22 декабря 1957 года, в день празднования иконы Божией Матери
«Нечаянная радость», о. Севастиан был возведён в сан архимандрита и
награждён патриаршей грамотой «За усердное служение Церкви». В 1964
году ко дню своего Ангела был награждён архиерейским посохом -
награда, примеров не имеющая.
Церковные службы были для о. Севастиана неотъемлемым условием его
внутренней жизни. В беседах его любимым образом был святой апостол
Иоанн Богослов, он часто призывал паству к почитанию этого апостола
Любви.
Отец Севастиан очень почитал святые иконы и говорил, что они даны
нам в помощь от тёмных сил, что есть иконы, особые по славе
благодати, есть намоленные веками чудотворные образы, которые, как
ручейки, несут от Господа благодать. Он приводил слова старца
Нектария Оптинского о том, что мудрость, разум и рассудительность
есть дары Святого Духа, которые приводят к благочестию. Батюшка
обладал тонким юмором и любил пошутить, но всегда доброжелательно.
Он не жалел времени на беседу с человеком.
Власти, видя его авторитет, всячески старались закрыть храм, но это
им не удавалось: батюшка, как только они его вызовут, обезоруживал
их так, что они совершенно лишались дара слова и после его ухода
удивлялись: «Что это за старичок такой, что мы сделать ничего не
можем?» О. Севастиан всегда и во всём учил полагаться на волю Божию.
Он любил природу, жалел животных, однажды спас только что родившихся
котят. Людям он помогал своей тайной молитвой. О бесноватых он
говорил: «Здесь они потерпят. А там мытарства будут проходить
безболезненно». О. Севастиан н заботился о спасении каждого, это
была его цель. Он просил: «Мирнее живите». Очень важное значение он
придавал молитвам за усопших и других призывал: «Молитесь за
усопших». 3 апреля 1966 года о. Севастиан принял
постриг в схиму от владыки Питирима (Нечаева), прибывшего к нему для
совершения пострига. Скончался о. Севастиан 6 апреля 1966 года на
Радоницу.
Прославлен в 1997 году как местночтимый святой Алма-Атинской епархии.
22 октября (4 ноября) 1997 года были обретены святые мощи старца
Севастиана и перенесены в новый храм Рождества Пресвятой Богородицы
в Караганде. Причислен к лику святых новомучеников и исповедников
Российских на юбилейном Архиерейском Соборе Русской Православной
Церкви в августе 2000 года для общецерковного почитания.
Диакон Димитрий Огольцов
Поучения преп. СЕВАСТИАНА Карагандинского
Молиться можно на всяком месте, во всякое время: стоя, сидя, лёжа, во время работы, в пути. Только разговаривать в храме грешно.
Терпите друг друга немощи и недостатки - в этом спасение. Огонь огнём не
тушат, а водой. А зло побеждается любовью!
Болеть нам необходимо, иначе не спасёмся. Болезни - гостинцы с неба!
Почему иные люди почти всю жизнь страдают, болеют, терпят скорби, обиды и
т.д.? За родительские и прародительские грехи. Эти страдальцы, как живая
жертва, приносятся во искупление родительских и прародительских грехов.
Самое жёсткое сердце, глядя на таких страдальцев, может смягчиться и
сделаться сочувственным и сострадательным к ближнему. От этого зависит
спасение души.
Для искоренения зависти надо смотреть на хуже тебя живущих, тогда мир будет в душе, а не смущение. И завидовать перестанешь.
Как хорошо, как легко умирать, когда нет ничего лишнего! И будет приют в Царстве Небесном!
Если сам ты не милуешь ближних и, что ещё хуже, не прощаешь, то как у Господа будешь просить себе милости и прощения?
Не допускай своевольного поста без благословения, во всём должно держаться золотой середины, нет греха слабым и больным слегка подкрепиться на ночь перед причастием.
За несоблюдение без причины постов, придёт время - постигнет болезнь, тогда не по своей воле придётся поститься.
Умеренность, воздержание, рассуждение, своевременность, постепенность полезны всем и во всём.
Только в церкви человек обновляется душой и получает облегчение в своих скорбях и болезнях.
Господь лишит счастья неблагодарных детей, которые забыли своих родителей, забыли их труды и заботы.
Господь не попускает страданий сверх наших сил, потому надо всё терпеть, а вот гордость страшнее всего. Она - бесовское свойство.
В деле своего спасения не забывайте прибегать к помощи святых отцов и святых мучеников. Их молитвами Господь избавляет от страстей. Но никто не думайте своими силами избавиться от них. Не надейтесь на себя до самой смерти в борьбе со страстями. Только один Господь силён избавить от них просящих у Него помощи. И покоя не ищите до самой смерти.
Кто любит много говорить, празднословить и шутить, у таковых под конец жизни Господь отнимает речь.
Газета «Живоносный источник» № 7 (66), март 2008 г.
Преподобный схиархимандрит Севастиан Карагандинский , в миру Степан Васильевич Фомин, родился 28 октября 1884 года в селе Космодемьянское Орловской губернии в бедной крестьянской семье. После смерти родителей пятилетний Степан стал жить с семьёй старшого брата.
Средний его брат принял постриг в Оптиной Пустыни. Степан хорошо окончил трёхклассную приходскую школу, книги ему давал читать приходской священник. Мальчик был слаб здоровьем, в полевых работах участвовать не мог, а ходил за скотиной, был пастухом. Часто зимой посещал он брата в Оптиной пустыни.
3 января 1909 года был принят в скит Оптиной Пустыни келейником к старцу Иосифу, после смерти которого в 1911 году, перешёл под старческое руководство к отцу Нектарию и остался при нём до 1923 года келейником. В 1917 году пострижен в мантию с именем Севастиан .
10 января 1918 года Оптина пустынь была закрыта, хотя монастырь и продолжал существовать под видом сельскохозяйственной артели. Многие, особенно молодые послушники, не выдержав тяжелого труда и суровых требований, покинули Оптину. Одновременно на её территории был устроен музей. Скитов к этому времени уже не существовало. Все жили практически одним днем.
В 1923 году монастырские службы были полностью прекращены и власти приступили к выселению монахов. Братские келии сдавались музеем желающим в качестве летних дач. Все это время отец Севастиан находился под духовным окормлением старца Нектария Оптинского.
В 1927 году рукоположен в сан иеромонаха от епископа Калужского.
Был келейником старца иеросхимонаха Нектария до самой его кончины 29 апреля 1928 г. По благословению старца после его смерти ехать служить на приход, о.Севастиан уехал сначала в Козельск, затем в Калугу, а потом в Тамбов, где получил назначение на приход в г. Козлов, в Ильинскую церковь, настоятелем которой был прот. Владимир Нечаев, отец будущего митрополита Питирима (Нечаева), от которого впоследствии о. Севастиан примет схиму. Во время ареста прот. Владимира о. Севастиан заботился о его многодетной семье.
В Ильинском храме он служил с 1928 по 1933 годы вплоть до своего ареста. Батюшка не любил немолитвенного нотного пения и старался устроить на своем приходе благоговейное монастырское пение. В этот период он вёл в Козлове борьбу с обновленцами и не оставлял общения с жившей в рассеянии братии Оптиной Пустыни.
В феврале 1933 года был арестован. На допросах батюшка дал прямой ответ: «На все мероприятия советской власти я смотрю как на гнев Божий, и эта власть есть наказание для людей. Такие же взгляды я высказывал среди своих приближенных, а также и среди остальных граждан, с которыми приходилось говорить на эту тему. При этом говорил, что нужно молиться, молиться Богу, а также жить в любви, только тогда мы от этого избавимся. Я мало был доволен соввластью за закрытие церквей, монастырей, так как этим уничтожается Православная вера».
Впоследствии о.Севастиан рассказывал: «Когда меня принуждали отречься от православной веры, то поставили в одной рясе на всю ночь на мороз и стражу приставили. Стража менялась через 2 часа, а я бессменно стоял на одном месте. Но Матерь Божия опустила надо мной такой «шалашик», что мне было в нем тепло. А утром меня повели на допрос и говорят: «Коль ты не отрекся от Христа, так иди в тюрьму».
Его приговорили к 7-летнему заключению на лесоповал, несмотря на слабое здоровье и повреждённую левую руку.
Заключение отбывал в Карагандинском ИТЛ (Карлаг) - «Карагандинском совхозе-гиганте ОГПУ». К середине 30-х годов в Карлаге было создано огромное «образцовое» хозяйство со своими заводами, промышленными цехами, научными программами. Тогда же, начинает зарождаться будущая карагандинская община. У о.Севастиана появляются на зоне духовные чада, постепенно собираются и ждут его освобождения прежние его чада.
«В заключении я был, - вспоминал батюшка, - а посты не нарушал. Если дадут какую-нибудь баланду с мясом, я это не ел, менял на лишнюю пайку хлеба».
После освобождения 29 апреля 1939 года о.Севастиан поселился в пригороде Караганды. «Дорогие мои, - сказал сестрам батюшка, - будем жить здесь. Мы здесь больше пользы принесем, здесь наша вторая родина».
Он окормлял всех стремящихся к Богу, приходя к ним в дома и совершая требы, хотя разрешение на это со стороны властей не было - «народ в Караганде был верный - не выдадут». Батюшку полюбили и в окрестностях, со всех концов страны стали съезжаться духовные чада старца, всех он принимал с любовью и помогал устроиться на новом месте. Часто старец благословлял приезжавших к нему за духовным окормлением монахинь жить в какую-нибудь семью, что было в духе Оптинских старцев. Такие матушки становились как бы ангелами-хранителями дома.

Карагандинский старец преподобный Севастиан
В 1944 г. община устроила себе домовую церковь в с. Большая Михайловка - село стало потихоньку заселяться «батюшкиными». В 50-е годы жизнь карагандинской общины начала налаживаться. В 1953 г. было получено разрешение на молитвенный дом, в 1955 г. удалось добиться регистрации религиозной общины.
Священников батюшка подбирал себе сам. Вокруг него собралась монашеская женская община. О его общине архиепископ Петропавловский и Кустанайский Иосиф (Чернов) так говорил: «батюшка насадил здесь виноград, который потом и слезами вырастил». «Маленькая церковь, от земли не видно, а столп горит до неба».
Батюшка сохранял безупречное исполнение церковного устава, не допуская при богослужении пропусков или сокращений. Церковные службы были для него неотъемлемым условием его внутренней жизни. В беседах его любимым образом был святой апостол Иоанн Богослов - он часто призывал паству к почитанию этого апостола Любви. Отец Севастиан очень почитал святые иконы и говорил, что он даны нам в помощь от темных сил, что есть иконы, особые по славе благодати, есть намоленные веками чудотворные образы, которые, как ручейки, несут от Господа благодать. Он приводил слова старца Нектария Оптинского о том, что мудрость, разум и рассудительность есть дары Святого Духа, которые приводят к благочестию.
Батюшка обладал тонким юмором и любил пошутить, но всегда доброжелательно. Он не жалел времени на беседу с человеком. Каждый его совет приводил к благополучию.
Власти, видя его авторитет, всячески старались закрыть храм, но это им не удавалось: батюшка - как только они его вызовут - обезоруживал их так, что они совершенно лишались дара слова и после его ухода удивлялись: «Что это за старичок такой, что мы сделать ничего не можем?»

Прп. Севастиан (Фомин), Карагандинский, исповедник
Батюшка всегда и во всём учил полагаться на волю Божия Промысла. Он также любил природу, жалел животных, однажды спас только что родившихся котят.
О бесноватых он говорил: «Здесь они потерпят, а там мытарства будут проходить безболезненно… Я не хочу с вас кресты снимать. Здесь вы потерпите, но на Небе большую награду приобретёте». У батюшки была духовная мудрость, великое терпение. Если кто при нём роптал на ближнего, он скажет: «Я вас всех терплю, а вы одного потерпеть не хотите». Не поладит кто, он волнуется: «Я настоятель, а всех вас слушаю».
Он заботился о спасении каждого, это была его цель. Он просил: «Мирнее живите». Однажды, среди беседы о нравах людей батюшка сказал и даже указал: «Вот этих людей нельзя трогать, они, по гордости, не вынесут ни замечания, ни выговора. А других, по их смирению, можно». Очень важное значение он придавал молитвам за усопших, и других призывал: «молитесь за усопших больше всего. За всё слава Богу! Слава Богу за всё!»
Впитав в себя традиции и благодатный святоотеческий дух Оптиной Пустыни и будучи учеником её великих старцев, перенеся изгнания и заключения в большевицких концлагерях, он по неисповедимым судьбам Божиим пронёс своё старческое служение в столице знойных степей центрального Казахстана, многострадальной Караганде.
Скончался старец Севастиан Карагандинский 19 апреля 1966 года, на Радоницу, погребён на Михайловском кладбище.
Прославлен в 1997 году как местночтимый святой Алма-Атинской епархии. Мощи преподобноисповедника Севастиана были обретены 22 октября 1997 года; ныне они находятся в Свято-Введенском соборе города Караганды.
Причислен к лику святых Новомучеников и Исповедников Российских на Архиерейском Соборе Русской Православной Церкви в августе 2000 года для общецерковного почитания.
Награды:
— Патриаршая грамота «За усердное служение Церкви» (1957)
— митра и посох (1965, ко дню Ангела)
Тропарь священноисповедника схиархимандрита Севастиана Карагандинского, глас 3
Тро́ицы Святы́я служи́телю,/ зе́мне а́нгеле и небе́сне челове́че,/ духо́внаго О́птинскаго ста́рчества прее́мниче,/ Христо́в священнотаи́нниче и испове́дниче,/ Ду́ха Свята́го оби́тель всечестна́я,/ преподо́бне о́тче Севастиа́не, досточти́ме,/ испроси́ ми́рови мир/ и душа́м на́шим ве́лию ми́лость.
Кондак глас 3
В радость Господа Воскресшаго в шедшаго,/ преподобным Oптинским старцем сликовника,/ мучеников и исповедников сопричастника,/ священнотаинникам Божиим сослужителя,/ земна Aнгела и небесна человека,/ града Караганды боголепное украшение,/ Казахстанския страны богомольца изрядна,/ Церкви Русския похвалу/ ублажим, вернии,/ с веселием ему вопия:/ радуйся, Севастиане, преподобне отче наш.
Молитва преподобному Севастиану, старцу Карагандинскому
О, пречестная и священная главо, благодати Святаго Духа исполненная, Спасoво со Отцем обиталище, старцев оптинских учениче и преемниче, града Караганды светлейшее украшение, Казахстанския страны бoгодарованный молитвенниче, Церкви Русския пастырю богопрославленный, сирым и вдовицам заступниче, немощных врачу безмездный, правило веры и благочестия, преподобных сожителю и мучеников сопричастниче, богоносне отче наш Севастиане досточтиме! К тебе усердно прибегая, моление теплое приносим: от сокровищницы твоея подаждь и нашему убожеству; смирением твоим нашу гордыню низложи; безстрастием наша страсти попали; бодроствованием лености навык от нас отжени; слезными токи наше нечувствие пробуди; бдением от нерадения нас возстави; молитвами и в нас пламень молитвы возжги; любовию нас братолюбны сотвори; подаждь же нам дух кротости и смирения, дух чистоты и благочестия; от страстей многонедужия нас свободи и ко истинному покаянию приведи. Ты бо во уме твоем непрестанно имел еси на Кресте Распявшагося за нас Сына Божия, Того сладчайшее Имя во уме и в сердце непрестанно имети и нас научи, да любовию Тому пламенея, страшный оный день судный сретити уготовимся, и в Царствие Небесное внити с тобою сподобимся, славити и воспевати Триединую державу Бога нашего: Отца и Сына и Духа Святаго во веки. Аминь.
- 5 февраля (переходящая) – Собор новомучеников и исповедников Церкви Русской
- 19 апреля
- 22 октября – Обрете́ние мощей
В миру Степан Васильевич Фомин, родился 28 октября 1884 года в селе Космодемьянское Орловской губернии в бедной крестьянской семье. После смерти родителей пятилетний Степан стал жить с семьёй старшого брата. Средний его брат принял постриг в Оптиной Пустыни. Степан хорошо окончил трёхклассную приходскую школу, книги ему давал читать приходской священник. Мальчик был слаб здоровьем, в полевых работах участвовать не мог, а ходил за скотиной, был пастухом. Часто зимой посещал он брата в Оптиной пустыни.
3 января 1909 года был принят в скит Оптиной Пустыни келейником к старцу Иосифу, после смерти которого в 1911 году, перешёл под старческое руководство к отцу Нектарию и остался при нём до 1923 года келейником.
В 1917 году пострижен в мантию с именем Севастиан.
10 января 1918 года Оптина пустынь была закрыта, хотя монастырь и продолжал существовать под видом сельскохозяйственной артели. Многие, особенно молодые послушники, не выдержав тяжелого труда и суровых требований, покинули Оптину. Одновременно на её территории был устроен музей. Скитов к этому времени уже не существовало. Все жили практически одним днем. В 1923 году монастырские службы были полностью прекращены и власти приступили к выселению монахов. Братские келии сдавались музеем желающим в качестве летних дач. Все это время отец Севастиан находился под духовным окормлением старца Нектария Оптинского.
В 1927 году рукоположен в сан иеромонаха от епископа Калужского.
Иеромонах Севастиан (Фомин), город Козлов. 1928 год Иеромонах Севастиан (Фомин), город Козлов. 1928 год Был келейником старца иеросхимонаха Нектария до самой его кончины 29 апреля 1928 г. По благословению старца после его смерти ехать служить на приход, о.Севастиан уехал сначала в Козельск, затем в Калугу, а потом в Тамбов, где получил назначение на приход в г. Козлов, в Ильинскую церковь, настоятелем которой был прот. Владимир Нечаев, отец будущего митрополита Питирима (Нечаева), от которого впоследствии о. Севастиан примет схиму. Во время ареста прот. Владимира о. Севастиан заботился о его многодетной семье.
В Ильинском храме он служил с 1928 по 1933 годы вплоть до своего ареста. Батюшка не любил немолитвенного нотного пения и старался устроить на своем приходе благоговейное монастырское пение. В этот период он вёл в Козлове борьбу с обновленцами и не оставлял общения с жившей в рассеянии братии Оптиной Пустыни.
В феврале 1933 года был арестован. На допросах батюшка дал прямой ответ: «На все мероприятия советской власти я смотрю как на гнев Божий, и эта власть есть наказание для людей. Такие же взгляды я высказывал среди своих приближенных, а также и среди остальных граждан, с которыми приходилось говорить на эту тему. При этом говорил, что нужно молиться, молиться Богу, а также жить в любви, только тогда мы от этого избавимся. Я мало был доволен соввластью за закрытие церквей, монастырей, так как этим уничтожается Православная вера».
Впоследствии о.Севастиан рассказывал: "Когда меня принуждали отречься от православной веры, то поставили в одной рясе на всю ночь на мороз и стражу приставили. Стража менялась через 2 часа, а я бессменно стоял на одном месте. Но Матерь Божия опустила надо мной такой "шалашик", что мне было в нем тепло. А утром меня повели на допрос и говорят: "Коль ты не отрекся от Христа, так иди в тюрьму".
Его приговорили к 7-летнему заключению на лесоповал, несмотря на слабое здоровье и повреждённую левую руку.
Заключение отбывал в Карагандинском ИТЛ (Карлаг) - "Карагандинском совхозе-гиганте ОГПУ". К середине 30-х годов в Карлаге было создано огромное "образцовое" хозяйство со своими заводами, промышленными цехами, научными программами. Тогда же, начинает зарождаться будущая карагандинская община. У о.Севастиана появляются на зоне духовные чада, постепенно собираются и ждут его освобождения прежние его чада.
«В заключении я был, — вспоминал батюшка, — а посты не нарушал. Если дадут какую-нибудь баланду с мясом, я это не ел, менял на лишнюю пайку хлеба».
После освобождения 29 апреля 1939 года о.Севастиан поселился в пригороде Караганды. "Дорогие мои, - сказал сестрам батюшка, - будем жить здесь. Мы здесь больше пользы принесем, здесь наша вторая родина".
Он окормлял всех стремящихся к Богу, приходя к ним в дома и совершая требы, хотя разрешение на это со стороны властей не было — «народ в Караганде был верный — не выдадут». Батюшку полюбили и в окрестностях, со всех концов страны стали съезжаться духовные чада старца, всех он принимал с любовью и помогал устроиться на новом месте. Часто старец благословлял приезжавших к нему за духовным окормлением монахинь жить в какую-нибудь семью, что было в духе Оптинских старцев. Такие матушки становились как бы ангелами-хранителями дома.
В 1944 г. община устроила себе домовую церковь в с. Большая Михайловка - село стало потихоньку заселяться "батюшкиными". В 50-е годы жизнь карагандинской общины начала налаживаться. В 1953 г. было получено разрешение на молитвенный дом, в 1955 г. удалось добиться регистрации религиозной общины.
Священников батюшка подбирал себе сам. Вокруг него собралась монашеская женская община. О его общине архиепископ Петропавловский и Кустанайский Иосиф (Чернов) так говорил: «батюшка насадил здесь виноград, который потом и слезами вырастил». «Маленькая церковь, от земли не видно, а столп горит до неба».
Батюшка сохранял безупречное исполнение церковного устава, не допуская при богослужении пропусков или сокращений. Церковные службы были для него неотъемлемым условием его внутренней жизни. В беседах его любимым образом был святой апостол Иоанн Богослов — он часто призывал паству к почитанию этого апостола Любви. Отец Севастиан очень почитал святые иконы и говорил, что он даны нам в помощь от темных сил, что есть иконы, особые по славе благодати, есть намоленные веками чудотворные образы, которые, как ручейки, несут от Господа благодать. Он приводил слова старца Нектария Оптинского о том, что мудрость, разум и рассудительность есть дары Святого Духа, которые приводят к благочестию.
Батюшка обладал тонким юмором и любил пошутить, но всегда доброжелательно. Он не жалел времени на беседу с человеком. Каждый его совет приводил к благополучию.
Власти, видя его авторитет, всячески старались закрыть храм, но это им не удавалось: батюшка — как только они его вызовут — обезоруживал их так, что они совершенно лишались дара слова и после его ухода удивлялись: «Что это за старичок такой, что мы сделать ничего не можем?»
Батюшка всегда и во всём учил полагаться на волю Божия Промысла. Он также любил природу, жалел животных, однажды спас только что родившихся котят.
О бесноватых он говорил: «Здесь они потерпят, а там мытарства будут проходить безболезненно... Я не хочу с вас кресты снимать. Здесь вы потерпите, но на Небе большую награду приобретёте». У батюшки была духовная мудрость, великое терпение. Если кто при нём роптал на ближнего, он скажет: «Я вас всех терплю, а вы одного потерпеть не хотите». Не поладит кто, он волнуется: «Я настоятель, а всех вас слушаю».
Он заботился о спасении каждого, это была его цель. Он просил: «Мирнее живите». Однажды, среди беседы о нравах людей батюшка сказал и даже указал: «Вот этих людей нельзя трогать, они, по гордости, не вынесут ни замечания, ни выговора. А других, по их смирению, можно». Очень важное значение он придавал молитвам за усопших, и других призывал: «молитесь за усопших больше всего. За всё слава Богу! Слава Богу за всё!»
Впитав в себя традиции и благодатный святоотеческий дух Оптиной Пустыни и будучи учеником её великих старцев, перенеся изгнания и заключения в большевицких концлагерях, он по неисповедимым судьбам Божиим пронёс своё старческое служение в столице знойных степей центрального Казахстана, многострадальной Караганде.
Прославлен в 1997 году как местночтимый святой Алма-Атинской епархии. 4 ноября 1997 года были обретены его святые мощи и перенесены в новый храм Рождества Пресвятой Богородицы в Караганде.
Причислен к лику святых Новомучеников и Исповедников Российских на Архиерейском Соборе Русской Православной Церкви в августе 2000 года для общецерковного почитания.
Награды
- Патриаршая грамота «За усердное служение Церкви» (1957)
- митра и посох (1965, ко дню Ангела)
Тропарь, глас 3
Тро́ицы Святы́я служи́телю,/ зе́мне а́нгеле и небе́сне челове́че,/ духо́внаго О́птинскаго ста́рчества прее́мниче,/ Христо́в священнотаи́нниче и испове́дниче,/ Ду́ха Свята́го оби́тель всечестна́я,/ преподо́бне о́тче Севастиа́не, досточти́ме,/ испроси́ ми́рови мир/ и душа́м на́шим ве́лию ми́лость.
Кондак глас 3
В радость Господа Воскресшаго в шедшаго,/ преподобным Oптинским старцем сликовника,/ мучеников и исповедников сопричастника,/ священнотаинникам Божиим сослужителя,/ земна Aнгела и небесна человека,/ града Караганды боголепное украшение,/ Казахстанския страны богомольца изрядна,/ Церкви Русския похвалу/ ублажим, вернии,/ с веселием ему вопия:/ радуйся, Севастиане, преподобне отче наш.
Преподобноисповедника Севастиана Карагандинского почитают не только в Мичуринске, где он служил несколько лет, но также в Караганде (здесь он прожил вторую половину жизни, попав в Казахстан не своей волей да так и оставшись там) и в , где начинался его монашеский путь.
Родился преподобноисповедник Савастиан Карагандинский в 1884 году в селе Космодемьянском Орловской губернии в крестьянской семье. Родители его рано умерли, и Севастиан (а тогда — Степан) воспитывался в семье старшего брата. Тяжелой работы он делать не мог, серьезно повредив еще в раннем детстве левую руку, и его приставили ходить за стадом. Зимами мальчик учился в церковноприходской школе.
В 1908 году средний из трех братьев Фоминых принял в Оптиной монашеский постриг. И через несколько месяцев Степан приехал к нему. 3 января 1909 года его приняли в монастырь, назначив послушание келейника при старце Иосифе.
Севастиан Карагандинский в Оптиной пустыни
В 1911 году прп. Иосиф умер. Его смерть потрясла послушника, два первых — младенческих, так важных — года своей монастырской жизни проведшего при нем почти безотлучно. После смерти о. Иосифа Степан перешел в келейники к старцу Нектарию (точнее, о. Нектарий перешел в келью покойного о. Иосифа, а Степан остался при нем). В 1917 году, за несколько месяцев до закрытия Оптиной пустыни, он принял постриг с именем Севастиан.
Монастырь «ликвидировали», но он продолжал еще некоторое время существовать в качестве сельскохозяйственной артели. Скоро, однако, и это «полусуществование» сделалось невозможным. И в 1923 году, после ареста старца Нектария, о. Севастиан (уже рукоположенный во иеродиакона) поселился в Козельске. В 1928 году он был рукоположен во иеромонаха, а вскоре скончался старец Нектарий. Исполняя его волю, о. Севастиан уехал служить на приход — сначала в Калугу, а потом, по приглашению о. Владимира Нечаева, в Козлов. В Оптиной, надо сказать, отец Владимир никогда не бывал, так за приходскими делами и не собрался. Но он переписывался со старцем Нектарием и знал, что о. Севастиан — его ученик.
Севастиан Карагандинский Служба в Ильинском храме Мичуринска
Служа в , о. Севастиан терпел непривычные для себя, закаленного скитской жизнью монаха, огорчения. Например, досадовал на регента, любителя веселого и громкого «опереточного» пения. Батюшка настаивал, чтобы тот подходил перед службой к нему за благословением, делал внушения о необходимости «молитвенного пения». Регент артачился: «Его — алтарь, клирос — мой». Но строгий иеромонах вел свою линию — и пели все-таки в большей степени по-монастырски.
Певчие тоже доставляли ему немало хлопот. К празднику они требовали себе водки или на водку. Так уж повелось исстари, и в церковной среде относились к этому снисходительно. О. Севастиану эти «порядки» не нравились. Кормить, одевать, обувать он был готов. Поить водкой, к неудовольствию певчих (иногда весьма деятельному неудовольствию), — нет.
В Козлов к о. Севастиану съезжались близкие по духу люди — оптинцы, шамординские инокини, миряне, связанные как-либо с Оптиной или Шамординым. Сложилась небольшая община. В 1933 году батюшку вместе с «шамординками» Варварой, Агриппиной и Февронией арестовали.
Арест
На допросе о. Севастиана спрашивали о его отношении к советской власти, к ее «мероприятиям». На эти вопросы он ответил добросовестно: «На все мероприятия советской власти я смотрю как на гнев Божий, и эта власть есть наказание для людей. Такие взгляды я высказывал среди своих приближенных, а также и среди остальных граждан, с которыми приходилось говорить на эту тему. При этом говорил, что нужно молиться, молиться Богу, а также жить в любви, тогда только мы от этого избавимся. Я мало был доволен советской властью за закрытие церквей, монастырей, так как этим уничтожается православная вера».
2 июня 1933 года последовал приговор: «Фомина Степана Васильевича, обвиняемого по ст. 58-10, II УК, заключить в исправтрудлагерь сроком на семь лет».
Несмотря на то, что медкомиссия признала о. Севастиана не годным к тяжелому физическому труду, его отправили на лесоповал — здесь же, в Тамбовской области. Через год перевели в Карлаг. После освобождения он так и остался в Караганде, поселившись у своих послушниц.
В Караганде
В Казахстане (и особенно в Караганде) в то время оказались многие «религиозники». Освобождаясь из лагеря, они не разъезжались (кто-то оставался на положении ссыльного, кому-то просто некуда было возвращаться). С ними и был теперь старец Севастиан. Казахстан он называл «своей второй родиной». Здесь он служил — сначала дома, а в 1950-е годы в Караганде, после долгих хлопот верующих, открылся храм. В 1957 году о. Севастиана возвели в сан архимандрита.
Как во всяком небольшом, сравнительно замкнутом кругу (в семье, по существу), время от времени в собранной им общине начинало «скрежетать». И все взаимные неудовольствия, обиды — все падало на Старцеву голову. Он страдал: «Я всех вас терплю, а вы одного потерпеть не хотите... Я настоятель, а всех вас слушаю». И просил, умолял: «Мирнее живите, мирнее!»
Во второй половине 1950-х возобновились отношения старца с митрополитом Питиримом (тогда не митрополитом еще, конечно: в 1959 году он «сравнялся в звании» с о. Севастианом). Не виделись они с начала 1930-х, когда Нечаевым пришлось переехать в Москву. Но теперь уже связь между ними не обрывалась до самой смерти о. Севастиана.
«В нем было, — вспоминал о старце владыка Питирим, — удивительное сочетание физической слабости и духовной — даже не скажу, силы, но — приветливости, в которой растворялась любая человеческая боль, любая тревога. Когда смятенный, возмущенный чем-то человек ехал к нему, думая выплеснуть всю свою ярость, все раздражение, — он успокаивался уже по дороге и, встретившись со старцем, уже спокойно, объективно излагал ему свой вопрос, а тот спокойно его выслушивал, иногда же, предупреждая волну раздражения, сразу давал ему короткий ответ».
19 апреля 1966 года, приняв постриг в схиму от владыки Питирима, старец Севастиан скончался. Похоронили его на городском Михайловском кладбище. В 1997 году он был прославлен как местночтимый святой Алма-Атинской епархии, мощи его перенесли в карагандинский Богородице-Рождественский храм. В августе 2000 года состоялось прославление преподобноисповедника Севастиана для общецерковного почитания.


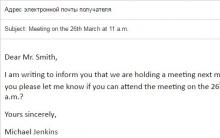








Патриарх Никон. Краткая биография. Патриарх Московский и всея Руси. Никон Церковь никон
Что такое сводная отчетность?
Обязательный аудит — основания для проведения аудита
Что можно приготовить из курицы
Как пожарить макароны на сковороде