Текущая страница: 1 (всего у книги 8 страниц)
Николай Александрович Добролюбов
Луч света в темном царстве
(«Гроза», драма в пяти действиях А. Н. Островского. СПб., 1860)
Незадолго до появления на сцене «Грозы» мы разбирали очень подробно все произведения Островского. Желая представить характеристику таланта автора, мы обратили тогда внимание на явления русской жизни, воспроизводимые в его пьесах, старались уловить их общий характер и допытаться, таков ли смысл этих явлений в действительности, каким он представляется нам в произведениях нашего драматурга. Если читатели не забыли, – мы пришли тогда к тому результату, что Островский обладает глубоким пониманием русской жизни и великим уменьем изображать резко и живо самые существенные ее стороны {1} . «Гроза» вскоре послужила новым доказательством справедливости нашего заключения. Мы хотели тогда же говорить о ней, но почувствовали, что нам необходимо пришлось бы при этом повторить многие из прежних наших соображений, и потому решились молчать о «Грозе», предоставив читателям, которые поинтересовались нашим мнением, проверить на ней те общие замечания, какие мы высказали об Островском еще за несколько месяцев до появления этой пьесы. Наше решение утвердилось в нас еще более, когда мы увидели, что по поводу «Грозы» появляется во всех журналах и газетах целый ряд больших и маленьких рецензий, трактовавших дело с самых разнообразных точек зрения. Мы думали, что в этой массе статеек скажется наконец об Островском и о значении его пьес что-нибудь побольше того, нежели что мы видели в критиках, о которых упоминали в начале первой статьи нашей о «Темном царстве» . В этой надежде и в сознании того, что наше собственное мнение о смысле и характере произведений Островского высказано уже довольно определенно, мы и сочли за лучшее оставить разбор «Грозы».
Но теперь, снова встречая пьесу Островского в отдельном издании и припоминая все, что было о ней писано, мы находим, что сказать о ней несколько слов с нашей стороны будет совсем не лишнее. Она дает нам повод дополнить кое-что в наших заметках о «Темном царстве», провести далее некоторые из мыслей, высказанных нами тогда, и – кстати – объясниться в коротких словах с некоторыми из критиков, удостоивших нас прямою или косвенною бранью.
Надо отдать справедливость некоторым из критиков: они умели понять различие, которое разделяет нас с ними. Они упрекают нас в том, что мы приняли дурную методу – рассматривать произведение автора и затем, как результат этого рассмотрения, говорить, что в нем содержится и каково это содержимое. У них совсем другая метода: они прежде говорят себе – что должно содержаться в произведении (по их понятиям, разумеется) и в какой мере все должное действительно в нем находится (опять сообразно их понятиям). Понятно, что при таком различии воззрений они с негодованием смотрят на наши разборы, уподобляемые одним из них «приисканию морали к басне». Но мы очень рады тому, что наконец разница открыта, и готовы выдержать какие угодно сравнения. Да, если угодно, наш способ критики походит и на приискание нравственного вывода в басне: разница, например, в приложении к критике комедий Островского, и будет лишь настолько велика, насколько комедия отличается от басни и насколько человеческая жизнь, изображаемая в комедиях, важнее и ближе для нас, нежели жизнь ослов, лисиц, тростинок и прочих персонажей, изображаемых в баснях. Во всяком случае, гораздо лучше, по нашему мнению, разобрать басню и сказать: «Вот какая мораль в ней содержится, и эта мораль кажется нам хороша или дурна, и вот почему», – нежели решить с самого начала: в этой басне должна быть такая-то мораль (например, почтение к родителям), и вот как должна она быть выражена (например, в виде птенца, ослушавшегося матери и выпавшего из гнезда); но эти условия не соблюдены, мораль не та (например, небрежность родителей о детях) или высказана не так (например, в примере кукушки, оставляющей свои яйца в чужих гнездах), – значит, басня не годится. Этот способ критики мы видели не раз в приложении к Островскому, хотя никто, разумеется, и не захочет в том признаться, а еще на нас же, с больной головы на здоровую, свалят обвинение, что мы приступаем к разбору литературных произведений с заранее принятыми идеями и требованиями. А между тем чего же яснее, – разве не говорили славянофилы: следует изображать русского человека добродетельным и доказывать, что корень всякого добра – жизнь по старине; в первых пьесах своих Островский этого не соблюл, и потому «Семейная картина» и «Свои люди» недостойны его и объясняются только тем, что он еще подражал тогда Гоголю. А западники разве не кричали: следует научать в комедии, что суеверие вредно, а Островский колокольным звоном спасает от погибели одного из своих героев; следует вразумлять всех, что истинное благо состоит в образованности, а Островский в своей комедии позорит образованного Вихорева перед неучем Бородкиным; ясно, что «Не в свои сани не садись» и «Не так живи, как хочется» – плохие пьесы. А приверженцы художественности разве не провозглашали: искусство должно служить вечным и всеобщим требованиям эстетики, а Островский в «Доходном месте» низвел искусство до служения жалким интересам минуты; потому «Доходное место» недостойно искусства и должно быть причислено к обличительной литературе!.. А г. Некрасов из Москвы разве не утверждал: Большов не должен в нас возбуждать сочувствия, а между тем 4-й акт «Своих людей» написан для того, чтобы возбудить в нас сочувствие к Большову; стало быть, четвертый акт лишний!.. {2} А г. Павлов (Н. Ф.) разве не извивался, давая разуметь такие положения: русская народная жизнь может дать материал только для балаганных представлений; в ней нет элементов для того, чтобы из нее состроить что-нибудь сообразное «вечным» требованиям искусства; очевидно поэтому, что Островский, берущий сюжет из простонародной жизни, есть не более, как балаганный сочинитель… {3} А еще один московский критик разве не строил таких заключений: драма должна представлять нам героя, проникнутого высокими идеями; героиня «Грозы», напротив, вся проникнута мистицизмом, следовательно, не годится для драмы, ибо не может возбуждать нашего сочувствия; следовательно, «Гроза» имеет только значение сатиры, да и то не важной, и пр. и пр… {4}
Кто следил за тем, что писалось у нас по поводу «Грозы», тот легко припомнит и еще несколько подобных критик. Нельзя сказать, чтоб все они были написаны людьми совершенно убогими в умственном отношении; чем же объяснить то отсутствие прямого взгляда на вещи, которое во всех них поражает беспристрастного читателя? Без всякого сомнения, его надо приписать старой критической рутине, которая осталась во многих головах от изучения художественной схоластики в курсах Кошанского, Ивана Давыдова, Чистякова и Зеленецкого. Известно, что, по мнению сих почтенных теоретиков, критика есть приложение к известному произведению общих законов, излагаемых в курсах тех же теоретиков: подходит под законы – отлично; не подходит – плохо. Как видите, придумано недурно для отживающих стариков: покамест такое начало живет в критике, они могут быть уверены, что не будут считаться совсем отсталыми, что бы ни происходило в литературном мире. Ведь законы прекрасного установлены ими в их учебниках, на основании тех произведений, в красоту которых они веруют; пока все новое будут судить на основании утвержденных ими законов, до тех пор изящным и будет признаваться только то, что с ними сообразно, ничто новое не посмеет предъявить своих прав; старички будут правы, веруя в Карамзина и не признавая Гоголя, как думали быть правыми почтенные люди, восхищавшиеся подражателями Расина и ругавшие Шекспира пьяным дикарем, вслед за Вольтером, или преклонявшиеся пред «Мессиадой» и на этом основании отвергавшие «Фауста». Рутинерам, даже самым бездарным, нечего бояться критики, служащей пассивною поверкою неподвижных правил тупых школяров, – и в то же время – нечего надеяться от нее самым даровитым писателям, если они вносят в искусство нечто новое и оригинальное. Они должны идти наперекор всем нареканиям «правильной» критики, назло ей составить себе имя, назло ей основать школу и добиться того, чтобы с ними стал соображаться какой-нибудь новый теоретик при составлении нового кодекса искусства. Тогда и критика смиренно признает их достоинства; а до тех пор она должна находиться в положении несчастных неаполитанцев в начале нынешнего сентября, – которые хоть и знают, что не нынче так завтра к ним Гарибальди придет, а все-таки должны признавать Франциска своим королем, пока его королевскому величеству не угодно будет оставить свою столицу.
Мы удивляемся, как почтенные люди решаются признавать за критикою такую ничтожную, такую унизительную роль. Ведь ограничивая ее приложением «вечных и общих» законов искусства к частным и временным явлениям, через это самое осуждают искусство на неподвижность, а критике дают совершенно приказное и полицейское значение. И это делают многие от чистого сердца! Один из авторов, о котором мы высказали свое мнение, несколько непочтительно напомнил нам, чю неуважительное обращение судьи с подсудимым есть преступление {5} . О наивный автор! Как он преисполнен теориями Кошанского и Давыдова! Он совершенно серьезно принимает пошлую метафору, что критика есть трибунал, пред которым авторы являются в качестве подсудимых! Вероятно, он принимает также за чистую монету и мнение, что плохие стихи составляют грех пред Аполлоном и что плохих писателей в наказание топят в реке Лете!.. Иначе – как же не видеть разницы между критиком и судьею? В суд тянут людей по подозрению в проступке или преступлении, и дело судьи решить, прав или виноват обвиненный; а писатель разве обвиняется в чем-нибудь, когда подвергается критике? Кажется, те времена, когда занятие книжным делом считалось ересью и преступлением, давно уже прошли. Критик говорит свое мнение, нравится или не нравится ему вещь; и так как предполагается, что он не пустозвон, а человек рассудительный, то он и старается представить резоны, почему он считает одно хорошим, а другое дурным. Он не считает своего мнения решительным приговором, обязательным для всех; если уж брать сравнение из юридической сферы, то он скорее адвокат, нежели судья. Ставши на известную точку зрения, которая ему кажется наиболее справедливою, он излагает читателям подробности дела, как он его понимает, и старается им внушить свое убеждение в пользу или против разбираемого автора. Само собою разумеется, что он при этом может пользоваться всеми средствами, какие найдет пригодными, лишь бы они не искажали сущности дела: он может вас приводить в ужас или в умиление, в смех или в слезы, заставлять автора делать невыгодные для него признания или доводить его до невозможности отвечать. Из критики, исполненной таким образом, может произойти вот какой результат: теоретики, справясь с своими учебниками, могут все-таки увидеть, согласуется ли разобранное произведение с их неподвижными законами, и, исполняя роль судей, порешат, прав или виноват автор. Но известно, что в гласном производстве нередки случаи, когда присутствующие в суде далеко не сочувствуют тому решению, какое произносится судьею сообразно с такими-то статьями кодекса: общественная совесть обнаруживает в этих случаях полный разлад со статьями закона. То же самое еще чаще может случаться и при обсуждении литературных произведений: и когда критик-адвокат надлежащим образом поставит вопрос, сгруппирует факты и бросит на них свет известного убеждения, – общественное мнение, не обращая внимания на кодексы пиитики, будет уже знать, чего ему держаться.
Если внимательно присмотреться к определению критики «судом» над авторами, то мы найдем, что оно очень напоминает то понятие, какое соединяют с словом «критика» наши провинциальные барыни и барышни и над которым так остроумно подсмеивались, бывало, наши романисты. Еще и ныне не редкость встретить такие семейства, которые с некоторым страхом смотрят на писателя, потому что он «на них критику напишет». Несчастные провинциалы, которым раз забрела в голову такая мысль, действительно представляют из себя жалкое зрелище подсудимых, которых участь зависит от почерка пера литератора. Они смотрят ему в глаза, конфузятся, извиняются, оговариваются, как будто в самом деле виноватые, ожидающие казни или милости. Но надо сказать, что такие наивные люди начинают выводиться теперь и в самых далеких захолустьях. Вместе с тем как право «сметь свое суждение иметь» перестает быть достоянием только известного ранга или положения, а делается доступно всем и каждому, вместе с тем и в частной жизни появляется более солидности и самостоятельности, менее трепета пред всяким посторонним судом. Теперь уже высказывают свое мнение просто затем, что лучше его объявить, нежели скрывать, высказывают потому, что считают полезным обмен мыслей, признают за каждым право заявлять свой взгляд и свои требования, наконец, считают даже обязанностью каждого участвовать в общем движении, сообщая свои наблюдения и соображения, какие кому по силам. Отсюда далеко до роли судьи. Если я вам скажу, что вы по дороге платок потеряли или что вы идете не в ту сторону, куда вам нужно и т. п., – это еще не значит, что вы мой подсудимый. Точно так же не буду я вашим подсудимым и в том случае, когда вы начнете описывать меня, желая дать обо мне понятие вашим знакомым. Входя в первый раз в новое общество, я очень хорошо знаю, что надо мною делают наблюдения и составляют мнения обо мне; но неужели мне поэтому следует воображать себя перед каким-то ареопагом – и заранее трепетать, ожидая приговора? Без всякого сомнения, замечания обо мне будут сделаны: один найдет, что у меня нос велик, другой – что борода рыжая, третий – что галстук дурно повязан, четвертый – что я угрюм, и т. д. Ну, и пусть их замечают, мне-то что за дело до этого? Ведь моя рыжая борода – не преступление, и никто не может спросить у меня отчета, как я смею иметь такой большой носу Значит, тут мне и думать не о чем: нравится или нет моя фигура, это дело вкуса, и высказывать мнение о ней я никому запретить не могу; а с другой стороны, меня и не убудет от того, что заметят мою неразговорчивость, ежели я действительно молчалив. Таким образом, первая критическая работа (в нашем смысле) – подмечание и указание фактов – совершается совершенно свободно и безобидно. Затем другая работа – суждение на основании фактов – продолжает точно так же держать того, кто судит, совершенно в равных шансах с тем, о ком он судит. Это потому, что, высказывая свой вывод из известных данных, человек всегда и самого себя подвергает суду и поверке других относительно справедливости и основательности его мнения. Если, например, кто-нибудь на основании того, что мой галстук повязан не совсем изящно, решит, что я дурно воспитан, то такой судья рискует дать окружающим не совсем высокое понятие о его логике. Точно так, если какой-нибудь критик упрекает Островского за то, что лицо Катерины в «Грозе» отвратительно и безнравственно, то он не внушает особого доверия к чистоте собственного нравственного чувства. Таким образом, пока критик указывает факты, разбирает их и делает свои выводы, автор безопасен и самое дело безопасно. Тут можно претендовать только на то, когда критик искажает факты, лжет. А если он представляет дело верно, то каким бы тоном он ни говорил, к каким бы выводам он ни приходил, от его критики, как от всякого свободного и фактами подтверждаемого рассуждения, всегда будет более пользы, нежели вреда – для самого автора, если он хорош, и во всяком случае для литературы – даже если автор окажется и дурен. Критика – не судейская, а обыкновенная, как мы ее понимаем, – хороша уже и тем, что людям, не привыкшим сосредоточивать своих мыслей на литературе, дает, так сказать, экстракт писателя и тем облегчает возможность понимать характер и значение его произведений. А как скоро писатель понят надлежащим образом, мнение о нем не замедлит составиться и справедливость будет ему отдана, без всяких разрешений со стороны почтенных составителей кодексов.
Правда, иногда объясняя характер известного автора или произведения, критик сам может найти в произведении то, чего в нем вовсе нет. Но в этих случаях критик всегда сам выдает себя. Если он вздумает придать разбираемому творению мысль более живую и широкую, нежели какая действительно положена в основание его автором, – то, очевидно, он не в состоянии будет достаточно подтвердить свою мысль указаниями на самое сочинение, и таким образом критика, показавши, чем бы могло быть разбираемое произведение, чрез то самое только яснее выкажет бедность его замысла и недостаточность исполнения. В пример подобной критики можно указать, например, на разбор Белинским «Тарантаса», наиисанный с самой злой и тонкой иронией; разбор этот многими принимаем был за чистую монету, но и эти многие находили, что смысл, приданный «Тарантасу» Белинским, очень хорошо проводится в его критике, но с самым сочинением графа Соллогуба ладится плохо {6} . Впрочем, такого рода критические утрировки встречаются очень редко. Гораздо чаще другой случай – что критик действительно не поймет разбираемого автора и выведет из его сочинения то, чего совсем и не следует. Так и тут беда не велика: способ рассуждений критика сейчас покажет читателю, с кем он имеет дело, и будь только факты налицо в критике, – фальшивые умствования не надуют читателя. Например, один г. П – ий, разбирая «Грозу», решился последовать той же методе, какой мы следовали в статьях о «Темном царстве», и, изложивши сущность содержания пьесы, принялся за выводы. Оказалось, по его соображениям, что Островский в «Грозе» вывел на смех Катерину, желая в ее лице опозорить русский мистицизм. Ну, разумеется, прочитавши такой вывод, сейчас и видишь, к какому разряду умов принадлежит г. П – ий и можно ли полагаться на его соображения. Никого такая критика не собьет с толку, никому она не опасна…
Совсем другое дело та критика, которая приступает к авторам, точно к мужикам, приведенным в рекрутское присутствие, с форменного меркою, и кричит то «лоб!», то «затылок!», смотря по тому, подходит новобранец под меру или нет. Там расправа короткая и решительная; и если вы верите в вечные законы искусства, напечатанные в учебнике, то вы от такой критики не отвертитесь. Она по пальцам докажет вам, что то, чем вы восхищаетесь, никуда не годится, а от чего вы дремлете, зеваете или получаете мигрень, это-то и есть настоящее сокровище. Возьмите, например, хоть «Грозу»: что это такое? Дерзкое оскорбление искусства, ничего больше, – и это очень легко доказать. Раскройте «Чтения о словесности» заслуженного профессора и академика Ивана Давыдова, составленные им с помощью перевода лекций Блэра, или загляните хоть в кадетский курс словесности г. Плаксина, – там ясно определены условия образцовой драмы. Предметом драмы непременно должно быть событие, где мы видим борьбу страсти и долга, – с несчастными последствиями победы страсти или с счастливыми, когда побеждает долг. В развитии драмы должно быть соблюдаемо строгое единство и последовательность; развязка должна естественно и необходимо вытекать из завязки; каждая сцена должна непременно способствовать движению действия и подвигать его к развязке; поэтому в пьесе не должно быть ни одного лица, которое прямо и необходимо не участвовало бы в развитии драмы, не должно быть ни одного разговора, не относящегося к сущности пьесы. Характеры действующих лиц должны быть ярко обозначены, и в обнаружении их должна быть необходима постепенность, сообразно с развитием действия. Язык должен быть сообразен с положением каждого лица, но не удаляться от чистоты литературной и не переходить в вульгарность.
Вот, кажется, все главные правила драмы. Приложим их к «Грозе».
Предмет драмы действительно представляет борьбу в Катерине между чувством долга супружеской верности и страсти к молодому Борису Григорьевичу. Значит, первое требование найдено. Но затем, отправляясь от этого требования, мы находим, что другие условия образцовой драмы нарушены в «Грозе» самым жестоким образом.
И, во-первых, – «Гроза» не удовлетворяет самой существенной внутренней цели драмы – внушить уважение к нравственному долгу и показать пагубные последствия увлечения страстью. Катерина, эта безнравственная, бесстыжая (по меткому выражению Н. Ф. Павлова) женщина, выбежавшая ночью к любовнику, как только муж уехал из дому, эта преступница представляется нам в драме не только не в достаточно мрачном свете, но даже с каким-то сиянием мученичества вокруг чела. Она говорит так хорошо, страдает так жалобно, вокруг нее все так дурно, что против нее у вас нет негодования, вы ее сожалеете, вы вооружаетесь против ее притеснителей, и, таким обраэом, в ее лице оправдываете порок. Следовательно, драма не выполняет своего высокого назначения и делается, если не вредным примером, то по крайней мере праздною игрушкой.
Далее, с чисто художественной точки зрения находим также недостатки весьма важные. Развитие страсти представлено недостаточно: мы не видим, как началась и усилилась любовь Катерины к Борису и чем именно была она мотивирована; поэтому и самая борьба страсти и долга обозначается для нас не вполне ясно и сильно.
Единство впечатления также не соблюдено: ему вредит примесь постороннего элемента – отношений Катерины к свекрови. Вмешательство свекрови постоянно препятствует нам сосредоточивать наше внимание на той внутренней борьбе, которая должна происходить в душе Катерины.
Кроме того, в пьесе Островского замечаем ошибку против первых и основных правил всякого поэтического произведения, непростительную даже начинающему автору. Эта ошибка специально называется в драме – «двойственностью интриги»: здесь мы видим не одну любовь, а две – любовь Катерины к Борису и любовь Варвары к Кудряшу {7} . Это хорошо только в легких французских водевилях, а не в серьезной драме, где внимание зрителей никак не должно быть развлекаемо по сторонам.
Завязка и развязка также грешат против требований искусства. Завязка заключается в простом случае – в отъезде мужа; развязка также совершенно случайна и произвольна: эта гроза, испугавшая Катерину и заставившая ее все рассказать мужу, есть не что иное, как deus ex machina , не хуже водевильного дядюшки из Америки.
Все действие идет вяло и медленно, потому что загромождено сценами и лицами, совершенно ненужными. Кудряш и Шапкин, Кулигин, Феклуша, барыня с двумя лакеями, сам Дикой – все это лица, существенно не связанные с основою пьесы. На сцену беспрестанно входят ненужные лица, говорят вещи, не идущие к делу, и уходят, опять неизвестно зачем и куда. Все декламации Кулигина, все выходки Кудряша и Дикого, не говоря уже о полусумасшедшей барыне и о разговорах городских жителей во время грозы, – могли бы быть выпущены без всякого ущерба для сущности дела.
Строго определенных и отделанных характеров в этой толпе ненужных лиц мы почти не находим, а о постепенности в их обнаружении нечего и спрашивать. Они являются нам прямо ex abrupto , с ярлычками. Занавес открывается: Кудряш с Кулигиным говорят о том, какой ругатель Дикой, вслед за тем является и Дикой и еще за кулисами ругается… Тоже и Кабанова. Так же точно и Кудряш с первого слова дает знать себя, что он «лих на девок»; и Кулигин при самом появлении рекомендуется как самоучка-механик, восхищающийся природою. Да так с этим они и остаются до самого конца: Дикой ругается, Кабанова ворчит, Кудряш гуляет ночью с Варварой… А полного всестороннего развития их характеров мы не видим во всей пьесе. Сама героиня изображается весьма неудачно: как видно, сам автор не совсем определенно понимал этот характер, потому что, не выставляя Катерину лицемеркою, заставляет ее, однако же, произносить чувствительные монологи, а на деле показывает ее нам как женщину бесстыжую, увлекаемую одною чувственностью. О герое нечего и говорить, – так он бесцветен. Сами Дикой и Кабанова, характеры наиболее в genre"e г. Островского, представляют (по счастливому заключению г. Ахшарумова или кого-то другого в этом роде) {8} намеренную утрировку, близкую к пасквилю, и дают нам не живые лица, а «квинтэссенцию уродств» русской жизни.
Наконец и язык, каким говорят действующие лица, превосходит всякое терпение благовоспитанного человека. Конечно, купцы и мещане не могут говорить изящным литературным языком; но ведь нельзя же согласиться и на то, что драматический автор, ради верности, может вносить в литературу все площадные выражения, которыми так богат русский народ. Язык драматических персонажей, кто бы они ни были, может быть прост, но всегда благороден и не должен оскорблять образованного вкуса. А в «Грозе» послушайте, как говорят все лица: «Пронзительный мужик! что ты с рылом-то лезешь! Всю нутренную разжигает! Женщины себе тела никак нагулять не могут»! Что это за фразы, что за слова? Поневоле повторишь с Лермонтовым:
С кого они портреты пишут?
Где разговоры эти слышут?
А если и случалось им,
Так мы их слушать не хотим {9} .
Может быть, «в городе Калинове, на берегу Волги», и есть люди, которые говорят таким образом, но что же нам-то за дело до этого? Читатель понимает, что мы не употребляли особенных стараний, чтобы сделать убедительною эту критику; оттого в ней легко приметить в иных местах живые нитки, которыми она сшита. Но уверяем, что ее можно сделать чрезвычайно убедительною и победоносною, можно ею уничтожить автора, раз ставши на точку зрения школьных учебников. И если читатель согласится дать нам право приступить к пьесе с заранее приготовленными требованиями относительно того, что и как в ней должно быть, – больше нам ничего не нужно: все, что несогласно с принятыми у нас правилами, мы сумеем уничтожить. Выписки из комедии явятся весьма добросовестно для подтверждения наших суждений; цитаты из разных ученых книг, начиная с Аристотеля и кончая Фишером {10} , составляющим, как известно, последний, окончательный момент эстетической теории, докажут вам солидность нашего образования; легкость изложения и остроумие помогут нам увлечь ваше внимание, и вы, сами не замечая, придете к полному согласию с нами. Только пусть ни на минуту не заходит в вашу голову сомнение в нашем полном праве предписывать автору обязанности и затем судить его, верен ли он этим обязанностям или провинился перед ними…
Но вот в этом-то и горе, что от подобного сомнения не убережется теперь ни один читатель. Презренная толпа, прежде благоговейно, разинув рот, внимавшая нашим вещаниям, теперь представляет плачевное и опасное для нашего авторитета зрелище массы, вооруженной, по прекрасному выражению г. Тургенева, «обоюдоострым мечом анализа» {11} . Всякий говорит, читая нашу громоносную критику: «Вы предлагаете нам свою «бурю», уверяя, что в «Грозе» то, что есть, – лишнее, а чего нужно, того недостает. Но ведь автору «Грозы», вероятно, кажется совсем противное; позвольте нам разобрать вас. Расскажите, анализируйте нам пьесу, покажите ее, как она есть, и дайте нам ваше мнение о ней на основании ее же самой, а не по каким-то устарелым соображениям, совсем не нужным и посторонним. По-вашему, того-то и того-то не должно быть; а может быть, оно в пьесе-то и хорошо приходится, так тогда почему ж не должно?» Так осмеливается резонировать теперь всякий читатель, и этому обидному обстоятельству надо приписать то, что, например, великолепные критические упражнения Н. Ф. Павлова по поводу «Грозы» потерпели такое решительное фиаско. В самом деле, на критика «Грозы» в «Нашем времени» поднялись все – и литераторы и публика, и, конечно, не за то, что он вздумал показать недостаток уважения к Островскому, а за то, что в своей критике он выразил неуважение к здравому смыслу и доброй воле русской публики. Давно уже все видят, что Островский во многом удалился от старой сценической рутины, что в самом замысле каждой из его пьес есть условия, необходимо увлекающие его за пределы известной теории, на которую указали мы выше. Критик, которому эти уклонения не нравятся, должен был начать с того, чтоб их отметить, охарактеризовать, обобщить и затем прямо и откровенно поставить вопрос между ними и старой теорией. Это была обязанность критика не только перед разбираемым автором, но еще больше перед публикой, которая так постоянно одобряет Островского, со всеми его вольностями и уклонениями, и с каждой новой пьесой все больше к нему привязывается. Если критик находит, что публика заблуждается в своей симпатии к автору, который оказывается преступником против его теории, то он должен был начать с защиты этой теории и с серьезных доказательств того, что уклонения от нее – не могут быть хороши. Тогда он, может быть, и успел бы убедить некоторых и даже многих, так как у Н. Ф. Павлова нельзя отнять того, что он владеет фразою довольно ловко. А теперь – что он сделал? Он не обратил ни малейшего внимания на тот факт, что старые законы искусства, продолжая существовать в учебниках и преподаваться с гимназических и университетских кафедр давно уж, однако, потеряли святыню неприкосновенности в литературе и в публике. Он отважно принялся разбивать Островского по пунктам своей теории, насильно, заставляя читателя считать ее неприкосновенною. Он счел удобным только поиронизировать насчет господина, который, будучи «ближним и братом» г. Павлова по месту в первом ряду кресел и по «свежим» перчаткам, – осмелился, однако, восхищаться пьесою, которая была так противна Н. Ф. Павлову. Такое пренебрежительное обращение с публикою, да и с самым вопросом, за решение которого критик взялся, естественно должно было возбудить большинство читателей скорее против него, нежели в его пользу. Читатели дали заметить критику, что он с своей теорией вертится, как белка в колесе, и потребовали, чтоб он вышел из колеса на прямую дорогу. Округленная фраза и ловкий силлогизм показались им недостаточными; они потребовали серьезных подтверждений для самых посылок, из которых г. Павлов делал свои заключения и которые выдавал как аксиомы. Он говорил: это дурно, потому что много лиц в пьесе, не содействующих прямому развитию хода действия. А ему упорно возражали: да почему же в пьесе не может быть лиц, не участвующих прямо в развитии драмы? Критик уверял, что драма потому уже лишена значения, что ее героиня безнравственна; читатели останавливали его и задавали вопрос: с чего же вы берете, что она безнравственна? и на чем основаны ваши нравственные понятия? Критик считал пошлостью и сальностью, недостойною искусства, – и ночное свидание, и удалой свист Кудряша, и самую сцену признания Катерины перед мужем; его опять спрашивали: отчего именно находит он это пошлым и почему светские интрижки и аристократические страсти достойнее искусства, нежели мещанские увлечения? Почему свист молодого парня более пошл, нежели раздирательное пение итальянских арий каким-нибудь светским юношей? Н. Ф. Павлов, как верх своих доводов, решил свысока, что пьеса, подобная «Грозе», есть не драма, а балаганное представление. Ему и тут ответили: а почему же вы так презрительно относитесь о балагане? Еще это вопрос, точно ли всякая прилизанная драма, даже хоть бы в ней все три единства соблюдены были, лучше всякого балаганного представления. Относительно роли балагана в истории театра и в деле народного развития мы еще с вами поспорим. Последнее возражение было довольно подробно развито печатно. И где же раздалось оно? Добро бы в «Современнике», который, как известно, сам имеет при себе «Свисток», следовательно не может скандализироваться свистом Кудряша и вообще должен быть наклонен ко всякому балаганству. Нет, мысли о балагане высказаны были в «Библиотеке для чтения», известной поборнице всех прав «искусства», высказаны г. Анненковым, которого никто не упрекнет в излишней приверженности к «вульгарности» {12} . Если мы верно поняли мысль г. Анненкова (за что, конечно, никто поручиться не может), он находит, что современная драма с своей теорией дальше отклонилась от жизненной правды и красоты, нежели первоначальные балаганы, и что для возрождения театра необходимо прежде возвратиться к балагану и сызнова начинать путь драматического развития. Вот с какими мнениями столкнулся г. Павлов даже в почтенных представителях русской критики, не говоря уже о тех, которые благомыслящими людьми обвиняются в презрении к науке и в отрицании всего высокого! Понятно, что здесь уже нельзя было отделаться более или менее блестящими репликами, а надо было приступить к серьезному пересмотру оснований, на которых утверждался критик в своих приговорах. Но, как скоро вопрос перешел на эту почву, критик «Нашего времени» оказался несостоятельным и должен был замять свои критические разглагольствования.
Луч света в темном царстве
Статья посвящена драме Островского «Гроза»
В начале статьи Добролюбов пишет о том, что «Островский обладает глубоким пониманием русской жизни» . Далее он подвергает анализу статьи об Островском других критиков, пишет о том, что в них «отсутствует прямой взгляд на вещи» .
Затем Добролюбов сравнивает «Грозу» с драматическими канонами: «Предметом драмы непременно должно быть событие, где мы видим борьбу страсти и долга - с несчастными последствиями победы страсти или с счастливыми, когда побеждает долг» . Также в драме должно быть единство действия, и она должна быть написана высоким литературным языком. «Гроза» при этом «не удовлетворяет самой существенной цели драмы - внушить уважение к нравственному долгу и показать пагубные последствия увлечения страстью. Катерина, эта преступница, представляется нам в драме не только не в достаточно мрачном свете, но даже с сиянием мученичества. Она говорит так хорошо, страдает так жалобно, вокруг нее все так дурно, что вы вооружаетесь против ее притеснителей и, таким образом, в ее лице оправдываете порок. Следовательно, драма не выполняет своего высокого назначения. Все действие идет вяло и медленно, потому что загромождено сценами и лицами, совершенно ненужными. Наконец и язык, каким говорят действующие лица, превосходит всякое терпение благовоспитанного человека» .
Этот сравнение с каноном Добролюбов проводит для того, чтобы показать, что подход к произведению с готовым представлением о том, что должно в нём быть показано, не даёт истинного понимания. «Что подумать о человеке, который при виде хорошенькой женщины начинает вдруг резонировать, что у нее стан не таков, как у Венеры Милосской? Истина не в диалектических тонкостях, а в живой правде того, о чем рассуждаете. Нельзя сказать, чтоб люди были злы по природе, и потому нельзя принимать для литературных произведений принципов вроде того, что, например, порок всегда торжествует, а добродетель наказывается» .
«Литератору до сих пор предоставлена была небольшая роль в этом движении человечества к естественным началам» , - пишет Добролюбов, вслед за чем вспоминает Шекспира, который «подвинул общее сознание людей на несколько ступеней, на которые до него никто не поднимался» . Далее автор обращается к другим критическим статьям о «Грозе» , в частности, Аполлона Григорьева, который утверждает, что основная заслуга Островского - в его «народности» . «Но в чем же состоит народность, г. Григорьев не объясняет, и потому его реплика показалась нам очень забавною» .
Затем Добролюбов приходит к определению пьес Островского в целом как «пьес жизни»: «Мы хотим сказать, что у него на первом плане является всегда общая обстановка жизни. Он не карает ни злодея, ни жертву. Вы видите, что их положение господствует над ними, и вы вините их только в том, что они не выказывают достаточно энергии для того, чтобы выйти из этого положения. И вот почему мы никак не решаемся считать ненужными и лишними те лица пьес Островского, которые не участвуют прямо в интриге. С нашей точки зрения, эти лица столько же необходимы для пьесы, как и главные: они показывают нам ту обстановку, в которой совершается действие, рисуют положение, которым определяется смысл деятельности главных персонажей пьесы» .
В «Грозе» особенно видна необходимость «ненужных» лиц (второстепенных и эпизодических персонажей) . Добролюбов анализирует реплики Феклуши, Глаши, Дикого, Кудряша, Кулигина и пр. Автор анализирует внутреннее состояние героев «тёмного царства»: «все как-то неспокойно, нехорошо им. Помимо их, не спросясь их, выросла другая жизнь, с другими началами, и хотя она еще и не видна хорошенько, но уже посылает нехорошие видения темному произволу самодуров. И Кабанова очень серьезно огорчается будущностью старых порядков, с которыми она век изжила. Она предвидит конец их, старается поддержать их значение, но уже чувствует, что нет к ним прежнего почтения и что при первой возможности их бросят» .
Статья посвящена драме Островского «Гроза»
В начале статьи Добролюбов пишет о том, что «Островский обладает глубоким пониманием русской жизни». Далее он подвергает анализу статьи об Островском других критиков, пишет о том, что в них «отсутствует прямой взгляд на вещи».
Затем Добролюбов сравнивает «Грозу» с драматическими канонами: «Предметом драмы непременно должно быть событие, где мы видим борьбу страсти и долга - с несчастными последствиями победы страсти или с счастливыми, когда побеждает долг». Также в драме должно быть единство действия, и она должна быть написана высоким литературным языком. «Гроза» при этом «не удовлетворяет самой существенной цели драмы - внушить уважение к нравственному долгу и показать пагубные последствия увлечения страстью. Катерина, эта преступница, представляется нам в драме не только не в достаточно мрачном свете, но даже с сиянием мученичества. Она говорит так хорошо, страдает так жалобно, вокруг нее все так дурно, что вы вооружаетесь против ее притеснителей и, таким образом, в ее лице оправдываете порок. Следовательно, драма не выполняет своего высокого назначения. Все действие идет вяло и медленно, потому что загромождено сценами и лицами, совершенно ненужными. Наконец и язык, каким говорят действующие лица, превосходит всякое терпение благовоспитанного человека».
Этот сравнение с каноном Добролюбов проводит для того, чтобы показать, что подход к произведению с готовым представлением о том, что должно в нём быть показано, не даёт истинного понимания. «Что подумать о человеке, который при виде хорошенькой женщины начинает вдруг резонировать, что у нее стан не таков, как у Венеры Милосской? Истина не в диалектических тонкостях, а в живой правде того, о чем рассуждаете. Нельзя сказать, чтоб люди были злы по природе, и потому нельзя принимать для литературных произведений принципов вроде того, что, например, порок всегда торжествует, а добродетель наказывается».
«Литератору до сих пор предоставлена была небольшая роль в этом движении человечества к естественным началам», - пишет Добролюбов, вслед за чем вспоминает Шекспира, который «подвинул общее сознание людей на несколько ступеней, на которые до него никто не поднимался». Далее автор обращается к другим критическим статьям о «Грозе», в частности, Аполлона Григорьева, который утверждает, что основная заслуга Островского - в его «народности». «Но в чем же состоит народность, г. Григорьев не объясняет, и потому его реплика показалась нам очень забавною».
Затем Добролюбов приходит к определению пьес Островского в целом как «пьес жизни»: «Мы хотим сказать, что у него на первом плане является всегда общая обстановка жизни. Он не карает ни злодея, ни жертву. Вы видите, что их положение господствует над ними, и вы вините их только в том, что они не выказывают достаточно энергии для того, чтобы выйти из этого положения. И вот почему мы никак не решаемся считать ненужными и лишними те лица пьес Островского, которые не участвуют прямо в интриге. С нашей точки зрения, эти лица столько же необходимы для пьесы, как и главные: они показывают нам ту обстановку, в которой совершается действие, рисуют положение, которым определяется смысл деятельности главных персонажей пьесы».
В «Грозе» особенно видна необходимость «ненужных» лиц (второстепенных и эпизодических персонажей). Добролюбов анализирует реплики Феклуши, Глаши, Дикого, Кудряша, Кулигина и пр. Автор анализирует внутреннее состояние героев «тёмного царства»: «все как-то неспокойно, нехорошо им. Помимо их, не спросясь их, выросла другая жизнь, с другими началами, и хотя она еще и не видна хорошенько, но уже посылает нехорошие видения темному произволу самодуров. И Кабанова очень серьезно огорчается будущностью старых порядков, с которыми она век изжила. Она предвидит конец их, старается поддержать их значение, но уже чувствует, что нет к ним прежнего почтения и что при первой возможности их бросят».
Затем автор пишет о том, что «Гроза» есть «самое решительное произведение Островского; взаимные отношения самодурства доведены в ней до самых трагических последствий; и при всем том большая часть читавших и видевших эту пьесу соглашается, что в „Грозе“ есть даже что-то освежающее и ободряющее. Это „что-то“ и есть, по нашему мнению, фон пьесы, указанный нами и обнаруживающий шаткость и близкий конец самодурства. Затем самый характер Катерины, рисующийся на этом фоне, тоже веет на нас новою жизнью, которая открывается нам в самой ее гибели».
Далее Добролюбов анализирует образ Катерины, воспринимая его как «шаг вперёд во всей нашей литературе»: «Русская жизнь дошла до того, что почувствовалась потребность в людях более деятельных и энергичных». Образ Катерины «неуклонно верен чутью естественной правды и самоотвержен в том смысле, что ему лучше гибель, нежели жизнь при тех началах, которые ему противны. В этой цельности и гармонии характера заключается его сила. Вольный воздух и свет, вопреки всем предосторожностям погибающего самодурства, врываются в келью Катерины, она рвется к новой жизни, хотя бы пришлось умереть в этом порыве. Что ей смерть? Все равно - она не считает жизнью и то прозябание, которое выпало ей на долю в семье Кабановых».
Автор подробно разбирает мотивы поступков Катерины: «Катерина вовсе не принадлежит к буйным характерам, недовольным, любящим разрушать. Напротив, это характер по преимуществу созидающий, любящий, идеальный. Вот почему она старается всё облагородить в своем воображении. Чувство любви к человеку, потребность нежных наслаждений естественным образом открылись в молодой женщине». Но это будет не Тихон Кабанов, который «слишком забит для того, чтобы понять природу эмоций Катерины: „Не разберу я тебя, Катя, - говорит он ей, - то от тебя слова не добьешься, не то что ласки, а то так сама лезешь“. Так обыкновенно испорченные натуры судят о натуре сильной и свежей».
Добролюбов приходит к выводу, что в образе Катерины Островский воплотил великую народную идею: «в других творениях нашей литературы сильные характеры похожи на фонтанчики, зависящие от постороннего механизма. Катерина же как большая река: ровное дно, хорошее - она течет спокойно, камни большие встретились - она через них перескакивает, обрыв - льется каскадом, запружают ее - она бушует и прорывается в другом месте. Не потому бурлит она, чтобы воде вдруг захотелось пошуметь или рассердиться на препятствия, а просто потому, что это ей необходимо для выполнения её естественных требований - для дальнейшего течения».
Анализируя действия Катерины, автор пишет о том, что считает возможным побег Катерины и Бориса как наилучшее решение. Катерина готова бежать, но здесь выплывает ещё одна проблема - материальная зависимость Бориса от его дяди Дикого. «Мы сказали выше несколько слов о Тихоне; Борис - такой же, в сущности, только образованный».
В конце пьесы «нам отрадно видеть избавление Катерины - хоть через смерть, коли нельзя иначе. Жить в „темном царстве“ хуже смерти.
Текущая страница: 3 (всего у книги 6 страниц)
____________________
* Утилитарный (с лат.) – прикладной, узкопрактический.
Но, как мы уже сказали, естественные стремления человека и здравые, простые понятия о вещах бывают иногда искажены во многих. Вследствие неправильного развития часто людям представляется совершенно нормальным и естественным то, что в сущности составляет нелепейшее насилие природы. С течением времени человечество все более и более освобождается от искусственных искажений и приближается к естественным требованиям и воззрениям: мы уже не видим таинственных сил в каждом лесе и озере, в громе и молнии, в солнце и звездах; мы уже не имеем в образованных странах каст и париев*; мы не перемешиваем отношений двух полов, подобно народам Востока; мы не признаем класса рабов существенной принадлежностью государства, как было у греков и римлян; мы отрицаемся от инквизиционных** начал, господствовавших в средневековой Европе. Если все это еще и встречается ныне по местам, то не иначе, как в виде исключения; общее же положение изменилось к лучшему. Но все-таки и теперь еще люди далеко не пришли к ясному сознанию всех естественных потребностей и даже не могут согласиться в том, что для человека естественно, что нет. Общую формулу – что человеку естественно стремиться к лучшему – все принимают; но разногласия возникают из-за того, что же должно считать благом для человечества. Мы полагаем, например, что благо в труде, и потому труд считаем естественным для человека; а «Экономический указатель»[*] уверяет, что людям естественно лениться, ибо благо состоит в пользовании капиталом. Мы думаем, что воровство есть искусственная форма приобретения, к которой человек иногда вынуждается крайностью; а Крылов говорит, что это есть естественное качество иных людей и что -
____________________
* Каста (от лат. caslus – чистый) – замкнутая общественная группа, обособленная происхождением и правовым положением своих членов; пария (с инд.) – у индусов человек низшего сословия, лишенный всяких прав.
** Инквизиция (с лат.) – следственный и карательный орган католической церкви, жестоко преследовавший любое проявление свободной мысли в передовых кругах общества.
Вору дай хоть миллион,
Он воровать не перестанет[*].
А между тем Крылов знаменитый баснописец, а «Экономический указатель» издается г.Вернадским, доктором и статским советником: мнениями их пренебрегать невозможно. Что тут делать, как решить? Нам кажется, что окончательного решения тут никто не может брать на себя; всякий может считать свое мнение самым справедливым, но решение в этом случае более, нежели когда-нибудь надо предоставить публике. Это дело до нее касается, и только во имя ее можем мы утверждать наши положения. Мы говорим обществу: «нам кажется, что вы вот к чему способны, вот что чувствуете, вот чем недовольны, вот чего желаете». Дело общества сказать нам, ошибаемся мы или нет. Тем более в таком случае, как разбор комедий Островского, мы прямо можем положиться на общий суд. Мы говорим: «вот что автор изобразил; вот что означают, по нашему мнению, воспроизведенные им образы; вот их происхождение, вот смысл; мы находим, что все это имеет живое отношение к вашей жизни и нравам и объясняет вот какие потребности, которых удовлетворение необходимо для вашего блага». Скажите, кому же иначе судить о справедливости наших слов, как не тому самому обществу, о котором идет речь и к которому она обращается? Его решение должно быть одинаково важно и окончательно – и для нас и для разбираемого автора.
Автор наш принимается публикою очень хорошо; значит, одна половина вопроса решается положительным образом: публика признает, что он верно понимает и изображает ее. Остается другой вопрос: верно ли мы понимаем Островского, приписывая его произведениям известный смысл? Некоторую надежду на благоприятный ответ подает нам, во-первых, то обстоятельство, что критики, противоположные нашему воззрению, не были особенно одобряемы публикой, и, во-вторых, то, что сам автор оказывается согласным с нами, так как в "Грозе" мы находим новое подтверждение многих из наших мыслей о таланте Островского и о значении его произведений. Впрочем, еще раз, – наши статьи и самые основания, на которых мы утверждаем свои суждения, у всех пред глазами. Кто не захочет согласиться с нами, тот, читая и поверяя наши статьи по своим наблюдениям, может прийти к собственному заключению. Мы и тем будем довольны.
Теперь, объяснившись относительно оснований нашей критики, просим читателей извинить нам длинноту этих объяснений. Их бы, конечно, можно было изложить на двух-трех страницах, но тогда бы этим страницам долго не пришлось увидеть света. Длиннота происходит оттого, что часто бесконечным перифразом объясняется то, что можно бы обозначить просто одним словом; но в том-то и беда, что эти слова, весьма обыкновенные в других европейских языках, русской статье дают обыкновенно такой вид, в котором она не может явиться пред публикой. И приходится поневоле перевертываться всячески с фразой, чтобы ввести как-нибудь читателя в сущность излагаемой мысли[*].
Но обратимся же к настоящему предмету нашему – к автору "Грозы".
x x x
Читатели «Современника» помнят, может быть, что мы поставили Островского очень высоко, находя, что он очень полно и многосторонне умел изобразить существенные стороны и требования русской жизни. Не говорим о тех авторах, которые брали частные явления, временные, внешние требования общества и изображали их с большим или меньшим успехом, как, например, требование правосудия, веротерпимости, здравой администрации, уничтожения откупов, отменения крепостного права и пр. Но те писатели, которые брали более внутреннюю сторону жизни, ограничивались очень тесным кругом и подмечали такие явления, которые далеко не имели общенародного значения. Таково, например, изображение в бесчисленном множестве повестей людей, ставших по развитию выше окружающей их среды, но лишенных энергии, воли и погибающих в бездействии. Повести эти имели значение, потому что ясно выражали собою негодность среды, мешающей хорошей деятельности, и хотя смутно сознаваемое требование энергического применения на деле начал, признаваемых нами за истину в теории. Смотря по различию талантов, и повести этого рода имели больше или меньше значения; но все они заключали в себе тот недостаток, что попадали лишь в небольшую (сравнительно) часть общества и не имели почти никакого отношения к большинству. Не говоря о массе народа, даже в средних слоях нашего общества мы видим гораздо больше людей, которым еще нужно приобретение и уяснение правильных понятий, нежели таких, которые с приобретенными идеями не знают, куда деваться. Поэтому значение указанных повестей и романов остается весьма специальным и чувствуется более для кружка известного сорта, нежели для большинства. Нельзя не согласиться, что дело Островского гораздо плодотворнее: он захватил такие общие стремления и потребности, которыми проникнуто все русское общество, которых голос слышится во всех явлениях нашей жизни, которых удовлетворение составляет необходимое условие нашего дальнейшего развития. Мы не станем теперь повторять того, о чем говорили подробно в наших первых статьях; но кстати заметим здесь странное недоумение, происшедшее относительно наших статей у одного из критиков «Грозы» – г.Аполлона Григорьева. Нужно заметить, что г.А.Григорьев один из восторженных почитателей таланта Островского; но – должно быть, от избытка восторга – ему никогда не удается высказать с некоторой ясностью, за что же именно он ценит Островского. Мы читали его статьи и никак не могли добиться толку. Между тем, разбирая «Грозу», г.Григорьев посвящает нам несколько страничек и обвиняет нас в том, что мы прицепили ярлычки к лицам комедий Островского, разделили все их на два разряда: самодуров и забитых личностей, и в развитии отношений между ними, обычных в купеческом быту, заключили все дело нашего комика. Высказав это обвинение, г.Григорьев восклицает, что нет, не в этом состоит особенность и заслуга Островского, а в народности. Но в чем же состоит народность, г.Григорьев не объясняет, и потому его реплика показалась нам очень забавною. Как будто мы не признавали народности у Островского! Да мы именно с нее и начали, ею продолжали и кончили. Мы искали, как и насколько произведения Островского служат выражением народной жизни, народных стремлений: что это, как не народность? Но мы не кричали про нее с восклицательными знаками через каждые две строки, а постарались определить ее содержание, чего г.Григорьеву не заблагорассудилось ни разу сделать. А если б он это попробовал, то, может быть, пришел бы к тем же результатам, которые осуждает у нас, и не стал бы попусту обвинять нас, будто мы заслугу Островского заключаем в верном изображении семейных отношений купцов, живущих по старине. Всякий, кто читал наши статьи, мог видеть, что мы вовсе не купцов только имели в виду, указывая на основные черты отношений, господствующих в нашем быте и так хорошо воспроизведенных в комедиях Островского. Современные стремления русской жизни, в самых обширных размерах, находят свое выражение в Островском, как комике, с отрицательной стороны. Рисуя нам в яркой картине ложные отношения, со всеми их последствиями, он чрез то самое служит отголоском стремлений, требующих лучшего устройства. Произвол, с одной стороны, и недостаток сознания прав своей личности, с другой, – вот основания, на которых держится все безобразие взаимных отношений, развиваемых в большей части комедий Островского; требования права, законности, уважения к человеку – вот что слышится каждому внимательному читателю из глубины этого безобразия. Что же, разве вы станете отрицать обширное значение этих требований в русской жизни? Разве вы не сознаете, что подобный фон комедий соответствует состоянию русского общества более, нежели какого бы то ни было другого в Европе? Возьмите историю, вспомните свою жизнь, оглянитесь вокруг себя, – вы везде найдете оправдание наших слов. Не место здесь пускаться нам в исторические изыскания; довольно заметить, что наша история до новейших времен не способствовала у нас развитию чувства законности (с чем и г.Пирогов согласен; зри Положение о наказаниях в Киевском округе)[*], не создавала прочных гарантий для личности и давала обширное поле произволу. Такого рода историческое развитие, разумеется, имело следствием упадок нравственности общественной: уважение к собственному достоинству потерялось, вера в право, а следовательно, и сознание долга – ослабли, произвол попирал право, под произвол подтачивалась хитрость. Некоторые писатели, лишенные чутья нормальных потребностей и сбитые с толку искусственными комбинациями, признавая известные факты нашей жизни, хотели их узаконить, прославить как норму жизни, а не как искажение естественных стремлений, произведенное неблагоприятным историческим развитием. Так, например, произвол хотели присвоить русскому человеку как особенное, естественное качество его природы – под названием «широты натуры»; плутовство и хитрость тоже хотели узаконить в русском народе под названием сметливости и лукавства. Некоторые критики хотели даже в Островском видеть певца широких русских натур; оттого-то и поднято было однажды такое беснование из-за Любима Торцова, выше которого ничего не находили у нашего автора. Но Островский, как человек с сильным талантом и, следовательно, с чутьем истины, с инстинктивною наклонностью к естественным, здравым требованиям, не мог поддаться искушению, и произвол, даже самый широкий, всегда выходил у него, сообразно действительности, произволом тяжелым, безобразным, беззаконным, – и в сущности пьесы всегда слышался протест против него. Он умел почувствовать, что такое значит подобная широта натуры, и заклеймил, ошельмовал ее несколькими типами и названием самодурства.
Но не он сочинил эти типы, так точно как не он выдумал и слово "самодур". То и другое взял он в своей жизни. Ясно, что жизнь, давшая материалы для таких комических положений, в какие ставятся часто самодуры Островского, жизнь, давшая им и приличное название, не поглощена уже вся их влиянием, а заключает в себе задатки более разумного, законного, правильного порядка дел. И действительно, после каждой пьесы Островского каждый чувствует внутри себя это сознание и, оглядываясь кругом себя, замечает то же в других. Следя пристальнее за этой мыслью, всматриваясь в нее дольше и глубже, замечаешь, что это стремление к новому, более естественному устройству отношений заключает в себе сущность всего, что мы называем прогрессом, составляет прямую задачу нашего развития, поглощает всю работу новых поколений. Куда вы ни оглянетесь, везде вы видите пробуждение личности, представление ею своих законных прав, протест против насилия и произвола, большею частию еще робкий, неопределенный, готовый спрятаться, но все-таки уже дающий заметить свое существование. Возьмите хоть законодательную и административную сторону, которая хотя в частных своих проявлениях всегда имеет много случайного, но в общем своем характере все-таки служит указателем положения народа. Особенно этот указатель верен тогда, когда законодательные меры запечатлены характером льгот, уступок и расширения прав. Меры обременительные, стесняющие народ в его правах, могут быть вызваны, вопреки требованию народной жизни, просто действием произвола, сообразно выгодам привилегированного меньшинства, которое пользуется стеснением других; но меры, которыми уменьшаются привилегии и расширяются общие права, не могут иметь свое начало ни в чем ином, как в прямых и неотступных требованиях народной жизни, неотразимо действующих на привилегированное меньшинство, даже вопреки его личным, непосредственным выгодам. Взгляните же, что у нас делается в этом отношении: крестьяне освобождаются, и сами помещики, утверждавшие прежде, что еще рано давать свободу мужику, теперь убеждаются и сознаются, что пора развязаться с этим вопросом, что он действительно созрел в народном сознании… А что же иное лежит в основании этого вопроса, как не уменьшение произвола и не возвышение прав человеческой личности? То же самое и во всех других реформах и улучшениях. В финансовых реформах, во всех этих комиссиях и комитетах, рассуждавших о банках, о податях и пр., что видело общественное мнение, чего от них надеялось, как не определения более правильной, отчетливой системы физического управления и, следовательно, введения законности вместо всякого произвола? Что заставило предоставить некоторые права гласности, которой прежде так боялись, – что, как не сознание силы того общего протеста против бесправия и произвола, который в течение многих лет сложился в общественном мнении и наконец не мог себя сдерживать? Что сказалось в полицейских и административных преобразованиях, в заботах о правосудии, в предположении гласного судопроизводства, в уменьшении строгостей к раскольникам, в самом уничтожении откупов?.. Мы не говорим о практическом значении всех этих мер, мы только утверждаем, что самая попытка приступить к ним доказывает сильное развитие той общей идеи, на которую мы указали: хотя бы все они рушились или остались безуспешными, это бы могло показать только – недостаточность или ложность средств, принятых для их исполнения, но не могло бы свидетельствовать против потребностей, их вызвавших. Существование этих требований так ясно, что даже в литературе нашей они выразились немедленно, как только оказалась фактическая возможность их проявления. Сказались они и в комедиях Островского с полнотою и силою, какую мы встречали у немногих авторов. Но не в одной только степени силы достоинства комедий его: для нас важно и то, что он нашел сущность общих требований жизни еще в то время, когда они были скрыты и высказывались весьма немногими и весьма слабо. Первая его пьеса появилась в 1847 году; известно, что с того времени до последних годов даже лучшие наши авторы почти потеряли след естественных стремлений народных и даже стали сомневаться в их существовании, а если иногда и чувствовали их веяние, то очень слабо, неопределенно, только в каких-нибудь частных случаях и, за немногими исключениями, почти никогда не умели найти для них истинного и приличного выражения. Общее положение отразилось, разумеется, отчасти и на Островском; оно, может быть, во многом объясняет ту долю неопределенности некоторых следующих его пьес, которая подала повод к таким нападкам на него в начале пятидесятых годов. Но теперь, внимательно соображая совокупность его произведений, мы находим, что чутье истинных потребностей и стремлений русской жизни никогда не оставляло его; оно иногда и не показывалось на первый взгляд, но всегда находилось в корне его произведений. Зато – кто хотел беспристрастно доискаться коренного их смысла, тот всегда мог найти, что дело в них представляется не с поверхности, а с самого корня. Эта черта удерживает произведения Островского на их высоте и теперь, когда уже все стараются выражать те же стремления, которые мы находим в его пьесах. Чтобы не распространяться об этом, заметим одно: требование права, уважение личности, протест против насилия и произвола вы находите во множестве наших литературных произведений последних лет; но в них большею частию дело не проведено жизненным, практическим образом, почувствована отвлеченная, философская сторона вопроса, и из нее все выведено, указывается право, а оставляется без внимания реальная возможность. У Островского не то у него вы находите не только нравственную, но и житейскую, экономическую сторону вопроса, а в этом-то и сущность дела. У него вы ясно видите, как самодурство опирается на толстой мошне, которую называют "божьим благословением", и как безответность людей перед ним определяется материальною от него зависимостью. Мало того, вы видите, как эта материальная сторона во всех житейских отношениях господствует над отвлеченною и как люди, лишенные материального обеспечения, мало ценят отвлеченные права и даже теряют ясное сознание о них. В самом деле – сытый человек может рассуждать хладнокровно и умно, следует ли ему есть такое-то кушанье, но голодный рвется к пище, где ни завидит ее и какова бы она ни была. Это явление, повторяющееся во всех сферах общественной жизни, хорошо замечено и понято Островским, и его пьесы яснее всяких рассуждении показывают внимательному читателю, как система бесправия и грубого, мелочного эгоизма, водворенная самодурством, прививается и к тем самым, которые от него страдают; как они, если мало-мальски сохраняют в себе остатки энергии, стараются употребить ее на приобретение возможности жить самостоятельно и уже не разбирают при этом ни средств, ни прав. Мы слишком подробно развивали эту тему в прежних статьях наших, чтобы опять к ней возвращаться; притом же мы, припомнивши стороны таланта Островского, которые повторились в "Грозе", как и в прежних его произведениях, должны все-таки сделать коротенький обзор самой пьесы и показать, как мы ее понимаем.
По-настоящему этого бы и не нужно; но критики, до сих пор написанные на "Грозу", показывают нам, что наши замечания не будут лишни.
Уже и в прежних пьесах Островского мы замечали, что это не комедии интриг и не комедии характеров собственно, а нечто новое, чему мы дали бы название "пьес жизни", если бы это не было слишком обширно и потому не совсем определенно. Мы хотим сказать, что у него на первом плане является всегда общая, не зависящая ни от кого из действующих лиц, обстановка жизни. Он не карает ни злодея, ни жертву; оба они жалки вам, нередко оба смешны, но не на них непосредственно обращается чувство, возбуждаемое в вас пьесою. Вы видите, что их положение господствует над ними, и вы вините их только в том, что они не выказывают достаточно энергии для того, чтобы выйти из этого положения. Сами самодуры, против которых естественно должно возмущаться ваше чувство, по внимательном рассмотрении оказываются более достойны сожаления, нежели вашей злости: они и добродетельны и даже умны по-своему, в пределах, предписанных им рутиною и поддерживаемых их положением; но положение это таково, что в нем невозможно полное, здоровое человеческое развитие. Мы видели это особенно в анализе характера Русакова.
Таким образом, борьба, требуемая теориею от драмы, совершается в пьесах Островского не в монологах действующих лиц, а в фактах, господствующих над ними. Часто сами персонажи комедии не имеют ясного или вовсе никакого сознания о смысле своего положения и своей борьбы; но зато борьба весьма отчетливо и сознательно совершается в душе зрителя, который невольно возмущается против положения, порождающего такие факты. И вот почему мы никак не решаемся считать ненужными и лишними те лица пьес Островского, которые не участвуют прямо в интриге. С нашей точки зрения, эти лица столько же необходимы для пьесы, как и главные: они показывают нам ту обстановку, в которой совершается действие, рисуют положение, которым определяется смысл деятельности главных персонажей пьесы. Чтобы хорошо узнать свойства жизни растения, надо изучить его на той почве, на которой оно растет; оторвавши от почвы, вы будете иметь форму растения, но не узнаете вполне его жизни. Точно так не узнаете вы жизни общества, если вы будете рассматривать ее только в непосредственных отношениях нескольких лиц, пришедших почему-нибудь в столкновение друг с другом: тут будет только деловая, официальная сторона жизни, между тем как нам нужна будничная ее обстановка. Посторонние, недеятельные участники жизненной драмы, по-видимому, занятые только своим делом каждый, – имеют часто одним своим существованием такое влияние на ход дела, что его ничем и отразить нельзя. Сколько горячих дней, сколько обширных планов, сколько восторженных порывов рушится при одном взгляде на равнодушную, прозаическую толпу, с презрительным индифферентизмом проходящую мимо нас! Сколько чистых и добрых чувств замирает в нас из боязни, чтобы не быть осмеянным и поруганным этой толпой! А с другой стороны, и сколько преступлений, сколько порывов произвола и насилия останавливается пред решением этой толпы, всегда как будто равнодушной и податливой, но в сущности весьма неуступчивой в том, что раз ею признано. Поэтому чрезвычайно важно для нас знать, каковы понятия этой толпы о добре и зле, что у ней считается за истину и что за ложь. Этим определяется наш взгляд на положение, в каком находятся главные лица пьесы, а следовательно, и степень нашего участия к ним.
В "Грозе" особенно видна необходимость так называемых "ненужных" лиц: без них мы не можем понять лица героини и легко можем исказить смысл всей пьесы, что и случилось с большею частию критиков. Может быть, нам скажут, что все-таки автор виноват, если его так легко не понять; но мы заметим на это, что автор пишет для публики, а публика если и не сразу овладеет вполне сущностью его пьес, то и не искажает их смысла. Что же касается до того, что некоторые подробности могли быть отделаны лучше, – мы за это не стоим. Без сомнения, могильщики в "Гамлете" более кстати и ближе связаны с ходом действия, нежели, например, полусумасшедшая барыня в "Грозе"; но мы ведь не толкуем, что наш автор – Шекспир, а только то, что его посторонние лица имеют резон своего появления и оказываются даже необходимыми для полноты пьесы, рассматриваемой как она есть, а не в смысле абсолютного совершенства.
"Гроза", как вы знаете, представляет нам идиллию "темного царства", которое мало-помалу освещает нам Островский своим талантом. Люди, которых вы здесь видите, живут в благословенных местах: город стоит на берегу Волги, весь в зелени; с крутых берегов видны далекие пространства, покрытые селеньями и нивами; летний благодатный день так и манит на берег, на воздух, под открытое небо, под этот ветерок, освежительно веющий с Волги… И жители, точно, гуляют иногда по бульвару над рекой, хотя уж и пригляделись к красотам волжских видов; вечером сидят на завалинках у ворот и занимаются благочестивыми разговорами; но больше проводят время у себя дома, занимаются хозяйством, кушают, спят, – спать ложатся очень рано, так что непривычному человеку трудно и выдержать такую сонную ночь, какую они задают себе. Но что же им делать, как не спать, когда они сыты? Их жизнь течет ровно и мирно, никакие интересы мира их не тревожат, потому что не доходят до них; царства могут рушиться, новые страны открываться, лицо земли может изменяться как ему угодно, мир может начать новую жизнь на новых началах, – обитатели города Калинова будут себе существовать по-прежнему в полнейшем неведении об остальном мире. Изредка забежит к ним неопределенный слух, что Наполеон с двадесятью язык опять подымается или что антихрист народился; но и это они принимают более как курьезную штуку, вроде вести о том, что есть страны, где все люди с песьими головами; покачают головой, выразят удивление к чудесам природы и пойдут себе закусить… Смолоду еще показывают некоторую любознательность, но пищи взять ей неоткуда: сведения заходят к ним, точно в древней Руси времен Даниила Паломника[*], только от странниц, да и тех уж нынче немного настоящих-то; приходится довольствоваться такими, которые "сами, по немощи своей, далеко не ходили, а слыхать много слыхали", как Феклуша в "Грозе". От них только и узнают жители Калинова о том, что на свете делается; иначе они думали бы, что весь свет таков же, как и их Калинов, и что иначе жить, чем они, совершенно невозможно. Но и сведения, сообщаемые Феклушами, таковы, что не способны внушить большого желания променять свою жизнь на иную. Феклуша принадлежит к партии патриотической и в высшей степени консервативной; ей хорошо среди благочестивых и наивных калиновцев: ее и почитают, и угощают, и снабжают всем нужным; она пресерьезно может уверять, что самые грешки ее происходят оттого, что она выше прочих смертных: "простых людей, – говорит, – каждого один враг смущает, а к нам, странным людям, к кому шесть, к кому двенадцать приставлено, вот и надо их всех побороть". И ей верят. Ясно, что простой инстинкт самосохранения должен заставить ее не сказать хорошего слова о том, что в других землях делается. И в самом деле, прислушайтесь к разговорам купечества, мещанства, мелкого чиновничества в уездной глуши, – сколько удивительных сведений о неверных и поганых царствах, сколько рассказов о тех временах, когда людей жгли и мучили, когда разбойники города грабили, и т.п., и как мало сведений о европейской жизни, о лучшем устройстве быта! Даже в так называемом образованном обществе, в объевропеившихся людях, на множество энтузиастов, восхищавшихся новыми парижскими улицами и мабилем, разве вы не найдете почти такое же множество солидных ценителей, которые запугивают своих слушателей тем, что нигде, кроме Австрии, во всей Европе порядка нет и никакой управы найти нельзя!.. Все это и ведет к тому, что Феклуша высказывает так положительно: "бла-алепие, милая, бла-алепие, красота дивная! Да что уж и говорить, – в обетованной земле живете!" Оно, несомненно, так и выходит, как сообразить, что в других-то землях делается. Послушайте-ка Феклушу:
Говорят, такие страны есть, милая девушка, где и царей-то нет
православных, а салтаны землей правят. В одной земле сидит на
троне салтан Махнут турецкий, а в другой – салтан Махнут
персидский; и суд творят они, милая девушка, над всеми людьми, и
что ни судят они, все неправильно. И не могут они, милая девушка,
ни одного дела рассудить праведно, – такой уж им предел положен. У
нас закон праведный, а у них, милая, неправедный, что по нашему
закону так выходит, а по ихнему все напротив. И все судьи у них, в
ихних странах, тоже все неправедные, так им, милая девушка, и в
просьбах пишут: "суди меня, судья неправедный!" А то есть еще
земля, где все люди с песьими головами.
Н. А. Добролюбов. «Луч света в тёмном царстве»
Полемика Добролюбова с критиками Островского.
Пьесы Островского – «пьесы жизни».
Самодуры в «Грозе».
Добролюбов об отличительных чертах положительной личности своей эпохи (Катерина).
Другие персонажи пьесы, в той или иной степени противостоящие самодурству.
«„Гроза” есть, без сомнения, самое решительное произведение Островского».
1. В начале своей статьи Добролюбов пишет о том, что полемика вокруг «Грозы» затронула важнейшие проблемы русской предреформенной жизни и литературы, и прежде всего проблему народа и национального характера, положительного героя. Различное отношение к народу во многом и определило множество мнений о пьесе. Добролюбов приводит и резко отрицательные оценки реакционных критиков, выражавших крепостнические взгляды (например, оценки Н. Павлова), и высказывания критиков либерального лагеря (А. Пальховского), и отзывы славянофилов (А. Григорьева), рассматривавших народ как некую однородную тёмную и инертную массу, не способную выделить из своей среды сильную личность. Эти критики, говорит Добролюбов, приглушая силу протеста Катерины, рисовали её женщиной бесхарактерной, слабовольной, безнравственной. Героиня в их истолковании не обладала качествами положительной личности и не могла быть названа носительницей черт национального характера. Истинно народными объявлялись такие свойства натуры героев, как смирение, покорность, всепрощение. Касаясь изображения в «Грозе» представителей «тёмного царства», критики утверждали, что Островский имел в виду старинное купечество и что лишь к этой среде относится понятие «самодурство».
Добролюбов вскрывает прямую связь между методологией подобной критики и социально-политическими взглядами: «Они прежде говорят себе – что должно содержаться в произведении (но их понятиям, разумеется) и в какой мере всё должное действительно в нём находится (опять сообразно их понятиям)». Добролюбов указывает на крайний субъективизм этих понятий, разоблачает антинародную позицию критиков-эстетов, противопоставляет им революционное понимание народности, объективно отразившейся в произведениях Островского. В трудовом народе Добролюбов видит совокупность лучших свойств национального характера, и прежде всего ненависть к самодурству, под которым критик – революционный демократ – понимает весь самодержавно-крепостнический строй России, и способность (пусть пока лишь потенциальную) к протесту, бунту против основ «тёмного царства». Метод Добролюбова – «рассматривать произведение автора и затем, как результат этого рассмотрения, говорить, что в нём содержится и каково это содержимое».
2. «Уже и в прежних пьесах Островского, – подчёркивает Добролюбов, – мы замечаем, что это не комедии интриг и не комедии характеров собственно, а нечто новое, чему мы дали бы название «пьесы жизни». В связи с этим критик отмечает верность жизненной правде в произведениях драматурга, широкий охват действительности, умение глубоко проникать в сущность явлений, способность художника заглянуть в тайники человеческой души. Островский, по словам Добролюбова, был именно тем и велик, что «захватил такие общие стремления и потребности, которыми проникнуто всё русское общество, которых голос слышится во всех явлениях нашей жизни, которых удовлетворение составляет необходимое условие нашего дальнейшего развития». Широта художественных обобщений и определяет, по мнению критика, истинную народность творчества Островского, делает его пьесы жизненно правдивыми, выражающими народные стремления.
Указывая на драматургическое новаторство писателя, Добролюбов отмечает, что если в «комедиях интриг» главное место занимала произвольно придуманная автором интрига, развитие которой определялось прямо участвующими в ней героями, то в пьесах Островского «на первом плане является всегда общая, не зависящая ни от кого из действующих лиц, обстановка жизни». Обычно драматурги стремятся создать характеры, непреклонно и обдуманно борющиеся за свои цели; герои изображаются хозяевами своего положения, которое устанавливается «извечными» нравственными началами. У Островского же, напротив, «положение господствует» над действующими лицами; у него, как в самой жизни, «часто сами персонажи... не имеют ясного или вовсе никакого сознания о смысле своего положения и своей борьбы». «Комедии интриг» и «комедии характеров» были рассчитаны на то, чтобы зритель, не рассуждая, принимал за непреложное авторскую трактовку нравственных понятий, осуждал именно то зло, которому выносился приговор, проникался уважением только к той добродетели, которая в конце концов торжествовала. Островский же «не карает ни злодея, ни жертву...», «не на них обращается непосредственно чувство, возбуждаемое пьесою». Оно оказывается прикованным к борьбе, совершающейся «не в монологах действующих лиц, а в фактах, господствующих над ними», уродующих их. Сам зритель вовлекается в эту борьбу и в результате «невольно возмущается против положения, порождающего такие факты».
При таком воспроизведении действительности, отмечает критик, огромную роль играют персонажи, прямо не участвующие в интриге. Они, в сущности, и определяют композиционную манеру Островского. «Эти лица, – пишет Добролюбов, – столько же необходимы для пьесы, как и главные: они показывают нам ту обстановку, в которой совершается действие, рисуют положение, которым определяется смысл деятельности главных персонажей пьесы».
По мнению Добролюбова, художественная форма «Грозы» полностью соответствует её идейному содержанию. В композиционном отношении он воспринимает драму как единое целое, все элементы которого являются художественно целесообразными. «В «Грозе» – утверждает Добролюбов, – особенно видна необходимость так называемых «ненужных» лиц: без них мы не можем понять лица героини и легко можем исказить смысл всей пьесы, что и случилось с большей частью критиков».
3. Анализируя образы «хозяев жизни», критик показывает, что в прежних пьесах Островского самодуры, по натуре трусливые и бесхарактерные, чувствовали себя спокойно и уверенно, поскольку не встречали серьёзного сопротивления. На первый взгляд и в «Грозе», говорит Добролюбов, «всё, кажется, по-прежнему, всё хорошо; Дикой ругает, кого хочет.... Кабаниха держит... в страхе своих детей... считает себя вполне непогрешимой и ублажается разными Феклушами». Но это только на первый взгляд. Самодуры уже утратили прежнее спокойствие и уверенность. Они уже тревожатся за своё положение, наблюдая, слыша, чувствуя, как постепенно рушится их уклад жизни. По понятиям Кабанихи, железная дорога – дьявольское изобретение, ездить по ней – смертный грех, а вот «народ ездит всё больше и больше, не обращая внимания на её проклятья». Дикой говорит, что гроза посылается людям в «наказание», чтобы они «чувствовали», а Кулигин «не чувствует... и толкует об электричестве». Феклуша описывает разные ужасы в «неправедных землях», а в Глаше её рассказы не возбуждают негодования, наоборот, они будят её любознательность и вызывают чувство, близкое к скептицизму: «Ведь и у нас нехорошо, а про те земли мы ещё не знаем хорошенько...» И в домашних делах творится что-то неладное – молодые на каждом шагу нарушают установленные обычаи.
Однако, подчёркивает критик, русские крепостники не желали считаться с историческими требованиями жизни, не хотели ни в чём уступать. Ощущая обречённость, сознавая бессилие, страшась неизвестного будущего, «Кабановы и Дикие хлопочут теперь о том, чтобы только продолжилась вера в их силу». В связи с этим, пишет Добролюбов, в их характере и поведении выделились две резкие черты: «вечное недовольство и раздражительность», ярко выразившиеся в Диком, «постоянная подозрительность... и придирчивость», преобладающие в Кабановой.
П о мнению критика, «идиллия» городка Калинова отразила внешнее, показное могущество и внутреннюю гнилость и обречённость самодержавно-крепостнического строя России.
4. «Противоположностью всяким самодурным началам» в пьесе, отмечает Добролюбов, является Катерина. Характер героини «составляет шаг вперёд не только в драматической деятельности Островского, но и во всей нашей литературе. Он соответствует новой фазе нашей народной жизни».
По мнению критика, особенность русской жизни в её «новой фазе» состоит в том, что «почувствовалась неотлагаемая потребность в людях... деятельных и энергичных». Её уже не удовлетворяли «добродетельные и почтенные, но слабые и безличные существа». Русская жизнь нуждалась в «характерах предприимчивых, решительных, настойчивых», способных побороть многие препятствия, чинимые самодурами.
До «Грозы», указывает Добролюбов, попытки даже лучших писателей воссоздать цельный, решительный характер оканчивались «более или менее неудачно». Критик ссылается главным образом на творческий опыт Писемского и Гончарова, герои которых (Калинович в романе «Тысяча душ», Штольц в «Обломове»), крепкие «практическим смыслом», приспосабливаются к сложившимся обстоятельствам. Эти, а также другие типы с их «трескучим пафосом» или логическим понятием, утверждает Добролюбов, – претензии на сильные, цельные характеры, и они не могли служить выразителями требований новой эпохи. Неудачи происходили оттого, что писатели руководствовались отвлечёнными идеями, а не жизненной правдой; кроме того (и тут Добролюбов не склонен винить писателей), сама жизнь не давала ещё ясного ответа на вопрос: «Какими чертами должен отличаться характер, которым совершится решительный разрыв со старыми, нелепыми и насильственными отношениями жизни?»
Заслуга Островского в том, подчёркивает критик, что он сумел чутко уловить, какая «сила рвётся наружу из тайников русской жизни», смог понять, почувствовать и выразить её в образе героини драмы. Характер Катерины «сосредоточенно-решительно, неуклонно верен чутью естественной правды, исполнен веры в новые идеалы и самоотвержен в том смысле, что ему лучше гибель, нежели жизнь при тех началах, которые ему противны.
Добролюбов, прослеживая развитие характера Катерины, отмечает проявление его силы и решительности ещё в детстве. Став взрослой, она не утратила своей «детской горячности». Островский показывает свою героиню женщиной со страстной натурой и сильным характером: она доказала это своей любовью к Борису и самоубийством. В самоубийстве, в «освобождении» Катерины от гнёта самодуров Добролюбов видит не проявление трусости и малодушия, как утверждали некоторые критики, а свидетельство решительности и силы её характера: «Грустно, горько такое освобождение; но что же делать, когда другого выхода нет. Хорошо, что нашлась в бедной женщине решимость хоть на этот страшный выход. В том-то и сила её характера, оттого-то «Гроза» и производит на нас впечатление освежающее...»
Островский создаёт свою Катерину женщиной, которая «забита средой», но вместе с тем наделяет её положительными качествами сильной натуры, способной на протест против деспотизма до конца. Добролюбов отмечает это обстоятельство, утверждая, что «самый сильный протест бывает тот, который поднимается... из груди самых слабых и терпеливых». В семейных отношениях, говорил критик, женщина больше всех страдает от самодурства. Поэтому у неё более, чем у кого-либо, должно накипеть горя и негодования. Но чтобы заявить о своём недовольстве, предъявить свои требования и идти до конца в своём протесте против произвола и угнетения, она «должна быть исполнена героического самоотвержения, должна на всё решиться и ко всему быть готова». Но где же «взять ей столько характера!» – спрашивает Добролюбов и отвечает: «В невозможности выдержать то, к чему... принуждают». Тогда-то слабая женщина и решается на борьбу за свои права, инстинктивно подчиняясь только велениям своей человеческой природы, её естественным стремлениям. «Натура, – подчёркивает критик, – заменяет здесь и соображения рассудка, и требования чувства и воображения: всё это сливается в общем чувстве организма, требующего себе воздуха, пищи, свободы». В этом, по мнению Добролюбова, заключается «тайна цельности» женского энергичного характера. Именно таков характер Катерины. Его возникновение и развитие вполне соответствовало сложившимся обстоятельствам. В обстановке, изображённой Островским, самодурство дошло до таких крайностей, которые могли быть отражены только крайностями сопротивления. Здесь неминуемо и должен был родиться страстно-непримиримый протест личности «против кабановских понятий о нравственности, протест, доведённый до конца, провозглашённый и под домашней пыткой, и над бездной, в которую бросилась бедная женщина».
Добролюбов раскрывает идейное содержание образа Катерины не только в семейно-бытовом плане. Образ героини оказался настолько ёмким, идейная значимость его предстала в таких масштабах, о которых сам Островский и не думал. Соотнося «Грозу» со всей русской действительностью, критик показывает, что объективно драматург вышел далеко за рамки семейного быта. В пьесе Добролюбов увидел художественное обобщение коренных черт и особенностей крепостнического уклада дореформенной России. В образе Катерины он нашёл отражение «нового движения народной жизни», в её характере – типические черты характера трудового народа, в её протесте – реальную возможность революционного протеста социальных низов. Называя Катерину «лучом света в тёмном царстве», критик раскрывает идейный смысл народного характера героини в его широкой общественно-исторической перспективе.
5. С точки зрения Добролюбова, истинно народный по своей сущности характер Катерины является единственно верным мерилом оценки всех других персонажей пьесы, в той или иной степени противостоящих самодурной силе.
Тихона критик называет «простодушным и пошловатым, совсем не злым, но до крайности бесхарактерным существом». Тем не менее Тихоны «в общем-то смысле столь же вредны, как и сами самодуры, потому что служат их верными помощниками». Форма его протеста против самодурного гнета уродлива: стремится на время вырваться «на волю», удовлетворить свою склонность к разгулу. И хотя в финале драмы Тихон в отчаянии называет мать виновной в смерти Катерины, сам он завидует мёртвой жене. «...Но в том-то и горе его, то-то ему и тяжко, – пишет Добролюбов, – что он ничего, решительно ничего не может... это полутруп, в течение многих лет согнивающий заживо…»
Борис, доказывает критик, – тот же Тихон, только «образованный». «Образование отняло у него силу делать пакости... но оно не дало ему силы противиться пакостям, которые делают другие....» Мало того, подчиняясь «чужим гадостям, он волей-неволей участвует в них...» В этом «образованном страдальце» Добролюбов находит умение красочно говорить и в то же время трусость и бессилие, порождённые отсутствием воли, а главное – материальной зависимостью от самодуров.
По мысли критика, нельзя было надеяться на людей типа Кулигина, которые верили в мирный, просветительский путь переустройства жизни и пытались действовать на самодуров силой убеждения. Кулигины лишь логически понимали нелепость самодурства, но были бессильны в борьбе там, где «всей жизнью управляет не логика, а чистейший произвол».
В Кудряше и Варваре критик видит характеры, сильные «практическим смыслом», людей, умеющих ловко пользоваться обстоятельствами для устройства своих личных дел.
6. Добролюбов назвал «Грозу» «самым решительным произведением» Островского. Критик указывает на то обстоятельство, что в пьесе «взаимные отношения самодурства и безгласности доведены... до самых трагических последствий». Наряду с этим он находит в «Грозе» «что-то освежающее и ободряющее», имея в виду изображение жизненной обстановки, обнаруживающей «шаткость и близкий конец самодурства», и особенно личность героини, воплотившей в себе веяние жизни». Утверждая, что Катерина – «такое лицо, которое служит представителем великой народной идеи», Добролюбов выражает глубокую веру в революционную энергию народа, в его способность идти до конца в борьбе против «тёмного царства».
Литература
Озеров Ю. А. Раздумья перед сочинением. (Практические советы поступающим в вузы): Учебное пособие. – М.: Высшая школа, 1990. – С. 126–133.
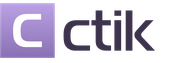










Как выйти замуж за мужчину деву Хочу замуж за мужчину деву
Как выйти замуж за мужчину со знаком зодиака дева Мужчина дева предлагает выйти замуж
Коктейль салаты с курицей
Ооо "аква продукт" Молочная рыба в духовке
Открытый урок по математике «Умножение числа нуль и на нуль