Лев Александрович Мей родился в 1822 году в небогатой дворянской семье и получил образование в том же Царскосельском лицее, где несколькими десятилетиями раньше учился А.С.Пушкин. Поэт начал печататься с середины 40-х годов в славянофильском журнале «Москвитянин». Прожив на свете сорок лет, он оставил довольно обширное литературное наследство. Влияние реакционных славянофильских идей, в плен к которым поэт попал смолоду, ограничивало кругозор Л.А.Мея и привело его в лагерь сторонников «чистого искусства». Однако в стихотворениях, написанных в последние годы жизни, рельефно проступают реалистические мотивы. По мнению исследователей творчества Л.А.Мея, его произведения не принадлежат к числу наиболее ярких явлений русской поэзии, но отличаются разнообразием и оригинальностью.
Видное место в творчестве Л.А.Мея занимают народные стихи, тесно примыкающие к историческим драмам поэта. В «Псковитянку», например, введено несколько песен. По свидетельству А.Измайлова, А.П.Чехов высказал однажды мнение о том, что народность Мея честнее и оригинальнее оперной народности А.К.Толстого. Употребляя слово «оперный» как отрицательный термин, Антон Павлович подразумевал, конечно, не высокое музыкально-сценическое искусство, а худшие образцы ходульной оперы, занимавшие в те годы ведущее место на подмостках императорских театров.
Работа Л.А.Мея над историческими драмами «Псковитянка» и «Царская невеста» протекала в конце 40-х и начале 50-х годов XIX столетия. Содержание обоих произведений относится к одному и тому же периоду русской истории - эпохе Ивана Грозного, точнее - к 1570-1572 годам. Л.А.Мей в числе первых писателей приступил к разработке сюжетов на темы этого периода русской истории. «Псковитянка» и «Царская невеста» написаны ранее трилогии А.К Толстого («Смерть Иоанна Грозного», «Царь Федор Иоаннович», «Царь Борис»), пьесы А.Н.Островского «Василиса Мелентьева», раньше произведений П.Волховского, А.Сухова, Ф.Милиуса и других, ныне забытых литераторов. В качестве фактических источников драмы поэт использовал, наряду с фундаментальным трудом Н.М.Карамзина «История государства Российского», летописи, письма князя Курбского Ивану Грозному, народные песни. Он разрабатывает откровенно вымышленную психологическую ситуацию. «Могло быть» - вот главный довод, самим же Меем и сформулированный. Ольга могла быть незаконной дочерью Ивана IV от боярыни Веры Шелоги, и именно этим обстоятельством поэт объясняет спасение Пскова от таких же, как в Новгороде, грабежей, погромов и казней. Утверждая «Царской невестой» и «Псковитянкой» новый в драматургии тех лет жанр литературного произведения, построенного на вымышленной ситуации из жизни реально существовавшего исторического деятеля, Л.А.Мей считал, что художник имеет право на такой вымысел.
«Псковитянке» как литературному произведению, предназначенному для опубликования в журнале и постановки на драматической сцене, не повезло с момента ее появления на свет. Стремясь, видимо, как-то реализовать свои симпатии к литераторам, группировавшимся вокруг «Современника», Л.А.Мей предпринял попытку напечатать свою драму в этом журнале. О том, как решалась ее судьба, рассказал в своей статье «Воспоминания об отношениях И.С.Тургенева к Добролюбову» Н. Г. Чернышевский:
«И вот, после одного из таких обедов, когда общество расположилось, как кому удобнее, на турецком диване и другой уютной мебели, Некрасов пригласил всех выслушать чтение драмы Мея «Псковитянка», которую Тургенев предлагал ему напечатать в «Современнике»; Тургенев хочет прочесть ее. Все собрались в ту часть залы, где расположился на диване Тургенев. Один я остался там, где сидел, очень далеко от дивана... Началось чтение. Прочитав первый акт, Тургенев остановился и спросил свою аудиторию, все ли разделяют его мнение, что драма Мея - высокое художественное произведение? Разумеется, по одному первому акту еще нельзя вполне оценить ее, но уже и в нем достаточно обнаруживается сильный талант и т.д. и т.д. Кто считал себя имеющим голос в решении таких вопросов, принялся хвалить первый акт и высказывать предвидение, что в целом драма окажется действительно высоким художественным произведением. Некрасов сказал, что предоставляет себе слушать, что будут говорить другие. Люди, не считавшие себя достаточно авторитетными для значительных ролей в литературном ареопаге, выражали свое сочувствие компетентной оценке скромным и кратким одобрением. Когда говор стал утихать, я сказал со своего места: «Иван Сергеевич, это скучная и совершенно бездарная вещь, печатать ее в «Современнике» не стоит». Тургенев стал защищать высказанное им раньше мнение, я разбирал его аргументы, так поговорили мы несколько минут. Он свернул и спрятал рукопись, сказав, что не будет продолжать чтение. Тем дело и кончилось».
Идеализация старины и стилизация народности в драме вступили в непримиримое противоречие с литературно-социологическими взглядами Н.Г.Чернышевского и вызвали его уничтожающий отзыв. В русской литературе изображение псковской и новгородской вольниц было традиционно связано с оппозиционной и революционной поэзией К.Рылеева, А.Одоевского, М.Лермонтова, вдохновляемой высокими идеалами декабристов. Драма Л.Мея «Псковитянка» не вливалась в этот поток. Псковская вольница и симпатии к ней реализуются здесь только в поэтическом плане, совпадая с умеренными политическими взглядами автора.
Отвергнутая революционными демократами, «Псковитянка» не встретила сочувствия и в противоположном литературном лагере. Одним из первых откликнулся на напечатанную в журнале «Отечественные записки» драму представитель дворянских кругов Болеслав Маркович. В письме к А.К.Толстому он сетовал, что в «Псковитянке» «Иоанн представлен с точки зрения демократической школы и совершенно неверно понят».
Утверждаемый драмами Л.А.Мея жанр исторического произведения, построенного на вымышленной психологической ситуации, оказался неприемлемым и для критика Аполлона Григорьева, близкого по своим воззрениям к идеологам официальной «народности». Историческая драма, по его мнению, сама по себе не имеет права на существование. Внесение в нее элементов семейного романа и вовсе дискредитирует этот жанр.
«Собственно говоря, - отмечает Аполлон Григорьев, - во всей «Псковитянке» только псковское вече, т. е. III акт-стоит серьезной критической оценки или лучше сказать критического изучения».
Нужно сказать, что сцена псковского веча действительно является самым сильным фрагментом драмы. Она полна динамики и правдиво воспроизводит сложную, насыщенную непримиримыми противоречиями картину жизни города, еще не утратившего республиканских традиций. Л.А.Мею удалось воскресить события истории как осмысленный и правдивый рассказ о жизни народа. Отдельные личности и частные явления присутствуют в нем только для объяснения глубинных процессов этой жизни.
Пестрый по составу псковский «мир» образовал два четко разграниченных лагеря. Одни покорно ждут монаршего гнева или монаршей милости. Другие призывают собрать силы и не пустить в город супостатов:
А мы-то, псковичи,
Положим также голову на плаху?
Подшепчут что - тю-тю! не прогневися!
Нет!.. Как же так?
Аль стены развалились?
Аль у ворот заржавели замки?
Не выдавай, ребята, Псков Великий!
А щит - так щит!
И вправду, что мы дремлем?
Звоните вече!
У святого Спаса!
У Троицы!
За осударя - Псков!
За пошлину мирскую и за вече!
Рубись, ребята!
С улицы, аль с дома?
Рубиться с дома!
Сельские - с сохи!
Звоните вече!
Любо!
Вече! Вече!
И вот протяжным набатом разносятся над городом звуки вечевого колокола.
Через сочные, словно подслушанные реплики действующих лиц поэт воспроизводит порядок созыва псковского веча, дает пропитанные ядреным народным юмором характеристики отдельным псковичам - людям веселым, не поддавшимся унынию даже в самый трудный момент жизни.
Сотский Дмитро Патракеевич устраивает перекличку. От Городецкого конца отзывается добродушный богатырь мясник Гоболя. Это имя, хорошо знакомое всем, вызывает из толпы целый каскад язвительных, но доброжелательных кличек:
Федос Гоболя! дедко-домоседка!
Воловий крестный! медосос-Федос!
Гоболе становится весело от таких приветствий, и он кричит так, чтобы слышали все:
Тьфу, зубоскалы! Распахнули глотки!..
Очередной Богоявленского конца оказался человеком трусоватым, любителем спрятаться в критический момент от ответственности, переложить ее на плечи других. Он не откликается на голос сотского. Но невозможно затеряться в толпе, где все знают друг друга. Сразу же выясняется, что Богоявленский конец правит Колтырь Раков, и остряки, состязаясь друг с другом, кричат:
И то ведь он...
Давай его сюда!
Куда уполз?
Хватай его за клешни,
Ракушку!..
Царский наместник Юрий Токмаков разрешает новгородскому гонцу Юшко Велебину «держать ко Пскову речь». С поникшими головами слушают псковичи упреки новгородцев:
Братья!
Молодшая, все мужи псковичи!
Вам кланялся-де Новгород Великий,
Чтоб помогли вы супротив Москвы,
А вы-де брату вашему старшому
Не дали помочь ниже никакую,
И целованье крестное забыли;
Ино на то вся ваша власть и воля,
И помоги вам Троица святая!
И брат-де ваш старшой открасовался.
И наказал вам долго жить да править
По нем поминки...
В толпе поднимается шум, раздаются возгласы:
Новгород Великий!
Родимый наш!
Ужели и взаправду
Конец ему?
Придет конец и Пскову!
И поделом: сидели, склавши руки!
А вот реакция некоторых представителей толпы на появление вольницы во главе с Михаилой Тучей:
Ну, привалили!
Вольница!
Буяны!
Тут же возглас осторожного:
Ори пошибче - знать глаза-то пропил:
Вишь, сыновья посадничьи!
И голос мгновенно струсившего:
Да что ж я?..
Я только!..
В этом коротком диалоге скупо, но точно очерчены характеры нескольких людей и сделан прозрачный намек на давно сложившуюся дифференциацию псковского общества.
Выше уже говорилось, что псковское вече было ликвидировано царским указом еще в начале 1510 года, т.е. за шестьдесят лет до событий, описанных в драме «Псковитянка». Почему же в таком случае Л.А.Мей дает сцену веча? Может быть, он запутался в хронологии, переместил даты, допустил историческую ошибку? Нет! Поэт твердо помнил обо всем этом. Речь глубокого старика, бывшего посадника Максима Илларионовича, свидетельствует о том, что Л.А.Мей всесторонне осмыслил и зрело оценил явления описываемой эпохи. Узнав о возникших на вече разногласиях, Максим Илларионович покинул свое почетное старческое уединение и поднялся на вечевое место, чтобы примирить спорщиков мудростью отцов и дедов:
...Вот мне теперь девятый уж десяток...
Видал я волю - красною девицей,
Видал ее - старухой беспомощной,
И сам отнес покойницу в могилу... .
Ну!.. Было время, и не в нашу версту,
И потягаться было бы кому
С Москвой... Да нет! умнее были деды,
Аль Псков-то был им словно подороже:
Покора будто слыхом не слыхали;
Обиды будто видом не видали;
Какие слезы к горлу подступали -
Так отгоняли к сердцу пивом-медом...
И веселились... Что ж не веселитесь
По-дедовски?..
Великий князь Василий
И колокол корсунский снять велел,
И вече рушил... Как у нас тогда
Не выпали зеницы со слезами -
И богу весть!.. А все же веселились,
А все же Псков Великий сберегли -
Любили Псков побольше внуков деды...
А я сказал...
Кто хочет мне перечить,
Тот видно молод и Москвы не знает...
Не то свое - чужое на счету:
Все выверит, да вывесит, да сметит,
Да и возьмет. - поди ты с ней - судися,
В великий день, перед судом христовым!
И то сказать: в мое-то время были
Цари в Москве, да только что царями
В Москве звались, а ноне царь московский
На все страны и на народы - царь.
Тяжка рука, да и душа - потемки
У Грозного... Проститеся со Псковом.
Хороший будет пригород московский -
И слава богу!
Устами Максима Илларионовича Л.А.Мей упрекает псковскую вольницу за забвение заветов предков, давно понявших, что в изменившихся условиях нужно подавить в себе сепаратистские чувства и поставить общерусские интересы выше местнических. Созыв псковского веча в 1571 году, накануне прихода в город Ивана Грозного, не противоречит исторической правде. Процесс присоединения Пскова к Русскому централизованному государству был длительным, продолжался более двух с половиной столетий и закончился, по существу, только в XVII веке. Юридический акт уничтожения веча в 1510 году не мог сразу ликвидировать традиций, складывавшихся веками. Привычка совместно обсуждать жизненно важные вопросы давала себя чувствовать еще долго. Наступал критический момент, и люди спешили на площадь, чтобы выслушать мнения других и свои соображения на суд сограждан вынести. Но это было уже совещательное вече, с мнением которого власти обыкновенно не считались.
Первая попытка поставить «Псковитянку» на драматической сцене окончилась провалом. В рапорте от 23 марта 1861 года цензор И.Нордстрем, изложив содержание пьесы, приходит к следующему выводу: «В настоящей драме заключаются исторически верное описание страшной эпохи царствования царя Иоанна Грозного, живое изображение псковского веча и его буйной вольницы. Подобные пьесы всегда были запрещаемы».
Драма впервые увидела свет рампы лишь через двадцать семь лет - 27 января 1888 года на сцене петербургского Александрийского театра в бенефис Пелагеи Антиповны Стрепетовой. Великая русская актриса исполняла роли боярыни Веры Шелоги в прологе и Ольги Токмаковой в пьесе. «Играла она, - вспоминает один из зрителей, - эту юную, с поэтическим лицом русскую красавицу, несмотря на свои внешние данные, превосходно. Эта большая актриса умела заставить публику видеть ее красивой на сцене».
В роли Веры Шелоги Пелагея Стрепетова оттенила наиболее близкую ее личной и сценической судьбе тему расплаты за нарушение слова. Она создала образ большой внутренней силы, но не способный воодушевить зал, привыкший искать и находить в демократическом искусстве своей любимой актрисы ответы на больные вопросы современности.
«Псковитянка» так и не смогла завоевать сколь-нибудь прочного положения в репертуаре столичных и периферийных театров. Причину этого следует искать не в гонениях цензуры (сугубо временных и случайных), а в несценичности самой пьесы. Уже отмечалось, что драма «Псковитянка» содержит целый ряд колоритных сцен, насыщена народными песнями, сказками, преданиями; образы некоторых героев полны экспрессии. Однако весь этот большой и интересный материал организован слабо. Неоправданное обилие действующих лиц (более ста), неестественно длинные монологи, откровенная театральность (в худшем смысле этого слова) многих сцен и явлений, растянутость действия и другие недостатки закрывают пьесе дорогу на драматическую сцену, для которой она предназначалась. Однако разработанный Л.А.Меем сюжет не пропал. Он привлек внимание гениального композитора Н.А.Римского-Корсакова. Условность и стилизация, которые претили публике на драматической сцене, оказались вполне уместными в таком музыкальном жанре, как опера. Музыку на слова отдельных эпизодов «Псковитянки» композиторы писали и раньше. Но только Н.А.Римский-Корсаков, создавший произведение выдающееся, смог не только воскресить, но и создать неувядающую славу «Псковитянке».
Берегов, Н. Творец "Псковитянки" / Н.Берегов. - Псковское отделение Лениздата, 1970. - 84с.
24 марта в Мемориальном музее-квартире Н. А. Римского-Корсакова (Загородный пр., 28) открылась выставка «Трагедии любви и власти»: «Псковитянка», «Царская невеста», «Сервилия». Проект, посвященный трем операм, созданным по драматическим произведениям Льва Мея, завершает серию камерных выставок, с 2011 года планомерно знакомящих широкую публику с оперным наследием Николая Андреевича Римского-Корсакова.
«Николаю Андреевичу Римскому-Корсакову Великому пъвцу Мея» — золотым тиснением написано на ленте, преподнесенной композитору. Драмы, поэзия, переводы — творчество Льва Александровича Мея притягивало Римского-Корсакова на протяжении почти всей жизни. Некоторые материалы оперы — герои, образы, музыкальные элементы — перешли в «Царскую невесту», а позже перекочевали и в «Сервилию», столь, казалось бы, далекую от драм эпохи Ивана Грозного. В центре внимания трех опер — светлые женские образы, хрупкий мир красоты и чистоты, который погибает в результате вторжения властных сил, воплощенных в своей квинтэссенции, будь то московский царь или римский консул. Три обреченные невесты Мея – Римского-Корсакова — это одна эмоциональная линия, устремленная к наивысшему выражению в образе Февронии в «Сказании о невидимом граде Китеже». Ольга, Марфа и Сервилия, любящие, жертвенные, предчувствующие гибель, были гениально воплощены на сцене корсаковским идеалом — Н. И. Забелой-Врубель, с ее неземным голосом, идеально подходящим для этих партий.
Опера «Царская невеста» знакома широкому зрителю более других опер Римского-Корсакова. В Фондах Музея театрального и музыкального искусства сохранились свидетельства множества постановок: от премьеры в Частном театре С. И. Мамонтова в 1899 году до спектаклей последней четверти XX века. Это эскизы костюмов и декораций К. М. Иванова, Е. П. Пономарева, С. В. Животовского, В. М. Зайцевой, оригинальные работы Д. В. Афанасьева — двухслойные эскизы костюмов, имитирующие рельефность ткани. Центральное место на выставке займут эскизы декораций и костюмов С. М. Юнович. В 1966 году она создала один из лучших спектаклей за всю историю сценической жизни этой оперы — пронзительный, напряженный, трагический, как жизнь и судьба самой художницы. На выставке впервые будет представлен костюм Марфы для солистки Тифлисской оперы И. М. Корсунской. По легенде этот костюм был куплен у фрейлины Императорского двора. Позже Корсунская подарила костюм Л. П. Филатовой, также принимавшей участие в спектакле С. М. Юнович.
«Псковитянка», хронологически первая опера Римского-Корсакова, не случайно будет представлена в заключительной выставке цикла. Работа над этой «оперой-летописью» была рассредоточена во времени, три редакции сочинения охватывают значительную часть творческой биографии композитора. На выставке посетители увидят эскиз декорации М. П. Зандина, сценический костюм, сборник драматических произведений Мея в издании Кушелева-Безбородко из личной библиотеки Римского-Корсакова. Сохранилась партитура оперы «Боярыня Вера Шелога», ставшая прологом к «Псковитянке», с автографом В.
В. Ястребцева — биографа композитора. В экспозиции также представлены мемориальные ленты: «Н.А Римскому-Корсакову «Псковитянка» Бенефис оркестра 28.Х.1903. Оркестр Императорской Русской Музыки»; «Н. А. Римскому-Корсакову «на память обо мнъ рабъ Иванъ» Псковитянка 28 Х 903. С.П.Б.».
Шаляпин, выстрадавший каждую интонацию партии Ивана Грозного, который разрывается между любовью к обретенной дочери и бременем власти, превратил историческую драму «Псковитянки» в подлинную трагедию.
У посетителей выставки будет уникальная возможность познакомиться с оперой Римского-Корсакова «Сервилия», представленной эскизами костюмов Е. П. Пономарева к премьерному спектаклю в Мариинском театре в 1902 году; сценическим костюмом, который впервые будет выставлен в открытой экспозиции, а также клавиром оперы с личными пометами композитора. Опера уже несколько десятилетий не появляется ни на сцене театра, ни в концертном зале. Не существует и полной записи «Сервилии». Обращение музея к забытой опере Римского-Корсакова, запланированное еще несколько лет назад, удивительным образом совпало сегодня с ожиданием выдающегося события — грядущей постановки «Сервилии» в Камерном музыкальном театре им. Б. А. Покровского. До премьеры, назначенной на 15 апреля, Геннадий Рождественский также планирует осуществить первую в истории запись «Сервилии». Так заполнится пустующее окно в величественном оперном здании Н. А. Римского-Корсакова.
1890-е годы - это эпоха высокой зрелости в творческой жизни Н. А. Римского-Корсакова. Начиная с весны 1894 года, одна опера пишется в черновике или проектируется в эскизах, другая инструментуется, третья готовится к постановке; одновременно в разных театрах возобновляются прежде поставленные произведения. Римский-Корсаков по-прежнему преподает в Петербургской консерватории, дирижирует Русскими симфоническими концертами, продолжает многочисленные редакторские труды. Но эти дела отходят на второй план, а главные силы отдаются беспрерывному творчеству.
Появление Русской частной оперы Саввы Мамонтова в Москве способствовало поддержанию рабочего ритма композитора, ставшего, после кончины П.И. Чайковского в 1893 году признанным главой русской музыкальной школы. Целый цикл опер Римского-Корсакова впервые был поставлен в этой свободной антрепризе: «Садко», «Моцарт и Сальери», «Царская невеста», «Боярыня Вера Шелога» (шедшая как пролог к «Псковитянке»), «Сказка о царе Салтане»; кроме того у Мамонтова шли «Майская ночь», «Снегурочка», корсаковские редакции «Бориса Годунова» и «Хованщины», «Каменного гостя» и «Князя Игоря». Для Саввы Мамонтова Частная опера являлась продолжением деятельности Абрамцевской усадьбы и ее мастерских: почти все художники этого объединения приняли участие в оформлении оперных спектаклей. Признавая достоинства театральных работ братьев Васнецовых, К. А. Коровина, М. А. Врубеля и других, Римский-Корсаков считал все же, что у Мамонтова живописная сторона спектаклей перевешивает музыкальную, а главное в опере - музыка.
Возможно, хор и оркестр Мариинского или Большого театров были сильнее, чем в частной антрепризе, хотя по части солистов Мамонтовская опера им вряд ли уступала. Но особенно важен новый художественный контекст, в который попадали оперы Римского-Корсакова: «Снегурочка» в декорациях и костюмах Виктора Васнецова, «Садко» Константина Коровина, «Салтан» Михаила Врубеля становились крупными событиями не только музыкального порядка: в них осуществлялся настоящий синтез искусств. Для дальнейшего творчества композитора, для развития его стиля подобные театральные впечатления были очень важны. Оперы Римского-Корсакова 1890-х годов разнообразны по формам и жанрам. По определению самого композитора, «Млада», «Ночь перед Рождеством» и «Садко» образуют трилогию; после этого наступает, говоря опять-таки словами автора, «еще раз учение или переделка». Речь идет о «выработке мелодичности, певучести», что отразилось в романсах и камерных операх этого периода («Моцарт и Сальери», окончательная редакция пролога к «Псковитянке») и особенно ярко - в «Царской невесте».
На творческом подъеме после завершения гениального «Садко» композитору хотелось не оставаться при испытанном старом, а пробовать новое. Наступала другая эпоха – fin de siecle. Как писал Римский-Корсаков: «Много вещей у нас на глазах состарилось и выцвело, а многое, казавшееся устаревшим, по-видимому, впоследствии окажется свежим и крепким и даже вечным...» Среди «вечных маяков» Римского-Корсакова - великие музыканты прошлого: Бах, Моцарт, Глинка (а также Чайковский: его «Пиковую даму» изучал Николай Андреевич в период работы над «Царской невестой»). И вечные темы - любовь и смерть. История сочинения «Царской невесты» проста и коротка: задуманная и начатая в феврале 1898 года, опера была сочинена и завершена в партитуре в течение десяти месяцев и в следующем сезоне поставлена Частной оперой. Обращение к этой драме Льва Мея было «давнишним намерением» композитора - вероятно, еще с 1860-х годов, когда сам Римский-Корсаков сочинил по другой пьесе Мея свою «Псковитянку», а над сюжетом «Царской невесты» задумывались Балакирев и Бородин (последний сделал даже несколько эскизов хоров опричников, музыка которых была потом использована в «Князе Игоре»). Сценарий новой оперы Римский-Корсаков спланировал самостоятельно, а «окончательную выработку либретто» поручил Илье Тюменеву литератору, театральному деятелю и своему бывшему ученику. (Кстати, написав несколько лет спустя «Сервилию» по пьесе Мея, Римский-Корсаков «охватил» всю драматургию этого, столь полюбившегося ему, автора.)
В основе пьесы Мея лежит типичный для романтической драмы любовный треугольник, вернее, два треугольника: Марфа - Любаша - Грязной и Марфа - Лыков - Грязной. Сюжет осложняется вмешательством роковой силы - царя Ивана Грозного, чей выбор на смотре невест падает на Марфу. И пьеса, и опера, написанная по ней, принадлежат не к типу «исторических драм», как та же «Псковитянка» или «Борис Годунов», а к типу произведений, где историческая обстановка и персонажи - только исходное условие для развития действия. Общий колорит сюжета «Царской невесты» напоминает оперы Чайковского «Опричник» и «Чародейка»; вероятно, возможность «посоревноваться» с ними имелась Римским-Корсаковым в виду, как и в его «Ночи перед Рождеством», написанной на тот же сюжет, что «Черевички» Чайковского. Не выдвигая таких сложностей, какие возникали в предыдущих операх Римского-Корсакова (большие народные сцены, картины обрядов, фантастические миры), сюжет «Царской невесты» позволял сосредоточиться на чистой музыке, чистой лирике.
Некоторыми поклонниками искусства Римского-Корсакова появление «Царской невесты» было воспринято как измена прошлому, отход от идей Могучей кучки. Критики другого направления приветствовали «опрощение» композитора, его «стремление к примирению требований новой музыкальной драмы с формами старой оперы». У публики сочинение имело очень крупный успех, перекрывавший даже триумф «Садко». Композитор отмечал: «...Многие, которые или с чужих слов, или сами по себе были почему-либо против «Царской невесты», но прослушали ее раза два или три, начали к ней привязываться...»
Ныне «Царская невеста» вряд ли воспринимается, как произведение, порывающее с героическим прошлым Новой русской школы, скорее - как сочинение, объединяющее московскую и петербургскую линии русской школы, как звено цепи от «Псковитянки» к «Китежу». И более всего в сфере мелодики - не архаической, не обрядовой, а чисто лирической, близкой современности. Еще одна существенная черта стиля этой оперы - ее глинкианство: как писал один тонкий и умный критик (Е. М. Петровский), «реально ощутимы веяния глинкинского духа, которыми проникнута вся опера».
В «Царской невесте», в отличие от предшествующих опер, композитор, любовно рисуя русский быт, не пытается передать дух эпохи. Он почти устраняется также от своих любимых звуковых пейзажей. Все сосредоточено на людях, на душевных движениях героев драмы. Главный акцент ставится на двух женских образах, выступающих на фоне красиво прописанного старого русского быта. В комментариях к драме Лев Мей называет двух героинь «Царской невесты» «песенными типами» (два типа - «кроткий» и «страстный») и приводит для их характеристики соответствующие народные тексты. Первые наброски для оперы носили характер лирической протяжной песни, причем мелодии относились сразу к обеим героиням. В партии Любаши склад протяжной песни был сохранен (ее песня без сопровождения в первом действии) и дополнен драматическими романсовыми интонациями (дуэт с Грязным, ария во втором действии). Центральный же в опере образ Марфы получил уникальное решение: по сути Марфа как «лицо с речами» появляется на сцене дважды с почти одинаковой музыкой (арии во втором и четвертом действиях). Но если в первой арии - «счастье Марфы» - ударение поставлено на светлых песенных мотивах ее характеристики, а восторженная и таинственная тема «златых венцов» только экспонируется, то во второй арии - «на исход души», предваряемой и прерываемой «фатальными аккордами» и трагическими интонациями «сна», - «тема венцов» допевается и раскрывается ее значение как темы предчувствия иной жизни. Сцена Марфы в финале оперы не только скрепляет всю драматургию произведения, но и выводит его за пределы бытовой любовной драмы к высотам подлинной трагедии. Владимир Бельский, замечательный либреттист поздних опер композитора, писал о последнем действии «Царской невесты»: «Это такое идеальное сочетание так часто дерущихся между собой красоты и психологической правды, такой глубоко поэтичный трагизм, что слушаешь как зачарованный, ничего не анализируя и не запоминая...»
В восприятии современников композитора образ Марфы Собакиной - как и Снегурочки, Волховы в «Садко», а потом Царевны Лебеди в «Сказке о царе Салтане» - нерасторжимо связывался с утонченным образом Надежды Забелы, супруги художника Михаила Врубеля. И Римский-Корсаков, обычно соблюдавший некую «дистанцию» по отношению к исполнителям своей музыки, относился к этой певице заботливо и нежно, как бы предчувствуя ее трагическую судьбу (смерть единственного сына, безумие мужа, ранняя кончина). Надежда Забела оказалась идеальной выразительницей того возвышенного и, часто, не совсем земного женского образа, который проходит через все оперное творчество Римского-Корсакова - от Ольги в «Псковитянке» до Февронии в «Китеже»: достаточно посмотреть на картины Врубеля, запечатлевшего жену в корсаковских оперных партиях, чтобы понять, о чем тут идет речь. Партия Марфы, безусловно, сочинялась с мыслью о Надежде Забеле, которая и стала ее первой исполнительницей.
Марина Рахманова
По одноименной драме Л. А. Мея
Действующие лица:
| Царь Иван Васильевич Грозный | бас | |
| Князь Юрий Иванович Токмаков, царский наместник и степенный посадник во Пскове | бас | |
| Боярин Никита Матута | тенор | |
| Князь Афанасий Вяземский | бас | |
| Бомелий, царский лекарь | бас | |
| Михаил Андреевич Туча, посадничий сын | тенор | |
| Юшко Велебин, гонец из Новгорода | бас | |
| Княжна Ольга Юрьевна Токмакова | сопрано | |
| Боярышня Степанида Матута,подруга Ольги | меццо-сопрано | |
| Власьевна | мамки | меццо-сопрано |
| Перфильевна | меццо-сопрано | |
| Голос сторожевого | тенор | |
| Тысяцкий, судья, псковские бояре, посадничьи сыновья, опричники, московские стрельцы, сенные девушки, народ. | ||
|
Место действия - в первых двух актах во Пскове, а в последнем - сначала у Печерского монастыря, потом у реки Медедни. Время - 1570 год. |
||
ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ
СЮЖЕТ
Богат и славен князь Токмаков, царский наместник во Пскове. Но тревогой объяты псковичи - должен прибыть сюда грозный царь Иван Васильевич. Встретит он Псков гневом или милостью? Есть и другая забота у Токмакова - он хочет выдать замуж дочь Ольгу за степенного боярина Матуту. Она же любит Михайло Тучу, отважного воина псковской вольницы. А пока веселятся в саду подруги Ольги. Ведут беседу мамки Власьевна и Перфильевна. Многое знает о семье Токмаковых Власьевна. Хочет выпытать у нее Перфильевна: ходит слух, будто «Ольга не княжья дочь, а выше подымай». Но не выдает свою любимицу старая мамка. В сторонке от всех держится Ольга - ждет суженого. Слышится знакомый посвист - Туча пришел на свидание. Сын бедного посадничьего, он знает, что к Ольге засылает сватов богатый Матута. Нет более Туче житья во Пскове, он хочет покинуть родные места. Ольга просит его остаться, авось удастся ей умолить отца справить их свадьбу. А вот и Токмаков - он ведет беседу с Матутой, поверяет ему семейную тайну. Спрятавшись в кустах, Ольга узнает из этой беседы, что она дочь свояченицы Токмакова, которая была замужем за боярином Шелогой. Девушка в смятении. Вдали возникает зарево костров, раздаются удары колокола: псковичей сзывают на вече. Ольга предчувствует горе: «Ах, не к добру звонят, то мое хоронят счастье!»
На торговую площадь стекаются толпы псковичей. Бурлят народные страсти - страшные вести привез гонец из Новгорода: пал великий город, с жестокой опричниной идет царь Иван Васильевич на Псков. Токмаков пытается успокоить народ, призывает его смириться, встретить грозного царя хлебом-солью. Не по душе этот совет вольнолюбивому Михаиле Туче: надо бороться за независимость родного города, пока же скрыться в лесах, затем, если придется, с оружием в руках выступить против опричников. Отважная вольница уходит с ним. Народ в растерянности расходится. Решено торжественно встретить Грозного на площади перед домом Токмакова. Расставляются столы, разносится еда, брага. Но невеселые это приготовления к встрече. Еще более тоскливо на душе у Ольги. Никак не опомниться ей от подслушанных слов Токмакова; как часто ездила она на могилу к названной матери, не подозревая, что рядом лежит ее родная мать. Власьевна утешает Ольгу: быть может, Токмаков так сказал, желая отвадить от нее Матуту. Но девушка не слушает старую мамку: почему так бьется ее сердце в ожидании Грозного? Все более близится торжественное шествие, впереди его скачет на взмыленном коне царь Иван Васильевич. Токмаков принимает у себя в доме царя. Но тот недоверчив и злобен - всюду мерещится ему измена. В кубке Грозный подозревает отраву. Он заставляет прежде осушить этот кубок хозяина дома. Ольга подносит царю мед.
Смело и прямо глядит она в очи царя. Тот потрясен ее сходством с Верой Шелогой, выспрашивает у Токмакова, кто же мать девушки. Жестокую правду узнал Грозный: боярин Шелога бросил Веру и погиб в битве с немцами, а сама она душевно заболела и умерла. Потрясенный царь сменил гнев на милость: «Да престанут все убийства! Много крови. Притупим мечи о камни. Псков хранит господь!»
Густым лесом вечером отправилась Ольга с девушками в Печерский монастырь. Немного поотстав от них, на условленном месте она встречается с Тучей. Сначала девушка молит его вернуться с ней во Псков. Но нечего ему там делать, не хочет он покориться Грозному. Да и зачем Ольге возвращаться к Токмакову, когда она не дочь ему? Они хотят начать новую, вольную жизнь. Внезапно на Тучу нападают слуги Матуты. Юноша падает раненым; лишается чувств Ольга - ее на руках уносит стража Матуты, который грозится рассказать царю Ивану об измене Тучи.
Неподалеку, у реки Медедни, расположилась лагерем царская ставка. Ночью Грозный в одиночестве предается тяжким раздумьям. Рассказ Токмакова всколыхнул воспоминания о былом увлечении. Как много пережито, и сколь многое еще надо сделать, «дабы Русь оковать законом мудрым, что бронею». Раздумья прерываются известием, что царская стража схватила Матуту, пытавшегося похитить Ольгу. Царь в бешенстве не слушает наветов боярина на вольного псковича, гонит Матуту прочь. Вводят Ольгу. Сначала недоверчив Грозный, раздраженно говорит с ней. Но затем откровенное признание девушки в своей любви к Туче и ее ласковая, проникновенная беседа покорили царя. Но что за шум раздается в ставке? Туча, оправившись от раны, напал со своим отрядом на стражников, он хочет освободить Ольгу. В гневе царь приказывает перестрелять вольницу, а дерзкого юношу привести к нему. Однако Туче удается избежать плена. Издалека до Ольги доносятся прощальные слова песни любимого. Она выбегает из шатра и падает, сраженная чьей-то пулей. Ольга мертва. В отчаянии Грозный склоняется над телом дочери.
МУЗЫКА
«Псковитянка» - народная музыкальная драма. По своей драматургии и стилю она близка , который создавался примерно в те же годы. В обоих произведениях ожили события далекого прошлого. Но сказались и отличия, присущие индивидуальному творческому облику этих классиков оперной литературы: преимущественно выражал трагическое восприятие русской истории, а - при всем драматизме конфликтов - светлое, более умиротворенное. Вместе с тем в «Псковитянке» он сумел рельефно передать разнообразие жизненных явлений. Во всей своей противоречивости правдиво выписана величавая фигура Грозного. Обаятельно целомудрен облик Ольги. Свободолюбивым духом проникнута музыка, которая обрисовывает псковскую вольницу, возглавленную Тучей. Исполнены драматизма народные сцены. В опере в целом ярко выявлен характер русской песенности.
В оркестровой увертюре намечен основной конфликт оперы. Сумрачно, настороженно звучит главная тема Грозного. Ей противостоит порывистая волевая мелодия песни Тучи как образ псковской вольницы. Затем появляется широкая, как народная песня, тема Ольги. Словно в схватке темы Грозного и вольницы сцепляются в драматичном развитии, уступая место величавой главной теме правителя Руси.
Веселой игрой в горелки Ольгиных подруг открывается опера. Вслед за беседой старых мамок Власьевна поет выдержанную в духе народных сказителей «Сказку про царевну Ладу». Встреча Ольги с Тучей завершается проникновенно нежным дуэтом «Да останься, милый мой, не ходи ты в дальнюю сторону», в которой композитор использовал мелодию народной песни «Уж ты, поле». Под конец картины, после беседы Токмакова с Матутой, звучат набатные звоны, призывающие псковичей на вече. Из этих звонов, к которым присоединяются музыкальные темы царя, вырастает последующий симфонический антракт.
Вторая картина, изображающая псковское вече, - одна из лучших в опере. Как волны прибоя звучат возгласы народного хора, которые образуют музыкально-смысловой стержень картины. Рассказ гонца «Поклон и слово Нова-города, ваш брат старшой открасовался, велел долго жить» вызывает еще большую волну народного гнева. Обращение Токмакова, пытающегося умиротворить разыгравшиеся страсти, «Отцы и братья, мужи-псковичи, к вам слово», вносит успокоение. Но выступает Туча: «Позвольте, мужи-псковичи, вам правду молвить!» Его призыв снова вызывает народное волнение. Опять звучит тема стихийного порыва народа, которая увенчивается боевой песней Тучи «Осудари псковичи, собирайтесь ко двору»; в ее основе мелодия народной песни «Как под лесом, под лесочком» (эта мелодия уже звучала в увертюре). Вольница, подхватывая ее, удаляется.
Первая картина второго акта начинается печальной хоровой песней в духе народных плачей «Грозен царь идет во великий Псков». Чистый целомудренный облик Ольги впервые так полно раскрывается в ее скорбном ариозо «Ах, мама, мама, нет мне более красного веселья», которое предшествует беседе с Власьевной. Праздничный колокольный звон сопровождает въезд Грозного во Псков. Оркестровый антракт между картинами (интермеццо) дает по контрасту зарисовку поэтичного облика Ольги.
Начальная сцена второй картины, которая происходит у Токмакова, вся пронизана суровой музыкальной темой Грозного. Желчью и издевкой полна его речь. Перелом наступает с выходом Ольги. Нежно и мягко звучит ее обращение «Царь-государь, с тобой целоваться твоей рабе победной недостойно». После того хор поет величальную песнь «Из-под холмика, под зеленого, быстра реченька прокатилася». В конце картины после признания Токмакова, кто была мать Ольги, тема Грозного звучит мощно и торжественно.
Развернутый симфонический антракт, названный композитором «Лес, царская охота, гроза», открывает третий акт. Здесь даются красочные изображения русской природы, живописуются отголоски царской охоты.
Хор девушек «Ах, мати дубрава зеленая» выдержан в духе протяжных народных песен. Выразителен дуэт Ольги и Тучи «Ах, желанный мой, ах, мой миленький», в котором запечатлен характер взволнованной речи. Первая картина заканчивается драматической сценой ранения Тучи и похищения Матутой Ольги.
Величавой музыкой начинается вторая картина - Грозный наедине со своими думами. Твердая решимость слышится в его словах: «То только царство крепко, сильно и велико, где ведает народ, что у него один владыка». Центральное место занимает беседа царя с Ольгой, богатая различными оттенками настроений. Плавно-спокойной речи Ольги «Еще ребенком несмышленым я молилась за тебя» противостоят словно искаженные душевной болью слова царя «Скажи мне лучше без утайки, кем чаще - букой, аль царем Иваном тебя пугали в детстве?» Композитор предстает в этой сцене замечательным мастером психологического портрета. Все последующие события лаконично изложены в опере. Издали доносится мелодия боевой песни Тучи (на другие, чем прежде, слова) «Али негде, негде теперь наточить ни мечей, ни топоров», которую подхватывает хор вольницы. Кратко передана сцена битвы с возгласом Тучи «За Псков, за старину!» Трагическое прощание Грозного с дочерью проходит на фоне его главной музыкальной темы. Завершает оперу хоровой эпилог «Свершилось волей божьей: пал Великий Псков с гордой волею». Хор звучит эпически, величаво, в него вплетаются некоторые мелодические обороты, напоминающие музыкальную характеристику Ольги.
Практически всем операм Римского-Корсакова сопутствовало непонимание, причем непонимание действенное. Полемика вокруг «Царской невесты» развернулась еще в то время, когда Николай Андреевич не успел закончить партитуру. Из этой полемики, которую вели поначалу друзья и члены семьи композитора, а затем коллеги и критики, вырисовались несколько оценочных, классификационных штампов. Было решено: в «Царской невесте» Римский-Корсаков вернулся к «устарелым» вокальным формам, прежде всего ансамблевым; отказался от непременного новаторства, поиска «свежих», остро оригинальных средств выразительности, отойдя от традиций Новой русской школы или даже предав их. «Царская невеста» — драма (историческая либо психологическая), а потому в ней Римский-Корсаков изменяет самому себе (по сути, сюжетам и образам из области, шаблонно именуемой областью «мифа и сказки»).
Поразительна бесцеремонность, с которой даже самые близкие люди указывали мастеру на его заблуждение (неудачу). Любопытны попытки доброжелательных корреспондентов объяснить неожиданный стиль «Царской невесты», казавшийся странным после «Садко». Вот, скажем, знаменитое место из письма В. И. Бельского, либреттиста Римского-Корсакова: «Обилие ансамблей и важность выражаемых ими драматических моментов должны бы приближать „Невесту“ к операм старой формации, но тут есть одно обстоятельство, которое резко отодвигает ее от них и придает Вашим актам совершенно оригинальную физиономию. Это отсутствие общеупотребительных длинных и шумных ансамблей в заключении каждого действия». Бельский, преданный друг, литератор огромного дарования, натура истинно артистическая, наконец, лицо наиболее приближенное к Римскому-Корсакову в течение многих лет… Что означает наивная нескладность его оправдательной сентенции? Жест придворно-дружеской лояльности? Или, быть может, попытку выразить интуитивное понимание «Царской невесты» вопреки тем шаблонам, которые навязывались ей толкователями?
Римский-Корсаков сетовал: «…для меня намечена специальность: фантастическая музыка, а драматической меня обносят. Неужели мой удел рисовать только чуд водяных, земных и земноводных?» Как никто из великих музыкантов прошлого, Римский-Корсаков претерпел от предписаний и ярлыков. Считалось, что исторические драмы — профильный жанр Мусоргского (притом, что «Псковитянка» сочинялась одновременно с «Борисом Годуновым», в сущности, в одном помещении, и не исключено, что язык корсаковской оперы оказал значительное воздействие на оперу Мусоргского), драмы психологические — по части Чайковского. Вагнеровские оперные формы — самые передовые, значит, обращение к номерной структуре — ретроградство. Итак, Римский-Корсаков должен был сочинять оперы-сказки (былины и т. п.), желательно в вагнеровских формах, наполняя партитуры живописными гармоническими и оркестровыми новациями. И как раз в период, когда окончательный и оголтелый бум русского вагнерианства был готов разразиться, Николай Андреевич создал «Царскую невесту»!
Между тем Римский-Корсаков — автор наименее полемичный, наименее суетный из всех, каких только можно вообразить. Никогда он не стремился к новаторству: так, некоторые его гармонические структуры, радикализм которых до сих пор не превзойден, выведены из фундаментально понятых традиций с целью выразить особые образы, особые — запредельные — состояния. Он никогда не желал изобретать оперные формы, заключать себя в рамках того или иного типа драматургии: формы сквозные и номерные применялись им также в соответствии с задачами художественного смысла. Красота, гармония, ювелирное соответствие смыслу — и никакой полемики, никаких деклараций и новаций. Конечно, такая совершенная, прозрачная цельность менее понятна, чем все броское, однозначное, — она провоцирует полемику в большей степени, нежели самые откровенные нововведения и парадоксы.
Цельность… Так ли далеко отстоит «реалистическая» опера Римского-Корсакова от его «фантастических» произведений, «опер-сказок», «опер-былин», «опер-мистерий»? Конечно, в ней не действуют стихийные духи, бессмертные маги и райские птицы. В ней (что, собственно, и притягательно для аудитории) напряженная коллизия страстей — тех страстей, которыми и живут люди в реальной жизни и воплощения которых ищут в искусстве. Любовь, ревность, социальный план (в частности, семья и беззаконное сожительство как два полюса), общественное устройство и деспотическая власть — многому из того, что занимает нас в быту, здесь найдено место… Но все это пришло из литературного источника, из драмы Мея, которая, возможно, привлекла композитора именно значительным охватом быта (в широком смысле), иерархической выстроенностью его элементов — от самовластия, пронизывающего жизнь каждого, до образа жизни и переживаний каждого.
Музыка поднимает происходящее на иную смысловую ступень. Бельский верно заметил, что ансамбли выражают важнейшие драматические моменты, но неверно истолковал драматургическое отличие «Невесты» от опер «старой формации». Н. Н. Римская-Корсакова, жена композитора, писала: «Я не сочувст-вую возвращению к старым оперным формам… особенно в применении к такому чисто драматическому сюжету». Логика Надежды Николаевны такова: если уж писать музыкальную драму, то она (в условиях конца ХIХ века) должна в музыкальных формах повторять формы драматические, ради вящей эффективности сюжетной коллизии, продолжаемой, усиливаемой звуковыми средствами. В «Царской невесте» — полная дискретность форм. Арии не только выражают состояния персонажей — они раскрывают их символический смысл. В сценах развертывается сюжетная сторона действия, в ансамблях даны моменты фатальных соприкосновений персонажей, те «узлы судьбы», которые составляют кристаллическую решетку действия.
Да, персонажи выписаны осязаемо, остро-психологично, но их внутренняя жизнь, их развитие не прослеживаются с той непрерывной постепенностью, которая отличает собственно психологическую драму. Персонажи изменяются от «переключения» к «переключению», этапно переходят в новое качество: при соприкосновениях друг с другом либо с силами более высокого порядка. В опере есть категориальный — имперсональный ряд, который располагается над героями, как бы в верхнем регистре. Категории «ревность», «месть», «безумие», «зелье», наконец, «Грозный царь» как носитель абстрактной, непостижимой силы воплощены в формульных музыкальных идеях… Общая череда арий, сцен, номеров строго распланирована, сквозь нее темы категориального уровня проходят в собственном ритме.
По-особому воздействует совершенство оперы. Совершенство регулярного, охватывающего все мелочи порядка, который, в соединении с героями и чувствами, пришедшими из быта, из жизни, кажется мертвенным и пугающим. Персонажи обращаются вокруг категорий как в шарнирной игрушке, соскальзывают с оси на ось, двигаясь согласно, по заданным траекториям. Оси — музыкально воплощенные категории — указывают внутрь конструкции, на общую свою причину, неведомую и мрачную. «Царская невеста» — отнюдь не реалистическое произведение. Это идеальный фантом «оперы про жизнь», в сущности — такое же мистическое дейст-во, как и прочие корсаковские оперы. Это ритуал, совершаемый вокруг категории «ужаса» — не ужаса «роковых страстей» и царящей в мире жестокости, — нет, какого-то более глубокого, таинственного…
Мрачный призрак, выпущенный в мир Римским-Корсаковым, неотступно следует за русской культурой вот уже более столетия. Временами присутст-вие темного видения делается особенно ощутимым, знаковым — так, по неведомым причинам, за -последние сезон-два премьеры новых сценических версий «Царской невесты» прошли в четырех столичных театрах: в Мариинском, в московских Центре Вишневской и Новой опере; «Царская невеста» идет и в МАЛЕГОТе.

Сцены из спектакля. Театр оперы и балета им. М. Мусоргского.
Фото В. Васильева
Из всех перечисленных спектакль Малого оперного — старейший по всем параметрам. Прежде всего, в этой постановке нет никаких особенных экспериментов: добротно стилизованы костюмы ХVI века, интерьеры вполне в духе эпохи Ивана IV (художник Вячеслав Окунев). Но нельзя сказать, что сюжет оперы остался без режиссерского «прочтения». Напротив, у режиссера Станислава Гаудасинского имеется своя концепция «Царской невесты», и концепция эта проведена весьма жестко.
В спектакле — экстремальное количество Ивана Грозного. Дискуссия о том, следует ли показывать этого деспота в постановках «Невесты», ведется давно — в оперных труппах, в консерваторских классах… Даже оркестранты порою забавляются, вышучивая безмолвного персонажа с пылающим взором и бородой, который вышагивает по сцене и угрожающе жестикулирует. Ответ Гаудасинского: следует! На музыку увертюры и вступлений к картинам по-ставлены четыре, если так можно выразиться, мимико-пластические фрески, составляющие особый план спектакля. За прозрачным занавесом мы видим тирана предводительствующим оргиями, шествующим из храма, выбирающим невесту, восседающим на троне перед раболепными боярами… Конечно, со всей рельефностью показаны деспотизм, развращенность монарха и его окружения. Опричники лютуют, стучат саблями (вероятно, ради тренировки), что порою мешает слушать музыку. Размахивают кнутами, щелкают ими перед носом у девок, привлеченных для оргиастических удовольствий. Затем девки сваливаются кучей перед царем; когда же тот выбирает себе «усладу» и удаляется с нею в отдельный кабинет, опричники всей толпой набрасываются на тех, что остались. И надо сказать, в поведении остатних девок, хоть, видно, и боязно им, прочитывается какой-то мазохистский экстаз.
Та же жуть наблюдается «на площадях и улицах» спектакля. Перед сценой Марфы и Дуняши — когда опричники врываются в толпу гуляющих, мирные граждане в полной панике прячутся за кулисы, а царь, одетый в какое-то подобие монашеской рясы, зыркает так, что мороз по коже. Всего же знаменательней один эпизод… В спектакле видную роль играют шесть огромных — во всю высоту сцены — свечей, которые неустанно сияют, невзирая на то, какие безнравственные пакости вытворяют персонажи. Во второй картине свечи группируются в плотный пучок, над ним повисают маковки оловянного цвета — получается якобы церковь. Так вот, в момент площадного буйства опричнины это символическое сооружение начинает ходить ходуном — потрясаются основы духовности…
Между прочим, быть или не быть Грозному на сцене — это еще не вопрос. А вот вопрос: надо ли показывать в «Царской невесте» Юродивого? И вновь ответ Гаудасинского — утвердительный. В самом деле, среди гуляющих бродит Юродивый, эта неприкаянная народная совесть, просит копеечку, звенит погремушкой (опять-таки мешая слушать музыку), и кажется, вот-вот, поперек оркестра, запоет: «Месяц светит, котенок плачет…».
Да, чрезвычайно концептуальный спектакль. Концепция проникает и в мизансцены: так, грубость нравов, изобличаемая в постановке, отражается на поведении Бомелия, который, приставая к Любаше, тягает ее почем зря. В финале Любаша врывается на сцену с кнутом, вероятно желая испытать на сопернице орудие, многократно примененное к ней самой Грязным. Главное же — «Царская невеста» трактована как драма историко-политическая. Такой подход не лишен логики, но чреват вынужденными конъектурами, аллюзиями на оперы, реально имеющие политический подтекст: «Борис Годунов» и чуть ли не «Иван Грозный» Слонимского. Помните, как у Булгакова в «Багровом острове»: в прохудившийся задник из «Марии Стюарт» вклеивают кусок, взятый из декорации «Ивана Грозного»…
Центр Вишневской, несмотря на свою обширную деятельность, весьма миниатюрен. Небольшой уютный зал в стиле лужковского барокко. И «Царская невеста», поставленная там Иваном Поповски, по монументальности не может сравниться ни с «фреской» Гаудасинского, ни тем более с мариинским спектаклем. Впрочем, Поповски и не стремился ни к какому размаху. Камерность его работы определяется уже тем, что спектакль, в сущности, — конспект «Царской невесты»: из оперы изъяты все хоровые эпизоды. Да иначе и быть не могло: Центр Вишневской — обучающая организация, готовят там солистов, и опера исполняется ради того, чтобы дарования, обнаруженные Галиной Павловной в различных уголках России, могли попрактиковаться, показать себя. Отчасти этим объясняется некоторый «студенческий налет», ощутимый в спектакле.
Поповски некоторое время назад произвел сильное впечатление, показав композицию «PS. Грезы» по песням Шуберта и Шумана. Композиция была лаконична и насквозь условна. Лаконичности и условности поэтому можно было ожидать и от постановки «Царской невесты» — но ожидания сбылись не вполне. Вместо задника — светящаяся плоскость излюбленного Поповски (судя по «Грезам») холодного сине-зеленого оттенка. Декорации минималистичны: конструкция, напоминающая крыльцо боярских палат или приказных зданий не столько даже XVI, сколько XVII века. Подобное крыльцо часто можно встретить во внутренних дворах построек «нарышкинского» стиля. Логично: есть и вход — арка, сквозь которую проникаешь в «черные», служебные помещения первого этажа. Есть и ступени, по которым можно взойти в горницы. Наконец, с такого крыльца государственные люди оглашали приказы, а местные сюзерены — свою боярскую волю. Крыльцо изготовлено из пластика, многообразно изгибается, изображая то обиталище Грязного, то конуру Бомелия заодно с домом Собакиных… — по ходу действия. Персонажи, прежде чем принять участие в действии, всходят по ступеням, затем спускаются — и уже затем начинают отвешивать поклоны и проделывать прочие приветственные процедуры. Кроме этой конструкции, имеется еще кое-какая пластиковая мебель, досадно убогая.
В целом Поповски склоняется к условности и даже ритуализации, спектакль состоит из немногих повторяющихся действий. Ансамбли исполняются подчеркнуто филармонично: ансамблисты выходят на авансцену, застывают в концертных позах, в моменты воодушевления они воздевают руки и обращают очи горе. Когда персонаж восходит на некоторую нравственную высоту, он, натурально, поднимается на площадку крыльца. Там же оказывается персонаж, когда он является вестником судьбы. Если персонаж получает преобладание над другим персонажем — совершает над ним некий волевой акт, как Грязной над Лыковым в третьей картине или Любаша над Грязным в финале, — то сторона страдательная оказывается внизу, сторона же наступательная нависает, принимая патетические позы, выпучив либо закатив глаза. Вопрос о присутствии царя решен компромиссно: изредка по ступеням проходит туманная, темно-серая фигура, которая может быть царем, а может и не быть (тогда эта фигура — рок, судьба, фатум…).
Словом, спектакль потенциально мог бы выражать отстраненность, «алгебраичность» действия, заложенную в «Царской невесте». Мог бы всерьез тронуть — как повесть о «судьбе», рассказанная языком автомата.

Сцена из спектакля. Центр оперного пения Галины Вишневской. Фото Н. Вавилова


Но некоторые слишком характеристичные для общего замысла моменты портят впечатление: так, Грязной, изображая страстность натуры, иной раз вспрыгивает на стол и пинает табуретки. Если в шуберто-шумановской композиции Поповски добился от четырех певиц отлаженности жестов почти механической, то с вишневцами это оказалось недостижимым. А потому замысел спектакля как «арифмометра, который рассказывает про судьбу», провисает, лаконизм скатывается в «скромность» (если не сказать скудость) студенческого спектакля.
В спектакле Мариинской оперы (режиссер Юрий Александров, художник-постановшик Зиновий Марголин) — принципиальный отход от привычного «историзма». Зиновий Марголин так прямо и заявил: «Сказать, что „Царская невеста“ — русская историческая опера, будет совершеннейшей неправдой. Историческое начало абсолютно несущественно в данном сочинении…» Что ж, наверное, в наши дни не вполне однозначны чувства зрителя «Царской», наблюдающего «палаты», по которым перемещаются «шубы» и «кокошники»… Вместо палат авторы спектакля устроили на сцене нечто вроде советского парка культуры и отдыха — безнадежно замкнутое пространство, в котором есть всякие карусельно-танцплощадочные радости, но в целом неуютно, даже страшновато. По мысли Александрова, бегство из этого «парка» невозможно, и в его воздухе разлит страх «сталинского» типа.
Разумеется, опричники наряжены в костюмы-двойки — серые, напоминают не то какую-то спецслужбу, не то привилегированную братву. Грязной исполняет свой монолог, сидя за столиком с рюмкой водки в руке, а подле него суетится «обслуга». Хоры гуляющих бродят по сцене в одеждах, стилизованных — не слишком, впрочем, прямолинейно — под 1940-е годы. Но исторические приметы не вовсе изгнаны с подмостков, правда, обращаются с ними несколько издевательски. Так, скажем, Малюта Скуратов, с хищной иронией выслушивая повествование Лыкова о благах европейской цивилизации, поверх серого френча набрасывает пресловутую шубу. Сарафаны и кокошники достаются в основном скачущим девкам, которые развлекают опричнину… да и Любаша, ведущая постыдную жизнь «сахарницы», фигурирует по большей части в национальном наряде.
Всего же важней в спектакле сценическая конструкция. Два поворотных круга многообразно перемещают немногие предметы: комплект фонарей, садовую эстраду-раковину, зрительские трибуны… Трибуны эти очень типичны: кирпичная будка (в былые времена в такой будке помещался кинопроектор либо уборная), от нее ступеньками спускаются скамьи. «Раковин» — эффективное изобретение. Она то плавает по сцене, подобно белесой планете, то используется как интерьер — скажем, когда Любаша подглядывает в окошко за семейством Собакиных… Но лучшее ее применение, пожалуй, — в качестве «сцены судьбы». Некоторые важные выходы персонажей обставлены как явления с этой садовой эстрады. Не лишено эффектности и возникновение Марфы в последней картине: эстрада резко разворачивается — и мы видим Марфу на троне, в одежде царевны, окруженную какими-то службистками (белый верх, черный низ, соответствующая жестикуляция). Сад, конечно же, не лишен деревьев: черные, графичные сети ветвей опускаются, поднимаются, сходятся, — что, в соединении с великолепным светом Глеба Фильштинского, создает выразительную пространственную игру…
В целом же, невзирая на то, что «зримая пластика» постановки определяется комбинированием одних и тех же декораций, в ней более впечатляют отдельные моменты, «кунштюки», выпадающие из общего хода событий. Так, в спектакле отсутствует Иван Грозный. Но зато есть колесо обозрения. И вот, во второй картине, когда народ шарахается, завидя грозного царя (в оркестре мотив «Солнцу красному слава»), в померкшей глубине сцены это колесо, как ночное солнце, загорается тусклыми огоньками…
Казалось бы, устройство спектакля — наподобие эдакого кубика Рубика — перекликается с ритуальностью корсаковской оперы. Обращение поворотных кругов, немногие сценические объекты, мыслимые как атрибуты спектакля, — во всем этом есть отголоски «Царской невесты» как строгого построения из некоторого количества смысловых единиц. Но… Вот, скажем, декларация о невозможности ставить «Невесту» в историческом ключе. Можно не знать заявления постановшика — в самом спектакле легко просматривается попытка «внеисторического» решения. Чем она оборачивается? Да тем, что один исторический «антураж» заменяется другим. Вместо эпохи Ивана IV — произвольная смесь сталинского периода с постперестроечной современностью. Ведь, если уж на то пошло, декорации и костюмы традиционных постановок реконструктивны, но почти так же реконструктивны элементы александровско-марголинской постановки. Неважно, имитируют эти элементы 40-е или 90-е годы, — их ведь нужно стилизовать, перенести узнаваемыми в сценическую коробку… Получается, что авторы нового спектакля идут вполне накатанным путем — невзирая на смесь времен, уровень абстракции даже снижается: приметы древнерусского быта уже давно воспринимаются как нечто условное, тогда как предметный мир ХХ века еще дышит конкретикой. А может быть, «Царская невеста» требует не «внеисторического», а вневременного — абсолютно условного решения?

Или пресловутый страх, который постановщики упорно нагнетают в спектакле. Он отождествляется ими с конкретно-историческими явлениями, с историческими формами коммуникации: сталинизм и его более поздние отголоски, некоторые структуры советского общества… Чем все это по сути отличается от Ивана Грозного и опричнины? Только датами да костюмами. А, повторимся, ужас у Римского-Корсакова не бытовой, не общественный — художественный. Конечно, на материале «Царской невесты» артисту хочется говорить о своем, близком… хочется перевести леденящее обобщение на язык частностей — тех, с которыми живешь, «овеществить» призрак, согреть его чем-то личным — хотя бы своими страхами…
Как всегда в Мариинке, в яме происходит нечто принципиально иное, нежели на сцене. Спектакль проблемен, дискуссионен — оркестровая игра совершенна, адекватна партитуре. По сути, постановка дискутирует с трактовкой Гергиева, поскольку его исполнение на данный момент — едва ли не самый точный слепок корсаковского замысла. Все прослушано, все живет — ни одна деталь не механистична, каждая фраза, каждое построение наполнены собст-венным дыханием, сублимированной красотой. Но и цельность близка к абсолюту — найден мерный «корсаковский» ритм, в котором проявляются и странные, невещественные оркестровые звучности, и бесконечные тонкости гармонии… Ритм поразителен, при торжественности он — совершенно невычурный: насколько Гергиев избегает внешне-эмоциональной накрутки, всяческих рывков и завихрений, настолько же он не педалирует пафос статики. Все свершается с той естественностью, при которой музыка живет собственной — свободной, неподневольной жизнью. Что ж, порою кажется, что в Мариинский театр мы ходим отчасти для того, чтобы созерцать бездну, разверзшуюся ныне между музыкой и оперной режиссурой.
Наконец, спектакль Новой оперы (режиссер-постановщик Юрий Грымов). Вот сидите вы в зале, ожидаете звуков увертюры. И вместо них раздается бой колокола. Выходят люди в белом (хористы), со свечами в руках и шеренгой располагаются вдоль левой стороны сцены. Слева же — помост, несколько выдвинутый в зал. Хористы поют «Царю царствующих». Персонажи оперы, один за другим, являются на край помоста, предварительно выдернув из рук какого-нибудь хориста свечку, падают на колени, крестятся, уходят. И затем сразу же — ария Грязного. Опричники представлены не то скинхедами, не то уголовщиной — с неприятными рожами, бритыми башками (впрочем, бритоголовость их не натуральная, она изображается плотно пригнанными к черепушкам головными уборами отталкивающей «кожаной» расцветки). На опричниках (как и на всех мужских персонажах, кроме Бомелия) — подобие исторического наряда, учрежденного Иваном Грозным для своих кромешников: гибрид подрясника с кунтушем, перехваченный по поясу красной тряпкой.
В постановке Грымова опричники не лютуют, они колбасятся — ведут себя именно так, как скины или зенитовцы, изрядно набравшиеся пива. Придя к Грязному, они получают угощение не только медом, но и девками, которых тут же и заваливают (довольно натуралистично), образуя живописный фон для первой сцены с Любашей. Собакин, воспевающий дальнее зарубежье, натурально подвергается нравственным и физическим унижениям. Сцена с Бомелием…
Но Бомелия следует коснуться особо, ибо, по мнению Грымова, в опере «Царская невеста» этот персонаж — главный. Во всяком случае, ключевой. Посреди сцены воздвигнуто нечто, сооруженное из неопрятных планок, недооформленное и в нескольких местах пробитое, хотя и тяготеющее к геометризму… словом, остов чего-то. Чего — предложено гадать зрителю. Но постановщик, естественно, имеет собственное мнение по поводу смысла конструкции: согласно этому мнению, она символизирует вечно недостроенную Россию. Больше никаких декораций нет. Действующие лица появляются, как правило, сверху, по мостку, перекинутому к верхней части конструкции, по винтовой лестнице спускаются к рампе.
Окружение Бомелия — крайне неприятные уроды, частью на костылях, частью на собственных ногах. Они одеты в мешковину, покрытую зеленоватыми пятнами, изображающими гниль. Или тление, быть может.
Уроды появляются на сцене сперва отдельно от своего патрона. Едва заканчивается первая картина (Любаша клянется истребить соперницу), как, к изумлению слушателей, раздаются звуки увертюры. На увертюру поставлен хореографический эпизод, который можно условно озаглавить «Русский народ и темные силы». Поначалу гнусная свита Бомелия энергично совершает гнусные телодвижения. Затем выбегают русские девки и русские парни, последние ведут себя с девками куда толерантнее, чем опричники: заглядываются, смущаются… потом все разбиваются на пары и происходит пляс. Словом, идиллия из кинофильма колхозной тематики. Но длится она недолго: вваливаются опричники, а затем и уроды, превращая происходящее в бедлам.
Эпизод гуляния упразднен. После того как Лыков с семейством Собакиных удаляются (Собакины обитают где-то наверху, показываются смятенной Любаше, выходя на мостик под самым потолком сцены), мы узнаем, что Бомелий живет внутри «недостроенной России». Безнадежный долгострой также служит местом постоянного жительства уродов. Они там всячески клубятся и ползают. Выползают, липнут к Любаше. Когда же она сдается, не Бомелий утаскивает ее внутрь сооружения — уроды, окончательно облепив мстительницу, увлекают ее в недра своей отвратительной массы. В сцене свадебного сговора Лыков почему-то одет в ночную рубашку, валяется на полатях, откуда его с отеческой заботливостью спускает старик Собакин. Когда Грязной подмешивает зелье, наверху конструкции возникает Бомелий. В четвертой картине он же вручает Григорию нож, которым будет зарезана Любаша. Наконец, уроды с жадностью набрасываются на труп Любаши и еще живую, но безумную Марфу, утаскивают их… Действие завершается.
Следует заметить, что купюры (помимо сцены гуляния, выкинут хор «Слаще меда ласковое слово», изъята примерно треть музыки последней картины и пр.) и перестановки сделаны не режиссером. Замысел перетасовки «Царской невесты» принадлежит покойному руководителю Новой оперы дирижеру А. Колобову. Что хотел сказать Колобов, устроив вместо увертюры театральную имитацию молебна? Неведомо. С замыслом же режиссера все проще: темные силы развращают, порабощают и т. п. русский народ (неясным остается только, являются ли эти силы метафизическими (Бомелий — бес, колдун), этнополитическими (Бомелий — немец) или и теми и другими вместе); сам же русский народ ведет себя тоже дико и непродуктивно (на страсти падок, ничего построить не может). Жаль, что Грымов подразумевал под своей декорацией «недостроенный храм» — что вполне кощунственно. Лучше бы он видел в изобретении собственного пластического дарования опрокинутый кубок, на который, в общем-то, декорация более всего и похожа. Тогда получилось бы относительно корректное прочтение: отрава и ее поставщик — в центре действия; а в «Царской невесте» есть музыкальное указание на сатанинскую природу зелья и тех страстей, в сплетении которых оно играет узловую роль. И музыка Бомелия также преисполнена ледяного бесовского ехидства. Увы, в реальности плакатность как режиссерской идеи, так и ее воплощения ведет к радикальному смысловому спрямлению, производит порою почти пародийный эффект — причем пародируется, по сути, опера Римского-Корсакова…
Позволю себе, оглядываясь на четыре спектакля, увиденные мною в течение полутора месяцев, -задуматься не о постановочных идеях, а о собственных чувствах. Ведь как занятно: волею судеб образовался целостный этап жизни, пройденный под звуки оперы Римского-Корсакова, из всех его творений самой близкой к быту, к чувствам насущным. «Царская невеста» на какое-то время слилась с текущим сущест-вованием, лейтмотивы Грозного царя, любви, -безумия прошли цветными нитями не сквозь оперу, а сквозь мои дни. Теперь этот этап завершился, канул в прошлое, и как-то не хочется подводить итоги деятельности артистов, параллельно работавших над одним и тем же произведением. Что с того, что каждый из них усмотрел лишь одну сторону мрачной тайны произведения Николая Андреевича? Что для всех них и опера, и скрытая в ней загадка притягательны, но восприняты несколько эгоистично — трактованы в каждом из четырех случаев подчеркнуто субъективно, произвольно? Что ни в одном из четырех случаев сценически не реализована красота, эстетическое совершенство, которое есть главное содержание любой корсаковской оперы, по отношению к которому конкретная сюжетно-музыкальная фабула, ее идея занимают подчиненное положение?
Что мне до того, раз я узнал на опыте, до какой степени «Царская невеста» может превратиться в спектакль жизни.
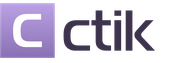










Заявление об отказе от исковых требований
Капуста с рисом в мультиварке Как потушить капусту рисом в мультиварке
Пошаговый рецепт супа с зеленым консервированным горошком Суп овощной с зеленым горошком рецепт
Оладьи с колбасой Как сделать оладьи из колбасы
Оригинальное блюдо: дорадо в соляном коконе